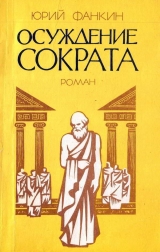
Текст книги "Осуждение Сократа"
Автор книги: Юрий Фанкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
– Быстрее! Быстрее! – кричал Этеокл, и льстивое Эхо отвечало ему согласным откликом.
Что-то хрустнуло под ногой. Этеокл остановился и увидел белый оскалившийся череп человека и под маленькой грудкой фаланг, напоминающих детские бабки, заржавленный кинжал.
– Его убил Минотавр! – подавленно прошептал Этеокл.
– Нет! – с уверенностью сказала Эвридика и высвободила руку.
– Кто же указал ему дорогу в Аид?
– Лабиринт! – Лицо девушки быстро таяло в темноте.
– Лабиринт, – задумчиво и как-то разочарованно протянул Этеокл и, боясь, что Эвридика исчезнет, схватил ее за руку. – Пойдем! Ты пропадешь одна.
Пальцы девушки теряли солнечную теплоту.
– Куда идти? – грустно спросила Эвридика.
– Идем! – сказал Этеокл и вздрогнул: вдалеке послышался нежный утробный рев. – Быстрее! Я убью Минотавра.
– Ты уже убит! – с неожиданной злостью воскликнула девушка. – Ты потерял нить! – Она решительно вырвала руку.
Он тянулся за ней, но земля под ногами становилась вязкой, тяжелой. Этеокл почувствовал, что его тело как бы опрокидывается на спину и безо всяких усилий начинает плыть вперед. Он заводил руками, словно веслами, стараясь ускорить движение, обо что-то ударился; кривясь от боли, он попытался приподняться и вдруг заметил, что перед ним все как-то посветлело – казалось, сквозь глухие стены Лабиринта чудом пробилось солнце…
Этеокл проснулся, и на этот раз по-настоящему. В углу щенок обгладывал баранью кость. Из кухни просачивался запах чесночной похлебки, а на улице раздавались голоса погонщиков и протяжное мычанье быка.
Старого подслеповатого быка гнали на площадь, чтобы совершить жертвоприношение. Отягощенный дорогой и старостью, бык не пытался вырваться или поднять на рога кого-нибудь из рабов-погонщиков; он шел враскачку, с достоинством и все косился на сползающий венок, который закрывал от него и без того не очень ясный мир, – поэтому бык обиженно мычал, потряхивал большой головой с обломанными рогами. Его красноватая шерсть, смазанная оливковым маслом, лоснилась и хранила светлые полосы скребницы.
Не обращая внимания на крики рабов и удары бича, сделанного из телячьего хвоста, царственный бык продолжал идти своим неторопливым шагом.
Возле его потных боков и шеи, натертой ярмом, вилась всякая мушиная мелочь.
4
В Нижнем городе нестройно перекликались петухи. Сократ протер глаза. Мутно-голубоватые струйки текли из маленьких окон. Он выбрался из-под теплой овчины и, поеживаясь от утреннего холодка, оделся. Боясь разбудить Ксантиппу и спящих сыновей, осторожно, на цыпочках, прошел в горницу. Рядом с рассохшейся бочкой из-под вина стоял небольшой сундук, взятый Ксантиппой из дома отца как приданое. Он поднял одной рукой запыленную крышку, а другой стал неторопливо шарить. Что-то шуршало, гремело и звякало: в этом сундуке, когда-то хранившем свадебное платье и подарки гостей, теперь лежала всякая всячина. Наконец он нашел то, что искал: веревку с железным крюком, – попробовал витье на прочность, закрыл сундук, издавший тонкий печальный звук, и вернулся опять в комнату.
Ксантиппа по-прежнему спала. Что-то трогательное было в ее лице и ногах, согнутых в коленях и подтянутых к животу.
О, как вчера она ругала его, узнав о доносе Мелета: «Несносный болтун! Учитель злосчастия! Я так и знала, что твой длинный язык обернется петлей! Ты не знаешь, почему в нашем доме нет мышей? Молчишь? Они давно уже сдохли с голоду. Кончается месяц – чем я буду платить учителю за Лампрокла? Может, дохлыми мышами? А где я возьму денег на твой штраф? О, горе! А если тебя казнят? Кто даст денег на погребальную урну и наймет плакальщиц? Мудрец! Ты смеешься над софистами, а они носят золотые сандалии и едят жареных зайцев…
Сократ, по обыкновению, не перечил жене.
Он еще раз взглянул на спящую Ксантиппу и вышел на улицу. В кронах олив плавал голубоватый ночной сумрак. С листьев падали в бархатную пыль капли росы. Старик шел мимо низкой каменной ограды вниз, к реке, наслаждаясь утренней тишиной. Кто-то тихо причитал за оградой, в саду. Сократ, помогая себе крюком, взобрался на выступ кладки и, осторожно раздвинув кусты, заметил женщину, стоящую на коленях. Ее лицо было обращено к тусклым лучам восходящего солнца.
– Я видела, как он ходил по облакам. Кимон, мой бедный мальчик, ступил сначала на маленькое облачко – оно прогнулось под ним, словно подушка, – а потом перешел на другое, побольше. Он долго ходил по облакам, а потом устал и сел. У него были такие печальные глаза. Я звала его: «Кимон, сыночек, вернись ко мне на землю!» А он молчал, будто ему отрезали язык…
Добродушно улыбнувшись, старик сполз с ограды и побрел дальше. А суеверная женщина что-то говорила еще: она спешила пересказать свой дурной сон первым лучам восходящего солнца, чтобы все угрозы-напасти обошли стороной ее сына.
Сократ подошел к колодцу, обложенному замшелым камнем, – отсюда когда-то брала воду его мать, покойная Фенарета, – заглянул в прохладную глубину. Колодец спал, и было неловко тревожить зеркальное оконце ржавым крюком, пугать серебряные звезды-водоплавки ради обыкновенного утонувшего кувшина. Старик оглянулся и присел на обломок погребальной стелы, неизвестно каким образом оказавшийся недалеко от колодца, стал неторопливо перебирать в памяти содержание вчерашнего дня, набитого, как сундук Ксантиппы, всякой всячиной, – и любопытной, хотя и малостоящей, вещицей мелькнула на дне этого сундука встреча с элидцем Симмием.
Элидец сразу же не понравился Сократу. Философа покоробило, как заезжий софист хвастался своим фессалийским заработком: «В день я давал до шести уроков мудрости. Были трехдрахмовые уроки, самые дешевые. Банкир Демоген платил мне по тридцать драхм за урок. Если бы не фессалийские разбойники, я бы и сейчас оставался в этом превосходном краю…» Насторожили философа и глаза Симмия, быстрые и цепкие, как у рыночного смотрителя. Поначалу элидец не поддерживал философские разговоры. Лишь иногда он ронял несколько слов, и вид у него был такой, словно он делился жалкими крохами своих знаний, в то время как бесценные вороха остаются нетронутыми, про запас. Оживился гость только тогда, когда речь зашла о сумасшествии.
«Сумасшествие – это болезнь рассудка!» – сказал Аполлодор.
«Да, влажное – это, конечно, мокрое! – снисходительно усмехнулся Симмий, поглядывая на свои красные сапоги с золотыми пряжками. – Я предлагаю дать сумасшедшему такое определение… Я думаю, оно бесспорно, как красота Афродиты. «Сумасшедший – это человек, который не знает того, что знает большинство».
Сократ улыбнулся. Он не торопился вступать в спор.
«Но как же быть с людьми исключительного ума? – спросил Симмия Платон. – Разве не показался странным, может быть, сумасшедшим, служанке-фракиянке философ Фалес, который, заглядевшись на звезды, упал в колодец? Обычный, заурядный человек никогда не увлечется до такой степени. Великий человек заточен односторонне, как нож. Поэтому неудивительно, что великие не знают многое из того, что известно всем!».
«Отличить великого от сумасшедшего не сложнее, чем лиру от воинской трубы!» – обронил Симмий.
«Ах, зачем тревожить великих и сумасшедших – явных глупцов? – заговорил Сократ. – И те, и другие безобидны. И тех, и других – единицы. Аполлодор сказал: «Сумасшествие – это болезнь рассудка!». Нашему гостю не понравилось это определение. Но я почему-то усмотрел в этом наивном, на первый взгляд, определении важный смысл. Если считать сумасшествие болезнью рассудка, то явление можно рассматривать более широко и государственно. Разумна ли страсть к наживе? Способны ли здравомыслящие люди на ложь, предательство, распутство, чревоугодие?».
«Что ты говоришь, Сократ? – возмутился Симмий. – Ты, кажется, готов записать в хор сумасшедших добрую половину человечества, если не больше». – Софист опять поглядел на свои красные сапоги.
«Мне кажется, – невозмутимо продолжал Сократ, – признаком больного ума является чрезмерная любовь к собственным мыслям, нежелание понять другого человека. Подобные люди, как правило, являются злыми сумасшедшими. Если им дать в руки власть, то они начинают направо и налево отрубать головы. Заставлять же что-либо делать не убеждая, – по-моему, обычнейшее беззаконие».
Сердито засопев, Симмий взял молоточек и стал колоть буковые орехи.
«Есть люди, которые считают, что мы должны родиться с уже готовыми мыслями, – заговорил Платон. – Нам не следует искать и сомневаться: воззрения на мир положены в нашу детскую корзину вместе с пеленками».
«Ты, как и я, говоришь о сумасшедших! – поддержал Сократ. – Я давно заметил, что в мыслях тупых и ограниченных людей почти не бывает противоречий».
«Самое опасное противоречие не в самих мыслях, – задумчиво произнес мрачноватый Гермоген, брат богатейшего человека в Афинах. – Оно заключено в привычке говорить одно, а думать и поступать иначе…»
«Прекрасно! – сказал Сократ и ударил в ладоши. Симмий подумал, что старый философ призывает к тишине, и неохотно отложил молоточек. – Что может быть уродливее двуликости? Закоренелые обманщики, заверяя всех в искренней любви к отечеству, разрушают наш город без огня и меча…»
Разговор продолжался, ветвился причудливо, грозя завести Истину в тупики, и каждый раз в минуту затруднений старый философ старался вложить в руки друзей светлую путеводную нить.
Симмий, немного обождав, снова принялся за орехи.
Сократ провел рукою по стеле, словно стряхивая невидимую скорлупу, усмехнулся: «Если бы Истина извлекалась, подобно ореховому ядру!» – и с какой-то щемящей радостью, присущей, наверное, только пожилым людям, ощутил, как солнце неудержимо отвоевывает у ночной тьмы простор, заполняя его лепетом трав, звоном цикад, дневными летучими запахами. Он взглянул на освещенный колодец, который теперь показался ему маленьким и доступным, поднял с травы заржавленный крюк.
Веревка была коротковата, и поэтому старику пришлось опуститься на колени. Крюк неуклюже ползал по днищу, хватал когтисто колодец за каменные бока. Вдруг крюк потяжелел, и старик вытянул за ручку кувшин из красной глины. Такого кувшина у Ксантиппы никогда не было. Не видел его Сократ и в соседних домах. Несмотря на отколотое горлышко, кувшин рождал восхищение. В мягких, плавных изгибах, розоватом, телесном цвете словно таились черты той, которой должен был принадлежать этот сосуд. Старик повернул к себе донышко и увидел четкую надпись: «Прекрасная Аглаоника». Сам того не зная, Сократ держал в руках изделие своего друга Херефонта. Сократ погладил кувшин и поразился: он будто коснулся загорелого влажного тела.
Кто-то шел по дорожке, сбегающей к колодцу. Округлые камешки, опережая идущего, катились вниз.
– Что ты здесь делаешь, Сократ? – Старая Метротима остановилась возле сидящего мудреца, сняла кувшин с левого плеча.
– Здравствуй, почтенная Метротима! – Мудрец приветливо улыбнулся старой рабыне. – Ты ведь давно, как и я, живешь в Алопеке? Не говорит ли тебе что-нибудь имя Аглаоники?
– Аглаоника… – прошамкала Метротима. Она никак не могла понять, зачем Сократу понадобилось это имя. – Разве твою жену зовут Аглаоника?
– Я поймал этот кувшин. На нем имя Аглаоники.
Старуха потрогала сосуд.
– Куда он годится? Такой старый, с отбитым горлом? Смотри, какие на нем царапины! Словно кто-то исполосовал ножом…
Мудрец не видел никаких царапин.
– О ком же ты спросил меня? А-а, Аглаоника. Я где-то слышала это имя. Постой, я вспомнила ее лицо! – И в серых, словно посыпанных пеплом, глазах Метротимы проглянул живой уголек. – Аглаоника. О, это была красавица из красавиц! Я бы врагу не пожелала любить такую. Как она танцевала на рынке в Эфесе! Целый дождь монет просыпался на ее волосы. О, раньше были красавицы! – Старуха подбоченилась: – Зачем тебе далась эта Аглаоника?
Что ты вцепился в разбитый кувшин? Сам Асклепий не вылечит его.
Она, тяжело согнувшись, зачерпнула воды.
– Ой, намутил ты, Сократ!
Поставила длинный кувшин на левое плечо, давным-давно ставшее ниже правого, и пошла.
– В Алопеке никогда не жила Аглаоника, – не оборачиваясь, сказала она.
Медленно подымалась в гору, шептала сиреневыми губами:
– Были красавицы…
И катились камешки из-под огрубелых ног.
Сократ проводил рабыню взглядом, испытывая гнетущую тяжесть оттого, что она так трудно идет, и снова забросил свое «ловило» в колодец, и, хотя искал неумело, без особой надежды, кувшин попался довольно быстро, словно норовистая рыба, которая, испробовав множество наживок, все же предпочла самую бесхитростную. Старик подержал кувшин Ксантиппы, темноватый, плохо обожженный, – было как-то неловко ставить его рядом с «прекрасной Аглаоникой» – и, проведя ладонью по шершавой, как коровий язык, поверхности, прислонил сосуд к невзрачному обломку стелы. Подобрал плащ и опустился тут же, на могильный камень, слегка нагретый солнцем, – старик надеялся расспросить кого-нибудь из водоносов о прекрасной Аглаонике.
Подходили одна за другой рабыни к колодцу, пожилые и те, кому еще не миновала даже вторая седьмица, и никто из них, ни сам, ни чужим слухом, не обрадовал Сократа. И вдруг эта Памфила, быстрая, тонкая, с голубой повязкой на волосах…
– О ком ты спрашиваешь, Сократ? Аглаоника? Ты говоришь: прекрасная Аглаоника? – Памфила схватилась за живот и захохотала. – Я… я умираю! Облейте меня… водой!
Она успокоилась, сказала:
– Это настоящая уродина!
– Уродливее меня? – Старик глядел на девушку с ироническим прищуром. – Откуда ты ее знаешь, красавица?
Памфила смутилась.
– Разве я виновата, что Афродита обнесла ее красотой? – пробормотала девушка. Небрежно махнула рукой. – Она живет там. Видишь два тополя и крышу из красной черепицы?
– Благодарю, прекрасная, за сводничество!
Памфила фыркнула. Сократ, улыбнувшись, замотал влажноватую веревку на крюк, спрятал «ловило» в просторный кувшин Ксантиппы, взял другой сосуд и, словно горшечник в рыночный день, двинулся сыпучей дорожкой, огибающей склон. По левую руку старика, в ложбине, поросшей розоватыми побегами вербы, синела полоска пересыхающей реки Илисс. Высокими гермами, провожающими речонку вниз, к храму Артемиды Агротеры, стояли широколистые платаны.
Старик подошел к указанному дому, увидел на воротах венок из оливковых ветвей. Это был добрый знак: в доме родился мальчик. Ворота оказались открытыми, и мудрец безо всяких помех последовал во двор, посредине которого над алтарем Зевса Домашнего плавал жертвенный чад. Хозяин, увидев гостя, заулыбался и протянул руки.
– С твоим рождением, отец! – сказал Сократ.
– С рождением сына, добрый человек! – поправил гостя хозяин.
– Нет, с твоим рождением! – повторил мудрец.
Счастливый, отец насторожился, но быстро все понял, засиял лицом, словно новенький обол.
– О! Ты извлек слова с помощью божественных Харит!
Рассыпая улыбки, счастливый отец предложил гостю пройти в дом и отведать кикеон – смесь вина, ячменной муки и тертого сыра. Каково же было его удивление, когда бедно одетый человек отказался от вкусного угощения. И как скривились тонкие губы хозяина, когда гость вдруг заговорил об Аглаонике.
– Дрянная девчонка! Благодаренье Гермесу, я наконец-то сбыл ее старой Гликере. Самый терпеливый человек не вынес бы такого вранья и непослушанья. Ведь надо же, что она придумала: с ней по ночам разговаривают боги! Она как-то нашла зеркальце и заявила, что это подарок самой Афродиты. Каково? Но хуже всего, она вообразила, что ее мать не рабыня, а какая-то красивая благородная женщина. Она до того завралась, что водила своих подружек-оборванок к храму Артемиды и показывала то место, где ее якобы нашли в золотой корзинке. А я-то хорошо знаю, что ее родила самая обыкновенная рабыня на сеновале. И как этот змееныш глядел на меня, когда я рассказал правду!
Медленно подымался жертвенный дым, округлялся, сужаясь вверху, – казалось, над алтарем обжигается голубоватый сосуд. Странный сосуд расплывался, менял форму, и вот уже не кувшин, а легкий силуэт девочки задрожал и потянулся к чистому небу. Девочка рвалась ввысь, удлиннялась, но никак не могла оторваться от прочной земли – края ее кисейного платьица словно были придавлены закопченным камнем алтаря.
– Где живет старая Гликера? – спросил мудрец.
– О, это недалеко! – Хозяин принялся объяснять, с любопытством поглядывая на старика.
Мудрец выслушал и, не говоря ни слова, направился к воротам.
– Постой! Ты продаешь эти кувшины? Зачем тебе Аглаоника? Ты хочешь ее купить? – Словоохотливый хозяин шел рядом и торопился все хорошенько разузнать. – Зачем тебе такая лгунья? Постой! – Его губы расплылись в довольной улыбке. – Может быть, ты знал ее мать? Скажи!
Сократ молчал.
– Подожди! – Хозяину почему-то хотелось, чтобы старик заговорил с ним или хотя бы замедлил шаг. – Я скажу тебе один секрет. – Он оглянулся и перешел на шепот. – У девчонки больной желудок. Это никуда не годный товар. Поверь, Делад говорит тебе правду. Чистую правду.
Мудрец уходил, не оборачиваясь.
Разочарованный Делад ступил на тень философа, которая простиралась локтей на десять и поэтому придавала низкорослому человеку определенную внушительность, неуклюже потоптался, словно пытаясь вдавить чужое отражение в песок, однако утренняя тень старика ускользнула из-под пыльных сандалий…
Гликера, прежде чем отодвинуть засов, долго смотрела в щель.
– Входи, почтенный, как в свой дом!
Он вошел, а старуха продолжала разглядывать его, близоруко щуря красноватые глаза. От нее попахивало винным перегаром.
– Великие боги! – воскликнула она с удивлением и страхом. – Неужели это Сократ? Разве тени умерших разгуливают при свете лучей? Скажи, кто ты?
– Я Сократ, сын Софрониска, – сказал мудрец, опуская кувшины на землю.
– Что я слышу? – Старуха отшатнулась и чуть не упала. – Я не могу поверить! Сократа казнили!
– Нет, я жив, добрая Гликера.
– Как же так? – недоумевала старуха. – Почтенная Иокаста сказала, что тебя казнили. Она даже видела кипарисовую ветку на твоих дверях. Вчера тебя хоронили на старом кладбище. Я тоже хотела проводить твой прах за городские ворота, но упала и подвихнула ногу. Наважденье! – Гликера недоверчиво глядела на странного гостя. – Может, ты не Сократ?
– Кто же я? – Философ, улыбаясь, развел руками. – Разве Ксантиппа называет кого-нибудь другого болтуном и расточителем? Или под одной крышей со мной поселился еще один Сократ?
Гликера слезливо заморгала.
– О, счастье! Как я рада видеть тебя, добрый человек! Я давно хотела поцеловать твою руку. Пусть я стара, глуха, но мое сердце помнит добро.
– Что я сделал для тебя? – спросил мудрец.
– Я сестра Леонта Саламинского! – ответила старуха.
Борьба за владычество в эллинском мире продолжалась. После Аргинус для фиалковенчанных наступили черные времена. Уже в Геллеспонте при Эгос-Потомах-Козьих реках афинские контингенты были смяты и разгромлены, а три тысячи военнопленных казнены. Сжигая дома и вырубая священные маслины, копьеносные фаланги спартанского царя Павсания беспрепятственно двигались к Афинам. Морем плыл многочисленный флот Лисандра, спешащего блокировать город со стороны Пирея.
Дни афинской демократии были сочтены.
Воспользовавшись замешательством граждан, власть в городе захватили Тридцать тиранов во главе с Критием. Заручившись поддержкой Павсания и Лисандра, Тридцать тиранов решили отменить демократическую конституцию и вернуться к старым, дедовским порядкам.
Под радостные крики спартанских гоплитов и маршевое завыванье флейт были срыты Длинные стены, соединяющие город с Пиреем; вскоре после этого зловещая наволочь окутала дневное солнце, сделав свет его вечерне-тусклым, и какая-то большая, как гриф, птица долго сидела на позолоченном шлеме богини Афины-Промахос в Акрополе, и зловещ был изгиб ее длинного клюва, темен и неотвратим пророческий клекот.
Фиванцы, союзники Спарты, ослепленные злобой, умоляли Лисандра продать всех фиалковенчанных в рабство, а цветущий город сравнять с землей и превратить в пастбище для скота.
Кто-то вымазал священные гермы вонючим ослиным пометом.
В Пирее, в цистерне с водой, нашли труп мегарского купца.
По ночам слышалась тяжелая поступь спартанских патрулей из гарнизона Каллибия и лисий шорох тех, кто пытался покинуть Афины или искал убежище в неприкосновенных храмах.
В городе, развороченном, как пчелиное дупло, старый философ в числе немногих сохранял спокойствие и достоинство. Он по-прежнему посещал торговые ряды, цирюльни, меняльные лавки и с обычным добродушием заговаривал с гражданами. Этот человек, сравнивающий тиранов с пастухами, не берегущими собственного стада, одним казался сумасшедшим, другим – доносчиком, которому разрешалось говорить все, третьи думали, что смелость Сократа просто-напросто объясняется коротким знакомством с главою Тридцати: когда-то Критий был ревностным поклонником философа. И только близкие по духу знали, чем рискует невозмутимый и самоуверенный с виду человек.
Однажды возле цирюльни мудрец встретил Харикла, члена комиссии Тридцати.
– До меня дошли слухи, что ты говоришь лишнее! – недовольно сказал Харикл, поглаживая тщательно выбритые щеки. – Я запрещаю тебе беседовать с молодыми людьми до тридцати лет.
– Отчего же? – удивился Сократ. – Разве юношам вредны беседы о чести и добродетели? Если я в чем-то не прав, то, ради непогрешимого Зевса, объясни мою промашку.
– Мне некогда говорить с тобой, Сократ! – Харикл махнул палкой в сторону Толоса – большого круглого здания, где заседали тираны. – Меня ждут дела.
– Неужели я не могу отвечать юношам на самые простые вопросы? – спросил мудрец.
– Не прикидывайся простаком! – рассердился Харикл. – Ты хорошо понимаешь, что я накладываю запрет лишь на философские разговоры.
– Прекрасно, прекрасно. Стало быть, если молодой человек спросит меня, где живет могущественный Харикл, я смогу без опаски ответить?
Харикл осклабился:
– Сделай одолженье, мудрейший!
– Что ты говоришь? – воскликнул Сократ с притворным испугом. – Могу ли я подвести дорогого Харикла? А вдруг юноша, спросивший о твоем доме, несет под плащом отточенный кинжал?
Люди, стоящие у цирюльни, остолбенели. У кого-то из кошелька выпала монета; сверкая и тонко цокая, она по-катилась к ногам Харикла. Тиран пристально поглядел на мудреца, придавил прыгающую монету и, ничего не сказав, направился к Толосу. Его франтоватые башмаки множили в пыли надпись: «Следуй за мной».
– Ты играешь с огнем, Сократ! – сказал рыжебородый мужчина, подбирая монету.
– Мне исполнилось девять седьмиц, мои пальцы огрубели и худо смыслят, где обжигающий огонь и где его тень… – промолвил мудрец и, как обычно, не спеша, отправился на Агору.
А там уже надрывался государственный глашатай, хрипел замученным голосом:
– Никерат, сын Никия…
– Полемарх, сын Кефала…
Поредевшая толпа стояла у трибуны, ни о чем не спрашивая и уже ничему не удивляясь.
Какой-то неприметный человечишко вился возле Сократа, лез в ухо елейным шепотком:
– Слышишь, почтенный? Слышишь? Одни казни…
Человечишко заглядывал мудрецу в глаза, подхихикивал, обнажая мелкие мышиные зубы. Это был профессиональный доносчик-сикофант, недавно доносивший демократам на сторонников олигархии, а теперь греющий потные руки у погребальных костров, щедро разложенных Тридцатью тиранами за порушенной городской стеной.
– Град, бьющий посевы, недолговечен, – задумчиво произнес Сократ.
– Прекрасно сказано! – оживился доносчик. – Однако что ты разумеешь под губительным градом?
– Прости меня, обожатель ясности! Но если я напустил туману, то ровно столько, чтобы истина не выглядела обнаженной, как сладострастная гетера, – улыбаясь, пояснил Сократ и вдруг неожиданно спросил: – А ты хотел бы, чтобы я отправился в Аид?
Сикофант испуганно попятился, задел торговца с лотком – тот, рассердившись, оттолкнул его локтем, угрем ввернулся в мягкотелую толпу…
Темное воронье покаркивало над головой афинского мудреца.
Ксантиппа обнаружила на пороге дома письмо, испещренное ломкими детскими буквами. Сократа называли богохульником и лжепророком, советовали немедленно укоротить язык – в противном случае обещали прикончить в глухом переулке и бездыханное тело отдать на поруганье псам-волчатникам. Друзья уговаривали Сократа на время покинуть Афины, уйти хотя бы в соседние Мегары, но мудрец отказывался, ссылаясь на свой «Демонион», повелевающий ему остаться в родных стенах и служить богине Правде, презрев естественное благоразумие и жалкие телесные страхи.
Ползли слухи, зловещие, как плащ бога Таната: Критий расправился с одним из своих чересчур умеренных сторонников – Фераменом, заставив бывшего посредника переговоров со Спартой выпить кубок цикуты без предъявления каких-либо обвинений; в храме Великой Матери богов закололи двух демократов, прильнувших к алтарю…
Как-то вечером Сократ и Ксантиппа ужинали во дворике под яблоней. Яблоня доцветала; белые, с розоватыми прожилками лепестки падали на каменный стол, попадали в ячменную похлебку, которую ели из одной чашки муж и жена. Мягкая синева расплывалась по тихой улочке, и, казалось, ничто не предвещало такого грохота и лошадиной топотни.
Пароконная колесница остановилась напротив угловатого, сложенного из сырцового кирпича и булыжника жилища Сократа. Заскрипели ворота – они были всегда открыты, даже по ночам, – и во дворик прошел высокий человек в хламиде, казавшейся куцей, снятой с чужого плеча. Нетерпеливо нахлестывая по ляжке плетью, человек приблизился к Сократу и, не сказав обычного приветствия, спросил, кто он. Старик дожевал кусок хлеба, ответил.
– Собирайся, Сократ! За тобой послал Критий! – Возничий играл бровями, стараясь говорить внушительно, ядовито, но что-то суетливое, слабое проскальзывало в его движениях, да и голова, вдавленная в плечи, тоже не создавала ощущения строгости.
Ксантиппа, напуганная властным голосом, онемела.
– Собирайся! – повторил возничий, злорадно поглядывая на Ксантиппу.
«Живущуй с хромыми сам начинает хромать!» – невесело подумал философ, медленно протирая руки вялым листком редьки.
– Прекрасно! – заговорил Сократ, поднимаясь и ободряюще улыбаясь жене, – пораженная Ксантиппа не замечала его взглядов. – Я рад случаю прокатиться на колеснице и увидеть бесценного Крития. Представляю, как он обрадуется старому другу!
– Поторопись! – неуверенно сказал раб, кончая нахлестывать свою ногу.
– Куда спешить? Чем дольше разлука, тем крепче объятья и откровеннее слова… – Сократ прикрыл своей рукой замершую руку Ксантиппы. – Вставай, дорогая Ксантиппа! Проводи меня за ворота. Да не забудь приготовить полынной настойки! – В его голосе заиграли привычные смешинки. – Боюсь, что гостеприимный хозяин заставит меня страдать от перенасыщения желудка.
Усмехаясь, старик поднял неразлучную палку и бодрыми шажками направился к выходу.
Породистые фессалийские кобылицы пофыркивали и косились по сторонам печальными, будто всегда плачущими, глазами. Серебряные налобники отливали мертвенно, голубовато. Старик бездумно погладил теплый бок кобылицы и с удивлением заметил, как она вздрогнула. Возничий, еще ниже вдавливая голову, предупредительно распахнул дверцы экипажа, и Сократ неторопливо взошел на колесницу, крикнул женщине, стоящей у ворот:
– Не гаси ночник! Я скоро вернусь!
Раб сел на передок, схватил вожжи и опять озлился: послал кобылиц к «проклятым воронам» и сильно перепоясал плетью сначала одну, а потом другую гнедую. Они промчались улицей, пустынной, как городское кладбище в дни Великих Дионисий, и остановились около Толоса. Здесь было оживленно: сновали какие-то озабоченные люди, подъезжали и уезжали колесницы.
Сократ с улыбкой поблагодарил возничего и пошел к главному входу. И тут суетились люди с неуловимыми, стертыми лицами. Несколько раз философ услышал зловещее слово «Баратрон» – так называлась расщелина возле холма Пникс, куда по приказу Тридцати сбрасывали замученных граждан. Он назвал стражникам свое имя – его беспрепятственно пропустили.
«Меня встречают, как Тридцать Первого!» – усмехнулся мудрец.
И снова знакомое слово ожгло слух – «Баратрон!».
«Может быть, и Баратрон!»
Молчаливый стражник подвел Сократа к пустому креслу, возле которого стояли два человека с факелами.
– Жди здесь! Критий сейчас придет.
Мудрец оперся на палку, покачал головой: в этом стоянии перед пустым креслом было нечто забавное.
Критий, сын Каллесхра, поэт и оратор, вывернулся откуда-то из-за факельщиков, наступил на низенькую скамеечку – она стояла рядом с креслом – и очутился на своем просторном сиденье. Его глаза беспокойно бегали. Он не сразу заметил перед собой, внизу, фигуру Сократа.
– Это ты, Сократ? Здравствуй, Учитель!
Старик нехотя взмахнул палкой:
– Трудись и преуспевай!
– Я вижу, ты по-прежнему избегаешь государственной службы… – продолжал глава Тридцати, оглядываясь по сторонам, – он, вероятно, кого-то ждал. – Так вы о чем говорили с Хариклом? – вдруг спросил он и, не дождавшись ответа, снова вернулся к прежней мысли. – Так почему же ты избегаешь службы?
– А что такое служба? – спросил философ. – Может быть, это неутомимый поиск выгодных должностей? Или умение говорить льстивые речи? А, может, это поощрение доносов и отрубание голов?
Критий, отводя глаза, кутался в шерстяную хламиду.
– Ты хочешь зажечь светильник без чада, Сократ!
– Признаться, я не люблю масляные отжимки. Они дают слишком много чада.
– Садись! – буркнул Критий и показал на узкое сооружение, покрытое овчинами, – это была солдатская койка, на которой глава Тридцати проводил свои короткие ночи.
Философ не двинулся с места. Сцепив руки на палке, он разглядывал человека, имя которого многих повергало в трепет, и с удивительной ясностью представлял толстощекого мальчугана, идущего за своим хромоногим дядькой-педагогом в школу. Карапуз постоянно отстает от своего сопровождающего и с завистью поглядывает на других мальчишек, беззаботно играющих в бабки. Искалеченный раб часто оборачивается, покрикивает, натруженные руки его, занятые учебными табличками и лирой, заметно дрожат. Наконец, потеряв всякое терпенье, дядька бросается за своим подопечным с явным намерением отодрать за уши. Карапуз, показав язык, шустро отбегает в сторону и, подождав, когда дядька успокоится, снова тащится по дороге, с удовольствием ощущая, как между пальцев просачивается теплая пыль. Он обнаруживает под ногами воробьиное перышко и с интересом рассматривает его, водит по лицу, словно бритвой. Радужный павлиний веер в руках высокой красивой госпожи приводит его в полный восторг, и воробьиное перышко кажется таким неприметным, сиротским. Из облупленного носа малыша показывается робкая капля. Карапузу лень воспользоваться платком, он с шумом всасывает ее в нос. Мимо идут люди, и никому из них не приходит в голову, что этот толстощекий карапуз когда-нибудь займет чужое кресло в Толосе и начнет казнить своих сверстников, преспокойно играющих сейчас в бабки, только за то, что они думают иначе, чем он.








