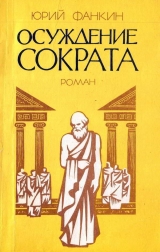
Текст книги "Осуждение Сократа"
Автор книги: Юрий Фанкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Теснимый зеваками, Сократ медленно продвигался к месту, где должны были сидеть пятьдесят пританов филы Антиохиды, – белокаменным рядам, полукружьями сходящимися возле «вечного огня». Он шел и не знал, какое испытание для него готовят неумолимые Мойры – богини судьбы. Волею жребия он должен был стать эпистатом, председателем Совета на этот день… Прижимая к груди жезл эпистата, Сократ взошел на кафедру и, не дождавшись полной тишины, каким-то тусклым, неуверенным голосом объявил о начале собрания. Людям, заполнившим Пританею, даже показалось, что собрание никто не открывал, – оно началось лишь тогда, когда на кафедру с гордо поднятой головой взошел главный обвинитель стратегов – Калликсен.
Буравя глазами обвиняемых, Калликсен доказывал, что тела погибших можно было предать погребению, если бы стратеги приступили к священному обряду сразу же после победы, ни капли не мешкая…
«Зевс-провидец! – недоумевал философ, неожиданно ставший эпистатом. – Неужели стратеги могли предвидеть эту бурю? Ведь она разразилась из ничего, из какого-то неприметного облачка…»
Калликсен, давно рвущийся в Стратегион, жаждал сделать то, что не сумела Аргинусская буря, – потопить чудом уцелевших стратегов:
– Мы хотим казни всех шестерых: Эрасинида, Диомедонта, Лисия, Перикла, Фрасилла и Аристократа!..
– Пританы, пошлите корабли на Митилену! Мы ждем расплаты с Протомахом и Аристогеном!..
– Мы требуем конфискации имущества всех осквернителей! Пусть десятая часть его перейдет в сокровищницу храма Афины-Горододержицы… – Мы верим… Мы. Мы!
Толпа вторила Калликсену восторженный ревом.
– Мы ждем от пританов решений, достойных Фемиды и нашего божественного города! – с театральной возвышенностью закончил Калликсен и, нехотя оставив кафедру, понес свое величественное тело к грубой скамье, предусмотрительно обложенной пуховыми подушками.
– Слава Калликсену! Он хорошо говорил!
– Смерть им! Смерть!
А к трибуне оратора, низко опустив остриженную в знак траура голову, неуверенной походкой слепца пробирался человек в темном плаще – один из родственников погибших, но непогребенных. В проходе он задел плечом осанистого Калликсена и продолжал идти дальше, не слыша яростных выкриков и не видя одобрительных рук, тянувшихся к нему со всех сторон. Казалось, он идет не по своей воле, а эти чужие руки, вдруг приобретшие невероятную длину, толкают его к серому, истертому ногами постаменту. Человек в траурном плаще взобрался на кафедру и некоторое время стоял молча, слегка покачиваясь; он словно не понимал, кто он и почему оказался в этом заполненном, как соты, зале. Потом медленно поднял круглую голову и попытался вглядеться в лица. Трудно сказать, кого он искал: то ли своих друзей, то ли несчастных стратегов, сидящих прямо перед ним. Человек водил глазами по рядам, и было ясно, что он никого не найдет: уж слишком рассеянным и принужденным был этот взгляд. Потом он повернулся к огню, пылающему в медных створках. В его зрачках отразился горячий блеск, человек встрепенулся и, не спуская глаз с диковато пляшущих языков, начал свою обвинительную речь.
Маленький эпистат тоже смотрел в огонь. Рваное пламя полыхало локтях в шести от него, внизу, и он чувствовал, как колышется тепло, мягко окутывает ноги. Если бы это было возможно, он встал бы и протянул свои озябшие руки к огню, словно к домашнему очагу.
Утренний холодок постепенно исчезал, но его вытеснял вовсе не огонь, питающийся маслом, а большое вечное солнце – оно быстро подымалось, и его лучи, минуя серые колонны, ложились белыми полосами на неуспокоенные ряды. И чем выше подымалось солнце, тем скуднее, незаметнее делался огонь Пританеи. Казалось, еще мгновенье, и огонь, бессильно мигнув, спрячется в своем закопченном кратере. А тем временем выходили один за другим понурые стратеги, говорили сбивчиво, неуверенно, и их слабость еще больше подхлестывала и распаляла толпу.
Уже раздавались нетерпеливые голоса:
– Довольно речей! Слово эпистату!
Но эпистат не торопился подняться на кафедру и призвать к голосованию возбужденных пританов. Он продолжал задумчиво глядеть в огонь, медленно вращая в коленях угловатый жезл, и все ждал, что кто-то еще, кроме Ликиска, выступит в защиту стратегов. И хотя было ясно, что теперь и добрый десяток речей не спасет обвиняемых, эпистат терпеливо дожидался этого, казалось бы, бесполезного человека. И когда в дальних рядах глухо загудели и, шумя плащом, вперед прошел Евриптолем, друг Диомедонта, Сократ оторвался от блеклого пламени и внимательно взглянул Евриптолему в лицо…
– Счастливые победители! – воскликнул друг Диомедонта, простирая руки так, словно он хотел обнять весь разноликий зал. – Вы хотите поступить, как несчастные побежденные! Не делайте же этого: ведь гораздо справедливее увенчать победителей венками, чем подвергнуть их смертной казни, послушавшись совета дурных людей…
Эпистат решил сесть поудобнее. Он поправил под собою шерстяную подстилку и хотел было положить ноги крест-накрест, но вспомнил, как хлестал за это по коленям школьный учитель Агафон, улыбнулся и вытянул ноги прямо. Своей невозмутимостью и расслабленностью позы он сейчас напоминал бывалого солдата, отдыхающего перед догорающим походным костром: не нужно ни о чем думать – все уже решено за тебя какой-то другой, могущественной силой, нужно просто сидеть и ждать, когда позовет в бой гортанная труба. Сократ вглядывался в незнакомые, смазанные ненавистью лица и понимал, что при голосовании легко может взметнуться целый лес рук, и тогда шесть жизней будут воздеты на острия этих живых копий. Уверенный в невинности всех стратегов, эпистат готовился принять единственное решение… И когда Евриптолем предложил судить обвиняемых не огульно, а порознь, согласно Каннонову постановлению, эпистат лишь сомнительно покачал головой: «Теряя колесницу, этот человек мечтает вернуть хотя бы колеса…»
Споткнувшись на нижнем приступке – дурное предзнаменование – расстроенный Евриптолем покинул трибуну.
– Где эпистат? Слово эпистату! – надрывались в толпе.
А в ушах маленького эпистата уже звучали другие, остерегающие слова:
«Персы! Персы!»
Эпистат почувствовал, как давит, сжимает голову венок сумасшедшего Евангела, и машинально дотронулся до седеющего виска.
– Сократ! Сократ! – взывала толпа.
Эпистат медленно осмотрел ряды – он словно кого-то еще ждал – потом перевел тяжелые задумчивые глаза на пустую кафедру, и тут для него прозвучала боевая труба… Сократ стиснул зубы и крупным, неторопливым шагом двинулся к высокому постаменту.
Прежде чем взять слово, эпистат поднял над головой свой знак. Золотой жезл засверкал в лучах восходящего солнца, и по этому яркому блеску все догадались, что эпистат уже на кафедре и готовится произнести заключительную речь.
Все замолчали, и в этом молчании ощущалось особое величие момента.
– Служа богине Правде и нашим законам, – размеренным, как солдатская поступь, голосом начал эпистат, – я считаю: стратеги обвиняются несправедливо… – Он помолчал, напряженно дыша. И вдруг закричал резко, с какой-то бесповоротной решимостью: – Пользуясь своим правом!.. Правом эпистата!.. Я снимаю вопрос… с голосования!
Зал ахнул и заревел, и этот рев, похожий на мычание всех ста быков, предназначенных для большой гекатомбы в честь Двенадцати богов, понесся за серые, летящие ввысь колонны Пританеи, туда, к Агоре, к меняльным лавкам, и люди, суетящиеся на рыночной площади, внезапно остановились и удивленно посмотрели друг на друга.
А невысокий лобастый человек уже шагал к своей скамье, сжимая белыми от напряжения пальцами жезл, и тень сумасшедшего Евангела всполошенно металась за его спиной:
«Всё! Всё! Персы убьют тебя! Убьют!»
Он устало сел и положил ногу на ногу. Два рослых стража услужливо подбежали к нему и взяли копья наперевес.
Толпа продолжала реветь, но в этом реве теперь не слышалось первого, яростного согласия: многие уже текли к проходам, торопясь покинуть Пританею, другие, беспорядочно крича, продолжали оставаться на своих местах, самые решительные и обозленные двинулись к человеку, лишившему их кровавого приношения.
Стоглавая гидра, вытянув длинные щупальцы, угрожающе покачивалась в нескольких шагах от неподвижно сидящего эпистата, натужно тянулась к нему, норовя обвить и напоить смертельным ядом, но что-то осаживало ее, не давало перейти этот небольшой заколдованный круг. Едва ли чудовищу могли помешать двое скифов-стражников с копьями наперевес или золотой жезл, лежащий на коленях побледневшего человека, скорее всего чудовище удерживало нечто другое, более могущественное, связанное с той чистой богиней, которой, не думая о последствиях, старался служить маленький эпистат.
Гидра еще шипела, надеялась, но ее вязкое пятнистое тело уже расчленялось крепкоплечими, радостно возбужденными людьми, и эти люди, образовав защитное кольцо, оторвали от скамьи оцепеневшего человека и повлекли его за собой, к выходу, у которого оробело теснились пританы филы Антиохиды, ждущие обеда на общественный счет.
И все же Сократ не спас шестерых Аргинусских стратегов. Уже на следующий день, при другом эпистате, в небо вонзились копьеносные руки пританов, среди которых не оказалось только одной руки – руки бывшего эпистата, а еще через день за городской стеной, недалеко от Пирейской дороги, весело возгорелись шесть погребальных костров. Сладким удушливым смрадом наносило на город, и сторожевые псы у Дипилонских ворот рвались из своих железных ошейников, выли жалобно, по-волчьи. И этот тяжкий, припадающий к земле дым на какое-то время утишил темноликую толпу, скрыл от ее ненавидящих глаз безрассудного философа из дема Алопеки.
…Сократ, тяжело дыша, подплывал к берегу.
Белые чайки летали над пенными гребешками волн, по небу плыли белые облака, и галька на морской косе казалась в этот день ослепительно-белой. И на вечных крутобоких валунах лежали, соприкасаясь концами, три белых, похожих друг на друга плаща.
И синее небо сливалось с синим морем.
Лишь старая военная триера выглядела одинокой пришелицей из темной, все поглощающей реки Стикс…
Хватаясь за камни, старик выбрался на сушу. С его клочковатой бороды падали светлые капли. Он приложил к уху ладонь и попрыгал, освобождаясь от глухоты. Потом решил обсохнуть и голый, словно пастушеский бог Пан, опустился на прокаленную солнцем гальку. Обхватив сжатые колени, он глядел выцветшими, голубоватыми глазами на море, и ему казалось, что все это когда-то было с ним, до его рождения: вот так же он сидел на берегу, медленно тонула никому ненужная триера, и два человека, рассекая волны, плавали наперегонки.
Пестрая бабочка покружилась над ним и, соря желтой пыльцой, примостилась на плече старика. Он не заметил ее, а если бы и заметил, то, наверное, и эта бабочка показалась бы ему выпорхнувшей из каких-то невероятных глубин памяти…
– Чудесно! Я словно родился заново! – заговорил Платон, выбираясь из белопенной волны. Он постоял, дожидаясь Этеокла. – Посмотри-ка на него, Учитель! Этот юноша плавает, как финикиец.
Этеокл польщенно улыбался.
Они сели на гальку, рядом со стариком, и долго смотрели на необъятное море. А потом встали, оделись и, прежде чем отправиться в город, решили еще раз утолить жажду.
И каждый из них опустился на колени перед вечным источником…
Узкой каменистой тропой они стали пробираться наверх, откуда был виден в радужном мареве большой и прекрасный город. Они шли, болтая о разных пустяках, и только всеведущие Мойры знали, какие нелегкие испытания дожидаются этих беззаботных с виду людей.
Вот и наступил черный день афинян, день дани критскому царю Миносу за убитого сына – Андрогея. Семь юношей и семь юниц, выбранных по жребию, должны были стать жертвой ужасного чудовища Минотавра, живущего в подземном дворце царя – Лабиринте.
С замиранием сердца Этеокл смотрел, как рука его отца опустилась в урну. От черного камешка потемнело в глазах. Но тут же, когда стало ясно, что печального жребия уже не миновать, юноша несколько успокоился и подумал, что, может быть, час его подвига настал.
Архонт Тиресий встретил выбор судьбы мужественно. Кусая губы, он подошел к своему сыну, снял с его головы фиалковый венок, поцеловал и снова надел – он благословлял Этеокла на подвиг.
– Я принес жертву меченосному Аресу! – тихо сказал отец.
Их провожали все Афины. От траурных одежд потемнела Пирейская дорога, ведущая к морю. Клокочущие рыдания накатывались на несчастных избранников со всех сторон. Мать Этеокла, бедную Эригону, унесли домой женщины-рабыни. Кормилица, старая Амикла, тоже плакала навзрыд и протягивала юноше бронзовую ладанку…
Этеокл шел, глядя себе под ноги: смотреть на плачущие лица было невыносимо. Песок сжимался под кожаными сандалиями и казался влажноватым от слез. Впереди бесконечной процессии шел архонт-басилевс, государственный жрец. Он шел очень медленно, словно стараясь продлить роковое расставанье, и черные складки его плаща печально стекали на горячую землю. Вот и Пирей, знаменитый порт. На изумрудных волнах покачивался большой красногрудый корабль «Саламиния». Голоса плачущих усилились. Этеокл, освоившись в толпе, стал разглядывать тех, кого избрал неумолимый жребий в храме Тесея. Эвридика, бледная, как срезанная лилия, бросилась ему в глаза.
«Великие боги, есть ли у вас жалость?! – едва не воскликнул Этеокл.
Эвридику он запомнил с прошлогоднего праздника Великих Дионисий, мудрого весеннего праздника, когда в Афинах закрывались все государственные учреждения, и место тяжб и переменчивых речей занимали шумные карнавалы; в эти солнцеобильные дни даже нанесение пощечины врагу каралось смертной казнью, а оскорбление поэта приравнивалось к оскорблению самого бога Диониса. Тогда Этеокл, переодевшись женщиной, изображал подгулявшую вакханку, а Эвридика в числе самых красивых девушек несла на голове позолоченную корзину с первыми плодами.
Теперь же темные листья непорочного лавра украшали ее скорбно распущенные волосы…
Эвридика была всего в нескольких шагах от Этеокла, но подойти к ней было непросто: какие-то угрюмые люди медленно оттесняли юношу, становились у него на пути, словно семикожный щит Аякса. Лишь у портовой гостиницы он все-таки пробился к прекрасной Эвридике. Она шла, как и он вначале, низко опустив голову.
– Эвридика!
Она ничего не слышала. Тогда он, одолев робость, взял ее безжизненную руку, стал греть. И она, словно оттаяв, удивленно и растерянно поглядела на него.
– Крепись, Эвридика! – сказал он. – Я убью чудовище. Клянусь твоими прекрасными волосами!
– Ты принес жертву богам? – тихо спросила Эвридика.
– Да. Моим покровителем будет меченосный Арес-Эниалий! – с гордостью ответил юноша и почувствовал, как восторженный холодок щекотнул ему шею.
– А я принесла бескровную жертву Афродите! – печально сказала божественная «носительница корзины» и неторопливо высвободила руку.
У сходен началось целое столпотворенье. Несколько сот солдат напрасно пытались оградить юношей и девушек от живой волны. Люди, охваченные горем, прорывались, целовали руки обреченным, бросали к ногам жертв пряди срезанных волос.
Тиресий схватил сына за плечи:
– Возьми кинжал!
Этеокл, не глядя, спрятал оружие за пазуху.
А на срединной мачте уже подымался черный, закрывающий полнеба парус…
– Гей, за весла! – громко крикнул глуховатый кормчий и запрокинул над бортом золотой кубок с вином.
И лилось кровавоструйное хиосское, пенилось нелепым пурпуром на чистой воде. Жалобно завыли флейты, медной дрожью прошлись по сердцам кимвалы, и глухо заскрипели шестьдесят тяжких весел, туго притянутых сыромятными ремнями к уключинам.
Всю ночь они плыли по соленым зыбям, и бог сна Морфей был не в силах смежить их тревожные веки. В темно-синем небе сыто жмурился зеленоватый глаз Пса Ориона, провожал неусыпным оком несчастную «Саламинию», и горькой, как погребальный плач, казалась протяжная песня подневольных гребцов. Этеокл и Эвридика, взявшись за руки, стояли у высокой кормы и смотрели вперед, туда, где их дожидался большой остров с Кносским дворцом, обнесенный Великой стеной и массивными башнями.
Тот зуд нетерпения, который почти всегда испытывает необстрелянный эфеб перед первым сражением, заставлял Этеокла мысленно торопить «Саламинию», и, принимая дальние облака за критские горы Ида, юноша нетерпеливо нащупывал дареный кинжал. Здравомыслящий Этеокл не очень-то верил в существование чудовища с туловищем человека и головой быка, однако слышал, что в стародавние времена на Крите были ритуальные поединки местного племени – пеласгов – со священными быками, нередко кончавшиеся смертью людей. Может быть, и теперь в подземном дворце Лабиринте их поджидает свирепый бык? А, может, Минотавр – это могучий раб, надевающий маску быка и убивающий по приказу Миноса безоружных пленников?
«Я должен сразить Минотавра! Должен!» – говорил себе Этеокл и с жалостью поглядывал на прекрасную «носительницу корзины».
Девушка задумчиво поправляла длинные, окропленные морем волосы, и ее лицо, обращенное к богине Селене, исходило каким-то мягким, глубоким светом.
– Берег! – хриплым, застоявшимся голосом прокричал кормчий.
Этеокл вздрогнул и сжал теплую, податливую, как воск, руку Эвридики.
– Берег! – нестройно откликнулись гребцы, и высокогрудая «Саламиния» умерила взмах своих деревянных крыльев, стала как-то медленно, толчками, оседать – казалось, она вот-вот уйдет в море по первый весельный ярус. А на острове уже метались красные факелы, разбрызгивая колючие искры, слышалась торопливая речь…
Настороженно вглядываясь в темь и боясь хоть на мгновенье выпустить покорную руку Эвридики, Этеокл, оступаясь, сошел на берег, и тут же их окружила секироносная стража Миноса; подбежали какие-то возбужденные женщины в коронах, украшенных бычьими рожками, – «Жрицы!» – подумал Этеокл, – быстро завязали глаза прибывшим плотной, ароматно пахнущей материей, повели куда-то наверх по скользкой от росы тропе.
Они уходили все дальше и дальше от сонно бормочущего моря, держась за руки и останавливаясь, когда кто-нибудь в цепочке падал; огибали грубые, угловатые стены, поднимались по крутым ступеням и долго кружили по комнатам дворца, слушая, как богиня Эхо повторяет их легкие шаги.
– Тронный зал! – объявила идущая впереди жрица, и сразу ослабли на глазах повязки, упали на пол, извиваясь, как змеи.
«Где же Минос?» – Юноша даже вытянул шею, чтобы лучше рассмотреть могущественного властителя Крита, но каменный тронос, увенчанный черепом быка, был пуст. На овчине, закрывающей сиденье, отливала золотом маленькая корона, и священная двойная секира – символ царской власти – косо упиралась в спинку.
Рогоносные жрицы, провожающие афинских невольников, вдруг оживились, легкими властными движениями разорвали живую цепочку и составили из нее две: мужскую и женскую.
Этеокл оставил руку Эвридики и последовал за другими юношами в опочивальню. Он лег на матрац, набитый шерстью, поправил под головой подушку, показавшуюся ему низкой; с неприязнью заметил, что другие юноши переносят свои матрацы подальше от дверей.
«Трусы! Они боятся, что их переколют, словно кротких ягнят!»
Сам Этеокл почему-то не хотел думать о вероломстве Миноса. Лежа на спине, он рассматривал фреску с изображением быка и двух женщин-акробаток. Потом повернулся на левый бок и стал медленно засыпать, глядя на горящий настенный светильник.
Ломаное пламя подрагивало, вытягивалось алыми рогами, подернутыми чернью.
И когда юноша спал, пряча правую руку под подушкой, где у него был кинжал, огненные рога привиделись ему и во сне – они тянулись по стене и сходились с темными рогами нарисованного быка…
Два быка, темнорогий и краснорогий, сшибались в упорном поединке, и никто из них не хотел уступить.
«Гей!» – грозно крикнул Этеокл и хлестнул бичом темнорогого быка прямо по глазам.
Бык неуклюже повернулся к юноше. Его глаза красно светились. Он жарко дышал и брызгал слюной.
«Зачем я его ударил?» – пожалел Этеокл. Юноша пятился, сжимая бесполезный бич. Краснорогий бык стоял в стороне и улыбался. Глаза у него были выпуклые, голубоватые.
«Зевс-Отец! Да это же глаза Сократа!».
Темнорогий бык, мотая головой, приближался к Этеоклу. Казалось, он наслаждался своим движением.
«Где мой кинжал?» – спохватился Этеокл и сунул руку за пазуху. Кинжала почему-то не было. Этеокл взглянул направо и вдруг увидел одного из юношей – Полиника. Кинжал Этеокла поблескивал в его руке.
«Отдай кинжал!» – крикнул Этеокл.
Темнорогий бык неожиданно развернулся и накатился всей громадой на Полиника. Несчастный юноша извивался, словно угорь, старался ударить кинжалом, но лишь понапрасну рассекал воздух.
А краснорогий бык, взобравшись с ногами на тронос, наблюдал за поединком мудрыми, человечьими глазами. Волоокая жрица поднесла к его обвислым губам прядь молодого сена. Человекобык схватил прядь и стал медленно жевать. Хлопья жвачки падали на двойную секиру, лежащую возле поджатых мосластых ног. Краснорогий бык внимательно посмотрел на Этеокла и, с трудом вывернув из-под себя ногу, приложил тяжелое, истертое копыто к сердцу.
А Полиник катался по земле, потеряв кинжал, кричал истошным голосом, забыл о позоре.
«…и не оставлю товарища в битве», – вдруг вспомнил Этеокл и нагнулся, чтобы поднять обломок белого камня, но камень, словно живой, вырвался из руки и полетел, испуганно трепеща крыльями.
«Голубка!» – удивился юноша.
Полиник жалобно стонал, притиснутый к земле, и казалось, ему не дождаться спасения, но вот гнусаво, с подвываниями запел пастушеский рожок, и темнорогий бык тяжело поднял голову и попятился в очищающее горнило солнца. Было хорошо видно, как ало раскаляются и вспыхивают ощетиненные волоски, быстро обугливаются косо расставленные рога, и все тело, могучее и темное, неумолимо разрушается вечным огнем и делается невесомым, словно летнее облако.
Этеокл с трудом открыл глаза и увидел солдата, только что протрубившего побудку. Наскоро одевшись и протерев лицо влажной губкой, юноши вышли на улицу и очутились во внутреннем дворике, окруженном колоннами и верандами. Этеокл заметил в тенистом уголке старика в золотой короне, который увлеченно беседовал с бедно одетым человеком в войлочной шляпе.
«Неужели это Минос?»– с удивлением подумал Этеокл, разглядывая тщедушную фигуру старика.
Властитель Крита иногда наклонялся и чертил посохом на песке какие-то круги, треугольники, вопросительно поглядывая на собеседника – тот, заинтересованный, садился на корточки.
«Зачем нас привели сюда?» – подумал Этеокл, оглядываясь на старого безоружного солдата, их провожатого, который стоял в стороне и сосредоточенно прочищал ногти сухой былинкой.
Откуда-то шел густой запах чесночной похлебки.
Два раба, похохатывая и толкаясь локтями, пронесли ощипанных фазанов.
Этеокл, настроенный на беспощадный поединок с Минотавром в присутствии многочисленной толпы, чувствовал себя уязвленным. Он сердито косился на Миноса, который не раз, спохватившись, направлялся к юношам, но, словно бык на привязи, внезапно останавливался и возвращался на свое привычное место.
«Какой стыд! Так не встречают и пленников!» Наконец Минос расстался с человеком в войлочной шляпе и медленной походкой подошел к фиалковенчанным.
– Радуйтесь, юноши! – Опершись на посох, Минос глядел рассеянно, на всех сразу, но каждому почему-то казалось, что царь смотрит внимательно на него.
Юноши молчали. Старый солдат бросил былинку, поправил блестящую с вмятиной каску и встал рядом с Миносом.
– Посмотри-ка на эту поросль, Гилл! – Властитель Крита дружески взял солдата за плечо. – Как они похожи! Неужели их родила одна мать? В ясных глазах – желание подвига, а под сердцем – тленное железо… Ах, юноши, юноши! – Щека Миноса тревожно дрогнула. – Отбери у них торопливость, Гилл!
Этеокл не успел и шевельнуться, как Гилл нащупал у него кинжал.
«Все пропало!» – ужаснулся юноша и, поправляя на груди облегченные складки, нечаянно дотронулся до сердца. Минос опустил глаза.
А безоружный человек в каске, словно садовник, давно знающий, какие плоды вызрели в его саду, неторопливо и уверенно собирал теплые, пахнущие человеческим телом кинжалы, и никто из молодых афинян не посмел воспротивиться этим обветренным, хозяйским рукам. Он положил на широкую ладонь седьмой, последний кинжал, поиграл оружием, как бы пробуя его на вес, и, внезапно помрачнев, обернулся к задумчивому Миносу.
Царь посмотрел на короткую светлую тень, падающую от его посоха:
– Уже полдень. Нас ждут.
Вслед за Миносом юноши пересекли дворовую площадку и, пройдя крытой галереей, похожей на Цветной портик в Афинах, обнаружили другой дворик, небольшой, как и первый, заросший какой-то узколистой стелющейся травой. Этеокл сразу же увидел семь юниц, которые гуляли, взявшись за руки, и старшую жрицу, безмятежно сидящую на старой опрокинутой лодке. Возле босых ног волоокой служительницы стояли два больших сосуда, белый и черный, и еще один, маленький, как килик, но очень заметный из-за своей пурпурной окраски.
Посредине дворика блеклыми огоньками цвела врытая в землю жаровня, и чернело смолье факелов, наваленных беспорядочно, в одну кучу.
– Минотавр… – прошептал Этеокл, чувствуя, что его опасения могут обернуться жуткой явью. Лишенный кинжала, он смел теперь надеяться на хитрость, достойную Одиссея: можно было попытаться ослепить быка или же, доведя животное до бешенства, прижаться спиной к колонне и тогда, когда смертоносные рога уже готовы пронзить тело, ловко увернуться, чтобы бык размозжил себе череп. Юноша старался не думать о заемной силе, но глаза его, помимо воли, так и скользили по земле в смутной надежде найти что-нибудь острое, колющее…
Молчаливый Гилл уже сидел на лодке и со скучающим видом чистил кинжалом ногти. Каска, видимо, стесняла старого солдата, он расстегнул ремешок и положил видавший виды шлем на днище.
– Ко мне, юноши! – позвал Минос. Царь стоял у жаровни и держал в руке большой незажженный факел.
Юноши приблизились, не переставая щуриться: солнце, казалось, светило отовсюду, и с особым напором лучи били из-за спины Миноса, делая фигуру старика более щуплой, как бы обтаявшей.
– Скоро вы шагнете из света во тьму. – Царь оглянулся на стену, завешенную гирляндами цветущего хмеля, и молодые афиняне заметили неясные очертания входа, ведущего в подземелье. – В моей руке факел факелов. Один на всех. – Минос прощупал глазами людскую разорванную цепочку – будто мысленно связывал юношей воедино. – Но вы можете зажечь и малые факелы. Их ровно семь.
Молодые люди оценивающе рассматривали друг друга.
– Ваше молчание кажется вечным. Я вижу: каждый из вас хотел бы нести большой факел. Решайте же! – Минос подождал еще и отбросил в сторону факел факелов. – Зажгите же малые огни!
Бесцветное пламя нехотя охватило смолье. Если бы не легкое потрескиванье и резкий запах, могло бы показаться, что факелы не горят.
– Еще не все. Вы должны испить из сосудов прощанья.
Юницы уже прикладывались к белому сосуду, который держала на коленях волоокая жрица. Гилл, заметив идущих юношей, опустил кинжал в перевернутый шлем, где уже торчали шесть рукоятей, похожих на черенки садовых ножей, с усилием наклонился и поставил на согнутое колено черный фиал.
– У вас есть выбор! – предупредил Минос, видя, что молодые люди обступили солдата. – Пейте молоко или вино!
Этеокл, не раздумывая, оставил, фиал, в котором пучилось вино, черное, как бычья кровь, и, притянув к губам белый сосуд, почувствовал, как душистое, слегка отдающее выменем молоко щекочет сухую гортань, растекается по тайным излучинам тела, вызывая бодрость и умиротворение. Сделав несколько глотков, Этеокл уступил широкодонный сосуд другому и с удивлением заметил, что двое его соотечественников, суетясь и проливая вино, попеременно тянут из черного фиала.
«Безумцы! Они хоронят себя!»
Юноши, напившись, подходили к девушкам. Этеокл тронул Эвридику за правое, необнаженное, плечо:
– Радуйся!
Девушка кивнула ему головой и продолжала смотреть в небо, прислушиваясь и улыбаясь.
«Боги! Горе помутило ей разум!».
– Ты слышишь? – Она потянула юношу за плащ. – Поет жаворонок.
Этеокл слышал лишь громкие глотки. И глядел он не на небо, а на рыжего лопоухого щенка, который недалеко от входа в подземелье играл с костью. Кость была желтая, заостренная на конце. Щенок нехотя брал ее в зубы, оставлял и опять набрасывался с наигранной злостью.
«Кость, кость…» – стучало в голове Этеокла, вдруг понявшего, что эта кость остра, как кинжал.
– Жаворонок! – шептала Эвридика и легонько, словно спящего, тормошила Этеокла.
Старшая жрица, стараясь освободить вход в подземелье, теребила зеленую завесь; хмель, плющ, повилика и еще какое-то вьющееся растение с лиловыми колокольцами, такие хрупкие и беззащитные сами по себе, переплелись и стали прочными, словно причальные канаты. Жрица дергала зеленые цепочки, но дружные побеги не обрывались, увлекали за собой новые, которые держались за сухие, прошлогодние сплетенья, обхватившие всю стену. Подошел Гилл, осторожно, словно боясь порезать ползающих пчел, провел кинжалом по зеленой преграде – завесь распалась, и в темный вход ступила первая пара, юница и юноша с малым факелом в руке.
– Пора! – позвала Эвридика, но Этеокл все еще медлил, не отпускал глазами острую кость.
– Гюгиайне! – негромко сказал старый солдат, и это пожелание здоровья в долгом пути, казавшееся недавно расхожим, как мелкая монета, в устах Гилла звучало свежо и ободряюще.
Тьма навалилась, чуть отшатнувшись от факела, и по-шла рядом, сторожа каждый неосторожный шаг, громоздилась между юными парами, стараясь отделить одно человечье звено от другого, запутать замысловатыми ходами, оглушить безнадежностью тупиков. Этеокл, чтобы не сбиться, старался придерживаться левой стороны. Путь в своем изначале был прям, и идти было нетрудно за другими, ощущая солнечное тепло женской руки. Кто-то из юношей, хвативших хмельного, затянул воинственный пэан.
– Подожди! – тихо сказала Эвридика. Она отвернулась, что-то поискала в одежде, и, когда приблизилась к Этеоклу, юноша увидел в одной руке девушки сверкающий кинжал, а в другой – неприметный клубочек ниток.
– О, Гефест-спаситель! – воскликнул юноша, без раздумий хватая оружие. – Ты сам выковал мне острейший кинжал! А это что такое? Он небрежно поиграл белым шариком и отбросил в сторону, рассмеявшись. – Разве я пряха, а не воин? Стойте, друзья! – крикнул он остальным. – Я поведу вас!
Этеокл бросился догонять, однако идущие впереди словно обрели крылатые сандалии. Ему вдруг показалось, что кто-то из юношей призывно взмахнул кинжалом. Он увлекал за собой Эвридику, постепенно теряя из виду другие пары, довольствуясь первым попавшимся ходом и почему-то считая, что идет самым верным, самым испытанным путем.








