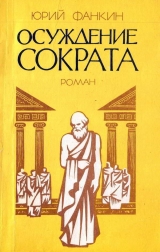
Текст книги "Осуждение Сократа"
Автор книги: Юрий Фанкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
И мощный нечеловеческий рев потряс зал, вызвал испуганное движение стражников на сцене. Юноша затравленно озирался, стараясь понять, откуда берется этот методично повторяющийся звук. Кричали все, но люди не могли создать такого рева; казалось, он родился сам по себе, и людям, открывающим рты, было страшно и непонятно, откуда здесь, в Одеоне, появилось свирепое критское чудовище. Этеокл видел напуганные глаза людей, бессильно растягивающих рты, – их крик походил на икоту, которую невозможно приостановить простым физическим усилием.
И грозно нависали над сценой тупые и каменные рога рядов.
– Отойди, Гемон! – зло сказал басилевс человеку, вставшему у него за спиной. Телохранитель шаркнул сапогами, сдвигаясь влево.
«Что же было дальше?..»
Рев прекратился, изошел удаляющимся ворчаньем. На сцену наваливался, разгоряченно дыша, народ.
– Смотрите, смотрите! Он улыбается!
– Фу! Безобразен, как Силен!
– Когда его казнят?
– И трех ночей не пройдет – казнят!
– Душно!
– Слово! Пусть скажет слово! – выкрикнул кто-то, и всем почему-то пришлось по душе это предложение: – Слово! Он имеет право!
«Давал ли я ему тогда слово?» – хотел было припомнить председатель, но думать было некогда – он поспешно поднялся, вороша от волнения свиток законов.
– Ты можешь сказать заключительную речь, Сократ!
Мудрец почувствовал, что людьми, ждущими от него еще одного слова, движет не праздное любопытство – они будто хотели убедиться в чем-то важном, так и не понятом до конца. Он встал, но не пошел вновь на «камень обиды». Басилевс сделал вид, что не замечает нарушения процессуального порядка.
– Что вы хотите услышать от меня, афиняне? Я не могу сказать вам что-то новое. Я не виновен! И не ждите от меня каких-то особенных, мудрых слов. Старый Сократ знал и знает только одну мудрость – жить в согласии с собственной совестью. И, если я чего-нибудь достиг в этом, то, вероятно, меня и следует считать мудрецом. Я не обижаюсь на судей. Как можно обижаться на детей, обожающих сладкое и приходящих в трепет при виде медицинского ножа. Дети неизбежно взрослеют, а болезни сами неумолимо приводят к врачу. Более того, я благодарен Мелету… – Старик улыбнулся.
– Ты шутишь, Сократ! – сказал человек, ухватившийся обеими руками за сцену. – Мелет твой погубитель!
– Можно ли считать погубителем человека, любезно избавившего меня от тягот старости?
Люди неуверенно рассмеялись.
Философ взглянул на широкую солнечную полосу, рассекающую сцену:
– Уже за полдень, афиняне! Так идите же по домам и займитесь каким-нибудь полезным делом! – Мудрец заметил своих друзей, барахтающихся в болотно-вязкой толпе, и призывно воздел руки. Великий хулитель ответно взмахнул своей флейтой.
Председатель суда не услышал, как подошел к нему начальник стражи, но отчетливо различил знакомое, отдающее лавровой жвачкой, дыхание.
«Он уже принес дурацкие наручники!» – подумал архонт и, уверенный, что это действительно так, сказал, не оборачиваясь к Энею: – Оковы не нужны обвиняемому!
– Я не принес оковы! – неожиданно сказал Эней.
– Отчего же? – вырвалось у басилевса. – Как твоя мысль опередила мою? – Басилевс удивленно разглядывал человека, известного ему до мелочей и не сулившего, казалось, никаких неожиданностей.
– Старый конь добредет до означенного правосудием стойла и без упряжки.
– Конечно, конечно… – с кривой гримасой согласился басилевс. Однако признайся: ведь раньше ты… – Председатель суда, опомнившись, замолчал.
Эней не сводил заинтересованных глаз с желтого, похожего на человеческое лицо финика. Он будто вспоминал…
Старый философ прислонился к вытертой до блеска дубовой спинке, посмотрел на свой камушек, греющий руку далеким полузабытым теплом. На пальцах темнели размытые бороздки сажи.
– У него что-то в горсти… – зашептал секретарь басилевсу.
– Что там может быть? – язвительно спросил председатель суда. Кинжал? Быстродействующий яд? Или кошелек с золотыми монетами?
Секретарь обиделся.
– Камушек, – спокойно сказал Эней. – Обыкновенный камушек от домашнего очага.
«Кажется, тогда я приказал Энею отобрать камушек. Глупо, очень глупо. И почему это проклятое дело опять перешло ко мне? Разумеется, дела религиозного свойства надлежит разбирать басилевсу. Но я мог заболеть. Меня давно тревожит печень. Видят боги: я говорю сущую правду. В конце концов это дело могло обрести государственную окраску, и тогда на моем месте оказался бы архонт-эпоним. Чем я провинился перед богами? Почему они дали мне долгую память, но не вразумили, как поступить? И что я мог изменить в своенравном судейском хоре? От меня ничего не зависело. Не бросил же я собственной рукой эти триста шестьдесят камушков! Может быть, Судьба склоняет меня к милосердию? Но разве я лишил обвиняемого последнего слова? Заковал его руки в печально гремящие оковы? Вырвал из горсти безвредный камень? Я делал то, к чему обязывала Фемида, и не моя вина в том, что человек сойдет в Аид. Правда, люди не вспомнят после ни одного бросателя камушков, а в памяти останусь я, архонт-басилевс Аполлоний, председательствующий на этом суде. Люди умеют общее добро и зло взваливать на тележку отдельных граждан. О, как тяжело угождать всем Двенадцати богам! Да и двенадцать ли их теперь? Может быть, этот старик служит какой-то новорожденной богине? Смутное время. Как было просто, когда на Олимпе правили боги богов Уран и Гея!» – Аполлоний сжал руками виски, словно стараясь прекратить поток опасных мыслей.
– Нужно увести обвиняемого! – напомнил Эней.
– Да, да, – думая о своем, согласился басилевс. – Увести.
Начальник стражи почему-то не двигался с места.
– Подожди! – спохватился басилевс. – Я должен спросить у него…
– Я жду! – понимающе сказал Эней.
«Это уж слишком! – подумал басилевс. – Откуда он может знать, как я намереваюсь поступить? Ошибаешься, всеведущий Эней! Я могу сказать вовсе не то, что ты предполагаешь!» – Но с языка сорвалось вопреки ожиданию: – Есть ли у тебя пожелание ко мне, Сократ?
«Что он стелет ему ковры?» – удивился секретарь.
– Благодарю, Аполлоний! – просто, как равному, сказал Сократ, и председатель суда впервые ощутил на себе по-юношески живые глаза философа. – Я хотел бы перед уходом поговорить с друзьями.
– Говори, но не долго! – пробурчал басилевс.
Шлепая босыми ногами, философ побрел к просцениуму, Эней, следующий за ним, поднял руку, и двойная цепь скифов-стражников распалась, давая дорогу мудрецу.
– Подойдите поближе, друзья! – весело попросил Сократ, вглядываясь в медленно убывающую толпу. – Кажется, я вижу на ваших лицах тень беды? Разве что-нибудь случилось? Не могли же вы всерьез предполагать, что человек, облачившийся в шкуру льва, издаст заячий писк? Приветствую тебя, дорогой Херефонт! Однако не нужно слишком работать локтями – у наших граждан чувствительные бока. Не одолжишь ли ты мне свою флейту? Старому любителю словес нужно будет как-то скоротать тюремное время. – Старик нагнулся, принимая маслянисто отливающий рог. – Замечательная флейта!
– Но ты же не умеешь играть! – вырвалось у Великого хулителя.
– Что за потеря? Благодаря несравненному Мелету я еще сумею обскакать многих в мусическом искусстве. Приветствую и тебя, сосредоточеннодумающий Платон! А что так неохотно подвигается Критон? Или он опасается, что вместо добрых слов ему достанутся школьные розги? Не бойся, дружище! Ты же видишь, что в моих руках ничего нет, кроме безвредного рога. А о чем мне хочет поведать Аполлодор? Говори, же громче, милый Аполлодор, а то мои уши забиты судебными речами! – Старик забавно ковырнул мизинцами в ушах.
– Я скорблю о Правде! – грустно улыбнувшись, сказал Аполлодор. Она умерла здесь раньше, чем ты, Учитель!
– Что ты говоришь? – удивился мудрец. – Как она могла умереть? Посмотри-ка на эту пастушью флейту. Сейчас я ее сломаю, мой дорогой Аполлодор! Вижу твое недоумение. Тебе, конечно, жаль флейты, не оскорбившей человеческого слуха. И все же старый крушитель неумолим. – Сократ приложил флейту к согнутому колену. – Все! Флейта сломана. Можешь обливаться горестными слезами, дружище Херефонт. Но умерла ли вместе с флейтой Музыка? Как ты думаешь, Аполлодор? – И философ торжествующе показал целую и невредимую флейту…
Когда басилевс, бездумно созерцающий медную крышечку, пришел в себя, Сократа на сцене уже не было. Что-то большое, темное, не имеющее определенной формы, удовлетворенно ворча, текло по боковым пародам на улицу, и зал становился другим, солнечным, легким.
– Его увели? – тихо, ни к кому не обращаясь, спросил человек с ассирийской бородкой.
– Как всегда, Седьмым выходом, – также тихо отозвался секретарь, скатывая протокол в тугой рулончик.
Председатель насторожился:
– Почему «как всегда»?
– Но этот выход – ближний к Старой тюрьме! – равнодушно пояснил секретарь.
– Ах, да! – с натянутой улыбкой согласился архонт. – Я, кажется, сегодня устал… – Он приложил палец к восковой дощечке в том месте, где была прочерчена цифра «360». Воск быстро нагревался и таял. – Наконец-то все кончилось! – Архонт, будто ожидая подтверждения, внимательно посмотрел на секретаря.
– Да, кончилось… Проклятье! – Рулончик никак не входил в узкое отверстие. Секретарь вздохнул и стал закручивать свиток заново.
– Кончилось… Кончилось… – Басилевс вышел из-за стола, разминая плечи, как заправский атлет.
– От усталости есть прекрасное средство! – вспомнил секретарь, с трудом засовывая протокол в металлический цилиндр. – Мандрагорова настойка.
– Да, да. Нужно испробовать. Не представляю, как разбирают судебные дела наши вечные старики в Ареопаге. Наверное, служат не Истине, а Морфею.
– Лучше всего настоять корни… – продолжал свое секретарь.
Архонт наклонился, не сгибая колен, и поднял финик, пробудивший в нем странные фантазии. Финик как финик. Чем он мог напомнить ему человеческое лицо? Желая убедиться, не виной ли всему расстояние, басилевс отставил руку с фиником, настороженно смотрел, но причудливые изгибы не складывались в прежние осмысленные черты. Человек с ассирийской бородкой прицелился и расчетливо-ленивым движением бросил сушеный плод в темную прорезь люка. Попал. Второй архонт и дадух-факелоносец когда-то недурно играл в коттабий.
– Кончилось! Все кончилось! – Аполлоний решительно махнул рукой, словно стараясь навсегда отмести, порвать нелепую нить, протянутую ему из таинственного и запутанного, как Лабиринт, прошлого.
Лучи, бьющие из-за боковых колонн, пестрили тяжелые каменные ряды. У Седьмого выхода, предназначенного в дни празднеств для торжественного шествия актеров и хоревтов, клубился голубоватый мрак. Робкая ниточка луча, скользнув по театральному флигелю, попыталась дотянуться до выхода, которым увели афинского мудреца. Кто знает, может быть, она, светлая, чистая, как пряжа Ариадны, все же пробилась в рыхлую тьму, легла в руку Сократа, между теплой ладонью и обгоревшим камушком, придавая новые силы и уверенность.
Все настойчивее и явственнее в лучах угадывался пурпур, предвещающий вечер.
7
…Старый Атрей, отец Ксантиппы, брал Сократа за руку и, нежно прижмуривая глаза, уверял, что даст в приданое дочери, как того требуют обычаи, десятую часть имущества; при этом он совал Сократу серебряную тетрадрахму, на которой был изображен бойцовский петух с пальмовой ветвью. Философ отшучивался и пытался уйти, но папаша Атрей хватал будущего зятя за плащ и все пытался вложить ему в руку тетрадрахму, выбитую якобы в честь танагрского петуха Чернохвоста, победившего всех своих соперников на весенних состязаниях в Одеоне. Сократу казалось, что его терпенье вот-вот лопнет и он оттолкнет с пути назойливого Атрея, однако старик отстал сам, удовлетворенно потирая ладони с бурыми пятнами краски.
…Свадебная повозка, запряженная мулами, медленно поднималась в гору – наверное, издали она казалась мухой, ползущей по натянутому луку. Сократ, сидевший между другом жениха и невестой, одетой во все белое, поглядывал на потных, натужливых животных и мучился от желания помочь. Возможно, он сошел бы с повозки, если бы не суеверная Ксантиппа – каждый раз, угадав намерение жениха, она касалась его руки своей прохладной рукой. И плечо невесты было тоже холодное. Сократ не понимал, почему Ксантиппа замерзла в летний вечер, когда каждый камень дышит дневным теплом. Потом он вспомнил, что невеста вместе с рабыней ходила в горы за снегом, чтобы охладить красноструйное свадебное вино… Не было слышно, как скрипят колеса и фыркают уставшие мулы. И Сократ мог бы подумать, что лишился чуткого слуха, если бы не ровный, успокаивающий звон легкокрылых цикад.
«Почему же не играют флейтисты?» – подумал Сократ и взглянул на шестерых музыкантов, идущих впереди повозки в довольно странном облачении: на них были красные рубашки, как у гоплитов, и медные шлемы, разгорающиеся до тревожащей душу красноты, когда по ним прицельно бил вечерний свет.
«Почему же они не играют?»
Один из флейтистов поднес к губам рогатую флейту и негромко вывел мелодию свадебного гимна «Прекрасней старой будет новая судьба». Его не поддержали, и музыкант опустил флейту, продолжая шагать вперед. Сократу подумалось, что ему знакомы спины всех шестерых флейтистов. По обеим сторонам повозки кружились, заламывая руки, хмельные сатиры и вакханки. Два карлика несли на носилках пастушеского бога Пана. Бог пьяно поводил дремучей, с козлиными рожками головой и делал вид, что усердно бьет в бубен, обтянутый желтой воловьей кожей. Озорная вакханка плеснула Пану в лицо виноградным суслом. Бог погрозил ей темным корявым пальцем и стал, смеясь, размазывать сусло по щекам, пачкая рыжие завитки живописной бороды. Между ряжеными сновали торговцы с лотками и водоносы. Промелькнул папаша Атрей, пьяный и счастливый, держа в руках малохольного петуха с черным хвостом. Из толпы выскочил Евангел в женской шляпе с остроконечным верхом, с чесночным венком, болтающемся на худой шее. Сумасшедший кого-то искал. Наконец он догадался взглянуть на свадебную повозку и, увидев Сократа, радостно запрыгал. В его руках приплясывали маленькие черные мешочки. Евангел опасливо покосился на Пана и бросил Сократу первый мешочек. Философ легко поймал и, поймав, сразу же догадался, что в мешочке мак.
Мак утолял голод.
Сократ вновь ощутил холодную руку Ксантиппы. Невеста шептала, что мак заколдован самой Гекатой, и пыталась отнять мешочек. Философ переложил дар Евангела в безопасное место. Сумасшедший бесстрашно лез под колесо и размахивал другим мешочком. «Быстрее! Персы!» – беззвучно кричали губы сумасшедшего, и Сократ, оттолкнув флегматичного возничего, поймал новый мешочек. В мешочке похрустывали семена льна.
Лен утолял жажду.
Появился хмурый человек с длинным копьем и бесцеремонно отшвырнул Евангела от свадебной повозки. Падая, сумасшедший все же успел бросить философу третий мешочек, набитый семенами капусты.
Семена капусты оберегали от опьянения.
Люди с лотками в подражение Евангелу стали кидать на повозку сладкие фиги, айвы, медовые пирожки, сыр, колбасы… Невеста ловко схватывала подношения и опускала в тростниковую кошницу, стоящую у ног. Ока ловила подарки и одновременно грызла наливное с розовой пестрядью яблоко. Кисея фаты трепетала возле ее головы, как крылья бабочки. Сократ наугад подставил руку и поймал ком земли, который тут же рассыпался, сухо потек по ладони.
– Послушай, что они говорят! – шепнула Ксантиппа и коснулась Сократа теплым плечом.
– Ты согрелась? – ласково спросил Сократ.
– Послушай! Послушай! – настаивала невеста.
До Сократа донеслась тусклая музыка слов:
– О, Гимен, о, Гименей!
– Они поют гимн.
– Ты совсем оглох! – рассердилась Ксантиппа.
И вдруг прорвались в уши нежданные голоса, запели гундосо, со старушечьим пришепетываньем:
– Кто играет свадьбу в гекатомбеоне? Разве нельзя было дождаться месяца Геры?
– Хотя бы дождались новолуния! Не будет им счастья! Клянусь Афиной-Девственницей, не будет!
– Говорят, она сварливее всех в своем деме!
– А он – первый краснобай. Хорошенькая пара!
– Я слышала: она не может уток толком вплести в основу.
– Криворучка! Неумека!
Ксантиппа по-детски оттопырила губы, и сами губы у нее были какие-то детские, припухлые.
– Неправда! Я умею ткать. Разве не я соткала отцу праздничный гиматий?
– Не вслушивайся в жужжанье мух! – Сократ погладил руку невесты. – Лучше съешь вот это яблоко! – Он наклонился к кошнице. – Посмотри, какое оно румяное. Как твои щеки. Когда ты переступишь мой порог, я подарю тебе зеркало. Его поверхность будет чиста, словно озерная гладь. Ты поглядишься в него и увидишь, какая ты красивая. Лучше всех!
Ксантиппа удовлетворенно куснула яблоко:
– А ты – умный и добрый!
Гора дыбилась, словно норовистый конь. Отстали ряженые, целуясь и обнимаясь. Исчезли трезвые торговцы и водоносы. Евангел, припадая на левую ногу, подбежал к повозке и зашагал рядом, рассеянно придерживаясь за спинку.
– Я должен проводить тебя, Сократ!
– Когда кончится эта гора? – спросил философ.
– Нам придется идти до восхода солнца! – Евангел опустил простоволосую голову с миртовым, как у жениха, венком.
– Мулы устали.
– Я знаю, – спокойно ответил сумасшедший. – Для нас обходного пути нет.
В серой груде камней на закопченных треножниках стояли котлы. Полуобнаженные рабы, поддерживая огонь, ломали хворост. Осанистый молодой человек в голубом плаще, стоя в пол-лица от проезжающих, помешивал в котле обгорелым прутиком. Над сосудом вился петлистый дымок. Увидев Сократа, человек закрыл лицо полой плаща и еще быстрее и как-то раздраженнее заводил прутиком.
– Что они готовят? – спросил Сократ, улыбаясь.
– Панспермию – пищу для теней, возвращающихся на землю! – ответил Евангел.
– Но разве сегодня траурный день «Котлов»?
– Да, Учитель! Мертвые, как и живые, нуждаются в пище каждый день.
Флейтисты, увидев дымящиеся котлы, воспрянули духом. Крайний слева легким плывущим шагом направился к ритуальным треногам. Остальные незамедлительно последовали за ним, держа флейты, словно сосуды. Человек в голубом плаще повернулся к повозке спиной и стал неторопливо разливать злаковый навар в роговые отверстия флейт. Один из флейтистов, не удовлетворившись малой порцией, снял с головы медную каску. Человек в павлиньем плаще вроде бы заартачился, но заартачился с игривой развязностью, за которой угадывалось желание уступить, правда, на вполне определенных условиях. Протягивающий каску быстро понял, чего от него хотят, и сунул разливальщику монету. Головастый ковш хищно склонился над воинской каской.
– Они будут есть пищу Девкалиона! – Ксантиппа указала потемневшим огрызком на флейтистов. – Но это же святотатство!
– Они будут есть что должно! – неуступчиво сказал Евангел, и Сократ с удивлением опознал в одном из флейтистов Эрасинида, аргинусского стратега, несправедливо приговоренного Советом Пятисот к смертной казни.
– Эрасинид? – на всякий случай спросил философ.
– Да, Эрасинид. Остальные тебе тоже знакомы. Аристократ, Диомедонт, Перикл, Лисий и этот…
– Фрасилл! – подсказал Сократ.
– Да, Фрасилл! – Евангел мотнул нечесаной головой. – Отправляясь в царство теней, он взял у меня мешочек с тмином и солью для возбуждения аппетита. Но разве можно на погребальный обол приобрести лишний глоток панспермии? Священная влага ушла сквозь каску в землю, а серебряный обол превратился в голыш.
Флейтисты опять заняли свое место во главе процессии, вскинули к небу рогатые флейты, но не раздались в вечерней тиши сладостные звуки свадебного гимна: музыканты, как изголодавшиеся бычки, тянули из затверделых сосцов «пищу Пирры и Девкалиона» и продолжали идти вперед, вдавливая стершимися сапогами серый гравий.
– До утра, Мелет! – насмешливо крикнул философ.
Человек в голубом плаще рассердился и бросил в Сократа голыш, похожий на камушек для голосования. Философ ощутил в ладонях металлический кружок.
– Теперь и тебе есть чем заплатить за перевоз Харону… – засмеялся сумасшедший.
Сократ поднял голову и увидел на вершине горы храм Зевса Олимпийского, подрезанный снизу голубоватой полосой тьмы и потому казавшийся парящим в воздухе, словно облако. Солнце, выглядывая краешком из-за далекой тучи, мягко освещало капители храма с их позлащенными цепями, строгие колонны с вертикальными врезами-канелюрами. Неодолимая, ползущая по колоннам тьма рождалась, казалось, в священной расщелине – «вратах в подземный мир», – куда, по преданию, стекали воды великого потопа во времена Пирры и Девкалиона, единственных людей, сумевших спастись и продолжить человеческий род. Тьма, клубясь, нежно обнимала храм Громовержца, лохмато стекала вниз по горе, оставляя малый просвет для свадебной процессии, которую завершала мать невесты с факелом, зажженным от домашнего очага. Мулы мотали потными шеями, оступались. Сократ, намучившись чужой мукой, решил хоть на время оставить повозку.
– Ты куда? – заволновалась невеста. – У тебя же немытые ноги.
Сократ, в душе посмеиваясь над собой, притворился, что охаживает лодыжку влажной губкой. Ксантиппа помалкивала. Но стоило Сократу попытаться переступить через вытянутые ноги невесты, как раздалось предостережение:
– Через меня нельзя. Это дурной знак.
Уступая невесте, Сократ подался влево, к шаферу, и неловко спрыгнул на землю. Сначала он шел в стороне, но, видя, что мулы выбиваются из последних сил, решил помочь. Вобрав голову в плечи, он уперся обеими руками в дубовый задок. Гора медленно выбиралась из-под его босых ног, а сама повозка, казалось, стояла на месте. Какие-то люди, неясные, клубящиеся, вылепились из темноты и стали бесцеремонно забираться в телегу. Папаша Атрей, прижимая к груди чернохвостого петуха, вклинился между шафером и невестой. Кривляющийся человек в маске встал на тележную ось.
– А-ля-ла! – воинственно закричал возничий и принялся полосовать бедных мулов стрекалом.
Сократ продолжал мучительными усилиями выталкивать из-под себя нескончаемую гору. Капли пота выступали на лбу, стекали по протокам морщин, казнили глаза едкой болью. И он не мог оторвать, даже ослабить прикованные к повозке руки.
– Вези, дружище! – Евангел безжалостно оскалил зубы. – Это твой воз.
А густеющая на глазах тьма продолжала ползти вниз от храма Зевса Олимпийского, туманно-серого, как скала, кучилась возле повозки и словно еще добавляла тяжести. Сократ услышал позади легкое всхрапыванье. С трудом обернувшись, он увидел костистую голову коня с надглазными впадинами, дряблыми губами, плохо закрывающими порушенные старостью зубы. Конь устало шел за Сократом, поводя ушами, и серая полоса тьмы сползала с его спины, словно истлевшая попона. В прямых горных травах вызванивали свадебный гимн цикады. До рассвета было еще далеко.
…Человек стоял в мятущемся свете двух факелов, вставленных в ржавые стенные кольца, и от него падали две совершенно разные тени: широкая, с приплюснутой головой, и узкая, как погребальная стела. Острие длинной тени покачивалось возле босых ног Сократа, сидящего на расшатанной тюремной кровати.
– Здравствуй, Тиресий! – приветливо сказал мудрец.
– Откуда ты знаешь мое имя? – грубовато спросил архонт, раскачиваясь взад-вперед.
– Но ты же приходил ко мне сразу же на следующий день после вынесения приговора… Мы славно с тобой побеседовали.
– Я ничего не сказал лишнего? – забеспокоился архонт и немного подался в сторону, чтобы совместить тени, но тени продолжали топорщиться нелепыми ножницами.
– Я думаю, что нет. Удивительная встреча! Я никогда не признал бы в тебе того юношу…
– Я проговорился? – Архонт окаменел.
– Да, я все знаю. Но почему ты с такой неохотой вспомнил Делий?
– Нет, не может быть. Я не говорил тебе ни о чем. Может быть, меня выдал пояс? Я упоминал в разговоре кожаный отцовский пояс?
– Успокойся, Тиресий! – душевно сказал мудрец. – Клянусь совестью моих предков, ты не сделал ничего предосудительного.
– Но я ничего не помню! – Архонт стиснул руками седеющие виски.
– Вспомнишь, когда розовые персты Эос откроют твои глаза. Сейчас мы оба спим.
Тиресий криво усмехнулся:
– Стало быть, мы встретились в твоем сне?
– Да, – кровать под Сократом скрипнула. – И я хотел бы спросить тебя…
– Не лучше ли это сделать наяву?
– Я не знаю, предоставится ли случай. И что такое сон, Тиресий? Что – явь? Может быть, жизнь наша – кратковременный сон, а смерть – пробуждение к подлинной жизни?
– Забавно! – Качели опять заходили под ногами архонта. Взад-вперед. Взад-вперед. – И что же ты хочешь узнать от меня?
– Ты смотришь виновато, Тиресий. Но в чем твоя вина?
Тиресий отвернулся, загреб рукою во тьме, будто искал дверное кольцо, желая уйти.
– Здесь нет дверей! – тихо напомнил мудрец.
Лицо архонта качнулось в свет и огненно заструилось.
– Ты смеешься надо мной, Сократ! Даже зверь не забывает доброты. Я только что сейчас уснул… Я не спал всю ночь. Какая мука – видеть спасителя, уходящего в Аид по моей вине!
– Успокойся, Тиресий. Не будь тебя, другой человек исполнил бы приговор.
– Ах, Сократ, Сократ! – Метались тени по полу, сходились и расходились чернохвостым веером. – Ты так ничего и не понял. Ведь я же мог спасти тебя тогда, на суде. Понимаешь: спасти!
– Как это могло случиться? – удивился мудрец.
– Очень просто. Ты, надеюсь, знаешь, сколько камушков не хватило тебе для оправдания?
– Кажется, тридцать.
– Тридцать, Сократ. Но ты говоришь так, будто речь идет о тридцати крупицах соли. А ты знаешь, что было в этой руке? – Тиресий значительно выставил ладонь.
Мудрец молчал.
– Здесь было твое спасенье, Сократ! Тридцать белых камушков лежали здесь! – Архонт выразительно взглянул на старика и медленно опустил руку.
– Я ничего не понимаю! – признался мудрец.
– О, Сократ, Сократ! – простонал архонт. – Чтобы уяснить мою мысль, не нужно быть Солоном или Биантом. Все очень просто. Я должен был подняться и подтвердить показания Тибия.
– Зачем? – возразил Сократ. – Разве судьи не поверили этим показаниям?
– Поверили, поверили! – раздраженно повторил архонт.
– Но что бы тогда прибавили твои слова?
– Тридцать камушков, мудрый Сократ, а, может, и больше… Ведь архонт Тиресий не последний человек в Афинах.
Сократ наконец все понял, повинно затряс головой:
– Ах, Сократ, Сократ! Сколько раз ты, беззубый мерин, можешь оступаться на одном и том же месте? Неужели ты не понял, что важно спасти не человека, а будущего тюремнего архонта или, еще того лучше, басилевса? Какое надежное средство смягчить судейские сердца! Но скажи мне, архонт, разве достойны уважения торговцы, берущие разную цену за один и тот же товар?
– Как это могло случиться? – горестно вопрошал Тиресий. – Почему я не сделал этот очевидный ход? Да, клянусь богами, я немного сомневался: а вправду ли ты мой спаситель? Не произошло ли ошибки? Но разве я не мог встать и спросить: «А скажи мне, Сократ, какой был пояс на всаднике?». И все стало бы ясно. И мне, и судьям. Твоим обвинителям пришлось бы винить не меня, а многоликую Судьбу, сведшую нас у стен Делия. Клянусь прозорливостью Зевса, я ничем не рисковал. Проклятая привычка выжидать, взвешивать все, как при игре в шашки! И что теперь без толку перемалывать зерно слов? Из них все равно ничего не испечешь, кроме поминального пирога. Я не прощу себе… Тише! – раздраженно проговорил архонт и потряс свитком папируса, неожиданно очутившимся в руке. – Тише, афиняне! Почему такой шум? Я хочу сказать: Сократ, сын Софрониска, признается не… – Он мучительно прислушался к глубокой, светло звенящей тишине. – Откуда здесь цикады?
– Это сверчок! – мягко сказал Сократ. – В двух локтях от тебя, возле порожка, живет сверчок. Славное домашнее существо.
– Похоже! – согласился архонт, вглядываясь в клубящиеся щупальцы темноты. – Надеюсь, здесь никого больше нет. Я хочу сказать тебе, Сократ, – продолжал он, переходя на доверительный шепот, – что твоя казнь откладывается…
Старик знал, что откладывается, однако не перебивал архонта.
– Приговор может быть приведен в исполнение только после того, как священный корабль с нашими хоревтами и посольством вернется с Делоса, родины Аполлона. Ты знаешь: на острове очередные торжества в честь победы Тесея над быкоголовым чудовищем Минотавром. Укоротить жизнь человеку в эти дни – клятвопреступление. Тебе повезло, Сократ! Сам Тесей и властитель морей Посейдон взяли тебя под защиту. Море поднялось на дыбы, как разъяренный зверь. Только безумец отважится возвращаться в Афины по шумнокипящим зыбям.
– Хвала Герою и Земледержателю! – Философ благодарно приложил руку к сердцу. – Они подарили Сократу тридцать дней и ночей. Благодаря им я сумел заполнить досуг философскими разговорами с друзьями и наконец-то взнуздал эту норовистую флейту. Третьего дня я довольно сносно сыграл свадебный гимн Платону и Херефонту, Правда, мне не хватало воздуха. Но что поделаешь? – Сократ грустновато улыбнулся. – Старому флейтисту обычно не хватает воздуха.
– Море еще кипит. «Паралия», наверное, сушит на берегу свои бока… – излишне бодро сказал Тиресий. Сократ кивнул головой и опустил глаза: ему было известно, что государственный корабль «Паралия» после тридцатидневного отсутствия возвратился в Афины.
– Хайре! – торопливо, словно боясь продолжения разговора, попрощался архонт. – Завтра, на рассвете, мы оставляем Делий. Мне нужно проверить посты. Лебедь, где ты? – позвал он, чмокая губами.
Из темноты высунулась старая лошадиная морда. Левый глаз мертвенно отливал бельмом.
– А где же мой пояс? – Архонт ощупал заплывшую жиром талию. – Возница! Негодяй! Он стянул мой пояс! – Тиресий наступил на голову приземистой тени и принялся затаптывать ее. – Какой подлец! Я убью его!
– Успокойся, Тиресий! Ты спугнешь сверчка.
– Смиряюсь! – сказал архонт, отрывисто дыша. – Сейчас не время сводить старые счеты. Нужно торопиться, Сократ! Завтра, на рассвете, мы выступаем к Прометеевым горам. Тебе, как и в прошлый раз, придется охранять обоз. Советую хорошенько натереться маслом и обернуть ноги овчиной. Путь труден. Эниалос! – Архонт тронул позеленевшую холку коня, попытался вспрыгнуть с лихостью молодого кавалериста, но лишь беспомощно прочертил ногой по провисшему животу. – Проклятье! А где же мой конюх? Демад, помоги мне!
Продолжая взывать к Демаду, Тиресий кружил возле коня, который, непрестанно кланяясь, объедал факельные языки, красные, как лепестки мака. Он жевал их безо всякого удовольствия, отдавшись укоренившейся привычке что-то жевать, и с каждым сорванным огненным листком вокруг делалось темнее.
Отдали свет, почернели факелы. Лишь на столе, заваленном снедью, розово горел осколок смолистого дерева, распуская тонкие завитки душистого дыма. И призывные крики Тиресия сгасли, отдаваясь занудливой мелодией в ушах.








