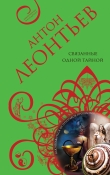Текст книги "Куда ведет Нептун"
Автор книги: Юрий Крутогоров
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Колокола всех «сорока сороков» наполняли небо медным, долго не утихающим гудом. Когда рядом с Гостиным двором спросонья, поначалу как бы прокашливаясь, бухал колокол ближней церкви, стекла в оконницах отзывчиво дзинькали.
Отец с утра убегал в приказы, а Ваське полная воля.
Из самой древности вспорхнул двуглавый орел на Спасские ворота. Из прохода, как в трубу, дул ветер, поднимая полы кафтана. Слепил позолоченной медью девяти своих главок Благовещенский собор. Оружейная палата, Кутафья башня, Троицкое подворье, соборная церковь Блаженной девы Марии, двор Годунова… Васька ходил по кремлевским площадям, дивился увиденному, не веря, что все это можно сотворить руками.
Отец вернулся в Гостиный двор с высоким, долголицым господином.
– Знакомься, сын. Иван Родионович Челюскин. Из Перемышльского уезда.
Вася поклонился в пояс.
– Стряпчий, он же законник, он же ходатай по делам обиженных вдов, бедствующих солдат, а также малолетних недорослей, влекомых к добрым помыслам, – назвался калужский господин. Лицо его было побито оспой, косица, подвязанная черной ленточкой, лежала на спине, большие уши шутовски оттопыривались. – Один бегаешь по городу?
– С кем же еще, Иван Родионович, – сказал Василий Парфентьевич. – Я все по приказам.
– Завтра приведу своего «навигатора». У него теперь каникулы, бьет баклуши.
И привел на следующий день своего «навигатора». Это был детина лет пятнадцати, розовощекий слепок с отца – долголиц, уши оттопырены, рыжина на башке, а поверх буйной рыжины – шляпа с оловянным круглым значком.
– Семен Челюскин. Сенькой звать можешь. – Засмеялся. – А на шапку не зырься. По Сеньке шапка. В Навигацкой школе всем дают такие.
Челюскин хорошо знал Москву. Он чувствовал себя истинным лоцманом в городском безбрежье. Уходили спозаранку. Только-только откидывались ставни в слободах. Нищие и калеки тянулись к папертям. Крючкотворы-подьячие в длиннополых кафтанах брели в приказы. У многочисленных питейных заведений – аптек – толпилась разношерстная, алчущая голытьба.
Каждая слобода отличалась своим цветом и запахом.
Улица Поварская, возле Арбата, раскинула вокруг себя тьму кривых, коротеньких переулков с аппетитными именами – Хлебный, Столовый, Скатертный. Вкушай бесплатно запахи ароматных выпечек, жарений, солений, варений. Тут обитали приспешники придворного столового обихода. На обширных лугах Остожья подле Новодевичьего монастыря паслись стреноженные кони, высокие стога пахли бурьяном и ромашкой. Пылали уголья в горнах Кузнецкой слободы. В слободе Сыромятной витал запах кислых распаренных кож.
Побывали и в слободе Хамовной.
– Тут ткут белую казну, – сказал Челюскин.
– Это что?
– Да полотно разное, бурнусы, скатерти, парусину.
– Для парусов?
– И для парусов.
Поели жареных пирогов с потрохами, сбитня.
– Чему учат в твоей Навигацкой школе? – спросил Васька.
– На штюрмана учусь.
– Это кто – штюрман?
– Ты какого уезду?
– Ну, Тарусского.
– Все тарусские такие темные? Морское звание – штюрман. Затерялся корабль в море – тут без штюрмана никуда. Он сразу по карте определится. Навигация, брат.
Штюрман, навигация, море, паруса – слова новые, далекие, не из московской, а из какой-то другой жизни.
– А ты море видал?
– Море? – переспросил Челюскин. – Не видал. Вот стану гардемарином – пошлют. Но до этого еще учиться ой-ей-ей сколько.
– У нас по весне Мышига разливается – что тебе море.
– А у нас возле Перемышля река Квань, слышал? В половодье другого берега не видать. В Оку Квань впадает.
– Врешь.
– В Оку.
– И Мышига в Оку. Смотри, на разных речках живем, а оба в Оку впадаем. Как два кораблика.
– Чудной ты! – усмехнулся Челюскин.
– Зато я алфабит знаю. Дьяк обучил. – Надо же было хоть чем-нибудь удивить этого рыжего.
– По какой книжке?
– Смешная такая. Азбука о голом и небогатом человеке.
Сенька двинул кулаком в Васино плечо.
– Послушай, да мы с тобой из одной азбуки вышли. Я тоже по ней алфабит учил. Ей-богу! – Челюскин скорчил постную физиономию, гнусаво пропел: – Аз есмь голоден и холоден, и наг, и бос, и всем своим богатством недостаточен.
Прончищев живо подхватил:
– Бог животы мои ведает, что у меня нет ни полушки.
– Ведает весь мир, что мне ни пить, ни есть нечего и взять негде, – гундосил Челюскин.
Частя, как пономарь, Васька забубнил:
– Говорил было мне добрый человек…
– Добрый был бы он человек, ежели бы свое слово не переменил.
А Прончищев смешно жаловался:
– Есть у людей много всего, денег и платья, только мне не дают.
– Живу я на Москве, поесть мне нечего и купить не на что, а даром не дают. – Будущий штюрман умирал со смеху.
Августовское солнце нещадно палило.
По бревенчатой мостовой спустились к Москве-реке. Вода спеклась от жары и истомы, казалось, течение остановилось.
– Во бедолага! – Невезучий и ноющий человечек из алфабита все еще не дожаловался до конца, и Прончищев никак не мог успокоиться: – На какую букву ни ткни – одни напасти. «Шел бы в гости, да никто не зовет. Щеголял бы хорошенько, да не во что».
– Довольно, – сказал Челюскин. – Еще какую беду накликаем. А вообще ты ловко бедолагу показываешь. Лицедей.
– Кто лицедей?
– Да ты.
Васе захотелось сказать рыжему что-то едкое. Не нашелся.
– Пойду, пожалуй.
– Ох, ох, губы надул. Лицедей – разве обидное прозвище? Ахтер это. В театруме был когда?
– В театруме? – Нет ли здесь подвоха какого, от этого штюрмана чего не дождешься.
– Ну где представления показывают?
– Не был.
– Эх ты, русский-тарусский. Ладно. Сегодня понедельник? Как раз фарс показывают.
…Театрум, по-другому комедиальная храмина, находился позади собора Василия Блаженного. Арлекин в тесной будочке продавал билеты – по 10, 6, 5 и 3 копейки.
Кареты подкатывали к подъезду. Проплывали напудренные парики. Мелькали цветные шелка. Высокие прически боярских барышень в виде парусников, голубей с распростертыми крыльями – взмахни ими, и воспарит барышня под купола Блаженного. Позванивали шпоры-колокольцы на офицерских ботфортах. Сладкий ветерок духов сменялся запахом ворвани.
Грянула музыка на хорах. У певчих разом раскрылись рты ноликами:
– Радо-о-о-ость… – Долгое, протяжное «о» вытягивали из них музыканты. – Радо-о-о-о-сть моя паче меры, утеха дра-а-ага-ая. Неоценимая краля, ла-а-ап-у-ушка-а мил-а-ая. И весела-а-а-а-я…
– Это фарс? – тихонько шепнул Вася.
– Менувет. Занавес откроют – будет фарс.
– И весела-а-а-ая, приятная, где теперь гуляешь? Стосковалось мое сердце, пошто так дерзаешь?
Две половинки занавеса поползли в сторону.
Музыка на хорах смолкла.
«Честный изменник» – так назывался фарс.

Вокруг цветочной клумбы – настоящая? – обмахиваясь веером, прохаживалась удивительной красоты женщина, ее звали Алоизия. Ее муж Арцуг сорвал розу – неужели настоящая? – понюхал, больно укололся о шипы. Он упал в обморок, однако быстро очнулся.
– О, как мне учинилось! – пожаловался Арцуг.
– Любовь наша изволила напасть на изрядный цвет, но единая капелька крови вас устрашила и на землю опровергла, – укорила мужа прекрасная Алоизия.
– Верный влюбленный всегда есть пужлив, – сказал Арцуг. Он был смешон и нелеп. Его было совсем не жалко.
И правильно, что Алоизия обманывала его.
– Любовь моя есть к вам вечная, – весело говорила Алоизия, и всем было понятно, что любит она молодого маркиза Альфонзо. Вот это кавалер: черноволосый красавец, талия тонкая, в движениях легок, воздушен.
И какие замечательные слова говорил он своей возлюбленной, когда противный Арцуг ушел со сцены:
– Я принужден говорить, что люблю вас. Вы есть моя самая красивая Венера.
– О, каково утешение! – Алоизия счастливо бросалась в объятия Альфонзо.
Смешно. Грустно. Необычно.
Стрелялись. Дрались на шпагах. Тщедушный и коварный Арцуг подстраивал убийство гордого и смелого маркиза Альфонзо, и у того по расшитому камзолу текла кровь – настоящая? Он умирал со словами любви на устах, ни на минуту не усомнившись, что пылкая страсть выше самой смерти. И, будь его воля, принял бы вторую смерть ради чести, во имя благородного служения даме сердца.
И можно было понять сидящую рядом с мальчиками барышню, которая одной рукой сжимала локоть кавалера, а другой батистовым платочком утирала невольные горючие слезы.
Отец никогда не говорил о любви покойной матушке. Васина память вбирала каждое словечко воистину замечательного фарса, и попроси кто, сейчас же смог бы воспроизвести слова всех героев.
На антресолях запела одинокая скрипка. Сама любовь пела.
Они уже вышли из театрума, а скрипка пела, пела, пела…
Никакими простыми, привычными, грубыми словами нельзя было выразить то, что испытал Вася. Это был один из самых прекрасных дней в его жизни.
Отец вернулся в Гостиный двор за полночь. От него несло вином. Отстегнул деревяшку, швырнул ее в угол. Видно, поиски правды окончились очередным поражением. Да и вино не прибавило веселья.
На следующий день отец и сын Прончищевы покинули Москву.
«ЛЮБОВЬ МОЯ ЕСТЬ К ВАМ ВЕЧНАЯ»В августе серпы греют, вода холодит, дело привычное.
По утрам Вася вместе с дворовыми мужиками и ребятней спешил за Мышигу. Коса наточена, трава высокая. Низкий туман, холодя ноги, отступает к реке.
Валить траву Вася научился сызмальства.
Вместе с закадычным дружком, татарчонком Рашидом, Вася бежал за осиновую рощу. Там, близ неглубокого лесного озера, затерялся облюбованный лужок. Трава – по пояс.
Татарчонок поплевал на ладони:
– Пошла косить.
Косы разбегаются в лад – влево, вправо, влево, вправо.
Несколько лет назад отец из-под Азова привез в Богимово татарскую семью. Богимовские мужики по-доброму отнеслись к «махметкиным сынам», а малолетний Рашид был взят в господский дом для услужения. Рашид всякое слово своего юного хозяина ловил на лету. Плотно сбитый, черноглазый, подстриженный под горшок, он шариком катался по дому, по двору: колол дрова, носил воду, растапливал печи, сбивал масло, точил ножи, топоры, счищал в дымоходах гарь. Савишна его к рукам прибрала:
– Рашид, ты ба огород пополол, ты ба корыта свиньям налил. Ты ба…
Когда спрашивали, как его зовут, татарчонок отвечал:
– Махметское – Рашид. Русское – Тыба.
И стриг траву ровненько, под «нолик».
Часам к девяти утра лужок скошен.
Попили молока, умяли приличную краюху хлеба. Искупавшись, разлеглись на песчаной косе Мышиги. Вася нарвал букет сон-травы и поднес близко к глазам стебелек. Чашечка – шесть фиолетовых лепестков – кругло и нежно обволокла тычинки. Вот какой букет дарить Алоизии!
– Рашид, а где я был в Москве! Чего видал!
– Где был?
– Где был, там теперь уж нет.
– Зачем тогда спрашиваешь?
«Где бы я ни был, куда бы ни забросила меня судьба, а любовь к Алоизии пребудет в моей натуре до скончания дней» – так, умирая, еще не зная, что умирает, восклицал маркиз Альфонзо.
– Был в театруме. – И Вася рассказал Рашиду про Арцуга, Алоизию, маркиза Альфонзо.
Татарчонок опечалился:
– Зачем убили маркиза?
– Из-за любви. А как на шпагах дерутся! Из пистолета стреляют…
– По-настоящему?
– Понятное дело, по-настоящему. Бах, бах, бах!
Вася вскочил, размахивал руками, подпрыгивал, изображал в лицах всех героев фарса.
После обеда на дрожках прикатил Федор Степанович Кондырев с дочерью. Василий Парфентьевич обнял любезного друга, повел в дом изливать душу. Таня же немедленно потребовала у Васи показать ей голубя, что, как мужик, хохочет.
– Ты обещал!
Пришлось лезть на чердак – показывать «египтянина».
– Почему он не хохочет? Пускай хохочет! – требовала девочка.
– Не в духе он.
– А я хочу.
– Ладно, сейчас ты сама расхохочешься, – озлился Вася. – Полезли вниз.
Он повел Таню в свою комнату, разложил картинки, которые отец купил в Москве. На картонном листе был показан мужик, падающий с полатей на люльку с ребенком. Два господина в круглых шляпах подняли бокалы, да так и замерли от удивления. Девочка лет шести вытянула руки, желая отпихнуть от люльки мужика, сверзившегося с полатей.
– Видишь девчонку? Патлатая, нос морковкой, лицо преглупейшее. Это с тебя рисовали.
Сказал и тут же пожалел – плача не оберешься.
Таня насупилась, однако не почувствовала себя оскорбленной. Ткнула пальцем в мужика:
– А этот дядька – ты. Сейчас как грохнется – так тебе и надо.
Вася с интересом поглядел на шестилетнюю девицу. Рассмеялся.
– А ты, как я погляжу, бойкая. Ну, бесовское племя…
– Какое племя? – не поняла Таня.
– Послушай, хочешь в театриум играть? – неожиданно предложил Вася.
– Если научишь.
Вася выбежал на крыльцо, позвал Рашида. Тот явился перед молодым барином как лист перед травой.
Рашидка уселся на табурет. Вся его плотная фигурка изображала безраздельную готовность выполнить любое приказание.
– Будем играть в театриум. Я буду… Ну ладно, я буду Арцугом. Ты, Рашидка, будешь Альфонзо. А ты… – Вася погрыз ноготь. Уж очень не походила эта настырная девица на прекрасную Алоизию. Но делать ничего не оставалось. Черт с ней, пусть будет Алоизией.
Вася вынул из кувшина с букетом сон-травы один цветок.
– Это роза. Шипы на ней.
– Это не роза, – сказала девочка.
– По пьесе как будто роза. Ясно? И вот я укололся. И упаду в обморок. Полежу чуток и крикну: «Как мне учинилось!» А ты, Танька, скажешь: «Любовь наша изволила напасть на изрядный цвет». Повтори.
Таня повторила.
– Я теперь скажу: «Верный влюбленный всегда есть пужлив». А ты, Танька, запомни, скажешь: «Любовь моя есть к вам вечная». Тут я уйду. А ты, Рашидка, на колено встанешь.
Рашид опустился на колено.
– Да не сейчас, потом. Главное, слова запомни: «Я вынужден говорить, что вас усердно люблю. Вы есть моя красивейшая Венера…»
– Венера – кто? – перебила Таня вошедшего в азарт Васю.
– Красавица такая, небесная. Ну-ка, Рашид.
– Я принужден вас любить усердно, – сказал татарчонок. – Вы моя красивейшая… Фанера.
– Венера, Венера, Венера, дурак!
Рашид радостно вопил:
– Венера! Венера! Венера!
– Хорошо, – одобрил Вася. – Повторим. Я укололся. Брякаюсь в обморок.
Вася подцепил стебелек сон-травы, скривился от боли, пошатнулся, грохнулся на пол. Простонал:
– «О, как мне учинилось!» – И подсказал девочке: – «Любовь наша изволила напасть на изрядный цвет…»
– Знаю сама. – Девочка сделала изящный реверанс и томным голосом сказала положенные слова.
В комнату вбежала нянька Савишна:
– Васенька, господи, не зашибся? Слышу, упал со стоном.
Вася сплюнул от досады. Всю пьесу, старая, испортила.
Скоро Кондырев позвал дочь.
– Я когда приеду в другой раз, доиграем в театриум?
– Доиграем, красивейшая Венера-Фанера.

Глава вторая

ПОБЕДА ЛЮБИТ ПРИЛЕЖАНИЕ
Примерно в те же дни корабельный мастер галерных верфей Борис Иванович Лаптев приехал в деревню Пекарево, что близ Великих Лук, проведать братьев Прокофия и Якова. Застолье растянулось по русскому обычаю на несколько дней.
Прокофий чудно играл на цимбалах, с оттяжкой, удальски ударял крючочком по струнам, брат-петербуржец отделывал коленца:
– Ах, лапти, вы лапти, вы лапти мои… – И пронзительно восхитился: – Лапоточки-и-и-и-и!
Прокофий и Яков забубенными голосами вплелись в лихой припляс:
– Лапоточки-и-и-и-и!
То была любимая фамильная песня. Может быть, тут сказалось то, что древний корешок дворянского рода вел начало от опричника Варфоломея по кличке Лапоть. На одном из цветных изразцов домашней печи вязью начертаны хитроватые слова: «На дорогу идти – пятерым лапти сплести».
Борис Иванович лет пятнадцать назад по царскому указу ушел из дому в дальнюю дорогу – строил верфи под Воронежем для азовского флота, ладил струги и галеры. Обласканный за точное ремесло, был призван царем Петром в столицу.
Жил бобылем, детей не имел. Самые дорогие подарки привез племяшам, пятнадцатилетним недорослям, двоюродным меж собою братьям – Харитону и Дмитрию. Парни натянули на ноги юфтовые башмаки с латунными пряжками, облачились в рубашки с красными подмышками. Дворовая ребятня восхищалась: «Пряжки-то, пряжки! А рубахи-то на иноземный манер шиты».
Петербургский дядька с первых же дней начал завоевывать души Харитона и Дмитрия. Свой резон был.
Годов ему под сорок, а резвость ребячья. Необычной командой будил утром:
– Эй, марсовые, айда на Ловать купаться!
Шумно, как лось, продирался сквозь кусты крушины, на ходу вылезал из рубахи, с гиканьем хватался за конец веревки, что висела на суку вербы, и, раскачав ее, с поджатыми ногами плюхался прямо в середку Ловати. Урчал, шипел, блеял, подняв безбородое лицо к восходящему солнцу. Орал что есть мочи:
– Непотре-е-ебе-ен без гро-о-ому-у!
Подплывал к кому-нибудь из племяшей, шустро подбивался под живот, белоспинной рыбиной выплескивался наружу, переворачивая племянника с живота на спину, а то и утопляя.
– Горе тому, кому достанусь!
По течению добирались до небольшого островка. Здесь у парней на отесанных палках стоял шалаш-треух, а в потайном уголке – фитилек с кремнем, бачок, крупа, соль, лук.
Минутное дело – наловить рыбы в Ловати.
Вскоре на огне, подгоняемом речным ветром, кипела уха-ушица.
Дядька вырвал из шалаша три палки.
– Учиться рапирному бою, марсовые!
Марсовые наскакивали на дядьку, пытаясь поразить его в самое сердце. Но дядька владел палкой не хуже, чем саблей. Делал неожиданные выпады, выбивал «рапиры» из рук племяшей, повергая их наземь:
– Победа любит прилежание!
Не спуская с дядьки восторженных глаз, ожидая от него новых чудачеств, парни, обжигаясь, хлебали уху.
– А Нева с Ловать будет или пошире?
– Нева-то? Ого-го. Ширина! – Дядька развел руки, уважительно осмотрел пространство меж ладонями. Стало ясно: Неву с Ловатью сравнивать нельзя. – Холодюща-а-я!
И так сказал – зябко стало. Можно подумать, Борис Иванович умеет восхищаться среди прочих рек лишь Невой-рекой, державной, суровой, широкой. Нет, совсем не так.
– А Ловать глаз веселит. Лапоть знал, где селиться. Где Лапоть, там Ловать.
Борис Иванович исподлобья разглядывал племяшей. Какие же они разные. Харитон носат, бульба – не нос. Хрупок, увертлив. Лежит на спине, облокотившись на худые локти, колени подогнул – кузнечик. Губы круглые, глаза узкие: хитрован-иваныч. Дмитрий в плечах пошире и ростом повыше, чернобров, ох, девки любить будут! Глаза вопрошающие. Словно раз удивился в далеком детстве и все удивляется. Дмитрий как лег на песок – не шелохнется. Харитон, в отличие от брата, ни минуты на месте не усидит. То на руках пройдется, то сиганет над костром, то, подражая дядьке, заголосит во всю ивановскую:
– Непотребен без грому!
– А как понимать: непотребен без грому? – спрашивает Дмитрий. – Присловье такое?
– Нет, братец ты мой, не присловье, – сказал Борис Иванович. – Военного флота секрет.
– Никому и сказать нельзя?
– Никому. – Губы тонко сжал, запечатался, как конверт с тайной бумагой. – Но вам, марсовые (распечатал конверт, распечатал!), но вам – скажу. Слова сии есть боевой девиз корабля «Барабан». Строили на реке Воронеж галеры – воевать янычар под Азовом. Петр Первый приказал день и ночь быть на верфях. Тысячи народу со всей России собралось. Надо флот к весне поставить.
– Поставили?
– А как иначе? Каждому судну имя присваивали. Да позвончее. Помню, спускали галеру, судили-рядили, как обозвать ее. Для пущего устрашения врага. Царь наказал: числиться кораблю «Барабаном». А девиз ему такой пристал: «Непотребен без грому».

– Звонко!
– А ты как, Харитон, думал. Матрозы и офицеры вполне довольны. Девиз силы прибавляет, дух боевой укрепляет.
– А какие были другие корабли?
– Да много. Целая флотилия. Был, помню, корабль «Бомба». Да, да, «Бомба».
– И девиз был?
– Ясное дело. «Горе тому, кому достанусь».
Харитон смотрел на широкую курчавую грудь, мощную короткую шею Бориса Ивановича. А хорошо, что им такой дядька достался. Ну когда и кто из взрослых так серьезно и в то же время весело разговаривал с ними?
И Дмитрий восхищался, влюбленно ловя каждое слово петербургского родственника. Конечно, и их отцы лыком не шиты, хоть и Лаптевы. Но нет того задора, удали. Та же кровь, лаптевская, черт возьми, но точно из другого рода-племени. Флотский человек. Неужто все флотские такие?
– Была еще галера «Рысь». Имя звериное, а девиз с намеком – «Победа любит прилежание». Строил судно «Колокол». Тут ведь как понимать? Колокол – он по чьей-то гибели звонит. Ясно, по чьей. И девиз «Колокол» получил не без умысла – «Звон его не для него».

– Для янычар!
– Для шведов!
Тут племяши показали, что сами кое-что соображают. И дядька похвалил их:
– Всю российскю политику разобрали. Про Гангут-то слышали?
Недоросли не слышали. Даже, прямо скажем, оплошали.
– Гангут кто – адмирал шведский?
Чего с них возьмешь, с недорослей деревенских? Борис Иванович прутиком начертал на влажном песке овальный круг. Провел вбок от круга загогулину, похожую на ступню: пятка широкая, нос узкий. На конце загогулины вдавил в песок ракушку, к узкому Носу приставил скорлупку ореха лещины.
– Такая вот, марсовые, позиция. Круг – Балтийское море. Загогулина – Финский залив. Ракушка – Санкт-Петербург. Ну а скорлупка сойдет за мыс Гангут. Уяснили?
– Ну?
– У Гангута встретились наша и шведская эскадра. Бой разгорелся нешуточный. Крепко мы раскололи шведский флот. Одни скорлупки остались.
Скорлупка лещины наглядно подтверждала дядькин рассказ.
– А ты в той баталии был?
– Галеры мои были. На абордаж шведов брали.
Дядька победно воткнул в песок напротив ракушки кругляшок гальки.
– Остров Котлин. Тут теперь крепость Кроншлот. Сунься кто к Санкт-Петербургу – на бомбу и налетишь.
Так дядька-хитрец мало-помалу обращал племяшей в новое, флотское родословие.
Густо плыли облака, светлые в зените, темные к горизонту.
– Как парусники, – отметил Харитон. На Чудском озере он видел узкогрудые боты.
Дмитрий приложил к уху перламутровую ракушку – молчала. Поглядел на свет – розово загорелась.
– А сколько на фрегате или бриге пушек?
– Где двадцать, где тридцать. А па линейном корабле все шестьдесят.
– Ого! Разом выпалят, так не обрадуешься.
– Гром и молния! – подтвердил дядька.
– Галеры трудно ладить? Весел одних небось сколько.
– Бывает, марсовые, по сорок пар.
– Ничего себе. Весла тяжелые?
– За одно весло, бывает, до двадцати гребцов садится.
– И пушки есть на галерах?
– И пушки, и бомбардиры. Сам Петр Первый числит себя бомбардиром. Флот, говорит, есть вторая рука матушки-России.
Зазвонили к обедне.
– Колокола громкого боя! – ахнул от удовольствия Борис Иванович.
– Тишка. Звонарь. Новые била недавно приладил.
Большой колокол вздыхал басовито, жалуясь на свою тяжелую, подневольную службу: ох, ох, ох. Малые колокола пытались звонкой скороговоркой развеселить его, как веселят колокольцы на скомороховой шапке.
Харитон вспрыгнул на руки, обезьянничая, прошелся вокруг костра. Надул щеки:
– Бом, бом, бом.
Борис Иванович, однако, не рассмеялся. Напротив, досадливо поморщился:
– Звон у тебя в башке, парень.
Жевал сухую травинку. Выплюнул.
– «И будет он как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит свой плод во время свое и лист которого не вянет. И во всем, что он ни делает, успеет».
Псалтирь. Племяши читали его. Дьяк учил.
– Читать мало. Думать надо.
– А чего думать?
– Как дальше жить, вот об чем думать. К чему руки да башку приспособить. Дабы дерево свой плод приносило.
Вот и пойми. Только что дядька был свойский, роднее нет. А тут отдалился, в себя ушел, как улитка в свое костяное логовище.
Дмитрий пересыпал песок из ладони в ладонь. Зыбкая струйка тонко текла, как в песочных часах. Сам того не ведая, исчислял новое свое время.
– Гляжу на вас, племяши, печалюсь.
– А чего печалиться? – Харитон еще не остыл от своей обезьяньей проделки. – Погоди, завтра в такой малинник тебя поведем.
– Что малинник! Боюсь, как бы лист не завял.
Опять загадка. Харитон, впрочем, и не собирался ее разгадывать.
– Зима еще не скоро. Зарево кончится, а там засидки. Рыжики пойдут, белянки, грузди.
– Засидки – хорошо. Не боитесь засидеться? – Борис Иванович решил прямиком идти на штурм. – Не хотелось бы, племяши, учиться в школах?
– На дьяков?
– На флотских командиров.
– Ты учить разве будешь?
– Мое дело – слева. Морская академия открывается в Санкт-Петербурге. Как раз для дворянских недорослей.
– Академия?
– Царь Петр приказал ее открыть.
– А после академии чего?
– После? – Борис Иванович как-то очень вкусно сказал: – В потоки вод.