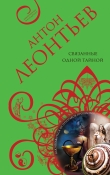Текст книги "Куда ведет Нептун"
Автор книги: Юрий Крутогоров
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Подвижка льда на Оленеке началась в конце июня. Хорошо, что осенью дубель-шлюпку загнали, как в стойло, в небольшую бухту. В противном случае ее бы ледяными жерновами перетерло.
Показал-таки Оленек свой характер!
Река начинает тихий свой путь с высоких кряжей. Горные ручьи с мышьим шуршанием рождаются в сугробах. Они сливаются в поток, ширятся, раздвигают камни, растачивают русло. Бег воды ускоряется по мере приближения к устью. Уже не горы – вся северная тундра отдает Оленеку растаявшие снега. И вот Оленек взбешенной холкой дыбится на стрежне, разрывая с пушечным гулом сверкающий панцирь. Разом потемневшие, растресканные льдины, убыстряя ход, напролом несутся к дельте.
Больше месяца длился ледоход. Лишь 3 августа в первом часу пополудни «Якутск» тронулся к взморью.
Еще раньше экипаж в полном составе был построен на корме.
Прончищеву хотелось перед дальней дорогой ободрить товарищей. Голос его звучал уверенно, молодо.
– Ледовитое море, сами видите, отпустило нам не много времени для похода. Меньше двух месяцев. Такая тут природа. Лиха испытали мы немало, что зря говорить. Сколько верст прошли, сколько рек и гор перевалили – не посчитать. Давайте же перевалим Таймыр! Не станем жаловаться на беды. Поднят на грот-мачте Андреевский флаг, не посрамим его славу. Он вел матрозов на турок, на шведов. А теперь, братцы, примем бой со льдами, какие встретятся.
…Дубель-шлюпка шла заберегом, чистою полосою воды между береговой линией с припайными льдами. Свежий ветер наполнил паруса.
Приближались к устью Анабары. Челюскин старательно выводил в вахтенном журнале: «Вышла сия река из лесных мест семидесятого градуса широты. А окончился лес в 71-м градусе. Грунт – мелкий камень».
Ничего не упустить. Все на заметку взять.
«С начала первого часа пополудни наблюдается прибавление морской воды. А в семь часов пополудни убывает. Так вода обращается два раза в сутки…»
Пригодится тем, кто следом пойдет. Через год ли, через десять лет. А пускай и век спустя.
В штюрманскую рубку заглянул Прончищев. Семен низко склонился над журналом – пришептывал про себя слова: «Привезенные с берега стволы по крепости своей… настоящим камнем сделались… от вод и морского воздуха…»
Вид у штюрмана печальный.
– Что грустен, Семен?
– А, это ты. Да вот корябаю и печалуюсь.
– Время нашел. Ходко идем. Ветер славный.
– Отчего в мире так много несправедливости? Какой-нибудь виршеплет сочинит гекзаметр. Ах, ох! Уже и имя в анналах. Богомаз красками намалюет на доске или холстине – туда же. Имя его у всех на устах. А кто о нас, штюрманах, словечко замолвит? Сколько мы с тобой, Василий, лоций перечитали. Все безымянные. Точно это писарская закорючка.
В ответ Прончищев залился смехом:
– «Аз есмь голоден и холоден, и наг, и бос, и всем своим богатством недостаточен». Утешу тебя. Пошли.
На капитанском мостике Прончищев сунул Семену зрительную трубку.
Впереди маячил неведомый остров. Груды камней. Чайки на скале. Посветлевшие от близкого дна прибрежные воды.
Матросы высыпали на палубу. Кто ж отсидится в такую минуту в трюме! Остров, остров! Еще никем не знаемый…
«Якутск» вплотную подошел к береговой полосе. Бросили трап. Сутормин понес на землю треногу из тонких палок. Челюскин подвесил под треногой квадрант. Струна натянулась. Отвесная ее линия означала зенит.
Жмурясь, Семен наблюдал за солнцем. Час, второй… Тень от колышков становилась короче. Вот она перестала уменьшаться. Штюрман навел на солнечный диск визирные нити диоптров. Нужный угол. Так, так… Он листал книжку с астрономическими таблицами. Вычислил местонахождение открытой земли. 74 градуса 25 минут.
Матросы наблюдали за действиями Челюскина. И когда он негромким голосом назвал координаты, четыре обычные цифры, команда возликовала. Полетели вверх шапки, рукавицы, латунные тарелки. Прончищев подошел к кромке зеленоватой воды, подсвеченной снизу придонным, никогда не тающим льдом, омочил лицо. Неподобающе своему лейтенантскому званию, обеспамятев, заложил пальцы в рот и выдал такой чистый деревенский свист, что хохочущие матросы кинулись его качать.
Качок, второй. Прончищев тряхнул головой, убрал со лба волосы и свистнул еще бойчее.
Послышались восхищенные возгласы:
– Сразу видать голубятника.
– Аж в ушах трезвонит.
Свистом Василий смахнул с прибрежных камней стаю морских чаек. Точно подхватив эту пронзительную трель и расщепив ее на сотни тонких ниточек беспокойного писка, чайки потревоженно зависли над островом.
Первому открытому острову дали имя самое простое – Каменный.
Название придумал Челюскин.
СКОРБУТНАЯ БОЛЕЗНЬДаже на большом корабле, не говоря о сорокапятиместной дубель-шлюпке, настроение командира, каждый его шаг, мимолетное замечание становятся известными экипажу. От моряков не укрылось, что в последнее время Прончищев сильно сдал. Болезненная бледность щек, веки припухшие, круги под глазами. Цинга. Она поразила уже нескольких членов команды…
Матросы Прончищева любили. Держит себя со всеми ровно. Никакой заносчивости. Не гнушаясь самой тяжкой работы, мастерил дубель-шлюпку. Со всеми наравне питался. То же варево из солонины, та же гречневая или пшенная каша из одного котла. Лишнего фунта коровьего масла не позволит. А ведь хворает.
Челюскин слышал, как матрос Федор Сутормин, стоя за штурвалом, делился с боцманом Медведевым:
– Ныне, Степан, лейтенант наш кровью харкал. Отер рот платком. Как красную малину в него собирал.
– Подлая хворь… Сегодня еще двое залегли.
Сутормин ругнулся.
– Что же наш лекарь глядит?
– Что лекарь? Нет лечения от цинги. Я еще раньше справлялся. Одно слово – цинга скорбутная…
– Скорбутная.
Боцман вздохнул:
– Татьяна Федоровна убиваются…
Сутормин крепко держал штурвал, поглядывал на компас.
– К нашим ныне приходила. К цинготным.
Таня навещала заболевших цингою матросов. То банку с вишней в патоке принесет. То кипяток можжевеловой лапкой заварит.
Близких рядом никого. Маются, бедняги. Рады ей в трюме. Хоть кровей и дворянских, а мужиков понимает. Поит больных можжевеловой водой.
– Спасибо за вашу заботу.
– Времени свободного много. Куда ж мне его девать?
Молодой матросик свешивает голову с верхней подвесной койки.
– Чего бы рассказали, Татьяна Федоровна. Занятно у вас выходит.
– Уж не знаю… Ничего и не припомню.
– А вы про любовь.
Она рассказывает про боярина Кучку, про двух его беспутных сыновей. Князь Данила призвал их к своему двору, и полюбились братья княжеской жене Улите Юрьевне. Всех трех дьявол разжег. И порешили влюбленные лютой смерти предать Данилу. Потом кара настигла злоумышленников. Князь Владимир братьев казнил, а Улиту Юрьевну – ту обезглавил.
Где там море Ледовитое, где шторма, где болезни? Слушают матросы лейтенантову жену. Цикают на того, кто кашлянет. Не мешай, дурень. Такая сказка. А может, не сказка. В жизни не такое бывает. Э-эх, неверная Улита, Улита Юрьевна. Да и братья хороши – на кого позарились?
Век бы слушать… Да вон склянки бьют вечернюю тапту. Наверх пора. Облачаются в парусиновую робу, напяливают меховые шапки.
Люк-окошко в небо заволокло водяной пылью. Подымайсь! Узенький трап шатается. Ступени скрипят под тяжестью башмаков.
Крупная волна отголоском вчерашнего шквала подкидывает судно. В снастях – вой. Весла вырываются, не желают признавать власти рук.
– Подмогнем, ребятки, парусам! Пашла, пашла, пашла…
А Таня остается в трюме с шестью цинготными больными.
Вздыхает:
– Вот такая история про Улиту…
Какое же плавание без происшествий? Об одном из них потом долго будут вспоминать моряки «Якутска».
Ночью вахту держал сам лейтенант. Дубель-шлюпка шла ходко, на парусах. Гребцы отдыхали.
Прончищев забросил лаг – определить скорость. Бечева, размеренная на узлы, разматывалась с катушки… И тут из трюма выполз Беекман. Он денно и нощно, словно алхимик, колдовал над каким-то пойлом, обещавшим победить цингу. Ему для опытов морская вода нужна. Опустил ведро в море, как в колодец. Налетела волна, тряхнула судно. Беекман не удержался. Голова лекаря скрылась в волне.
Прончищев сбежал по трапу, расстегивая на бегу суконную куртку. Успел только крикнуть:
– Штурвальный, бей в колокол!
Василий забыл снять башмаки. И сразу это почувствовал. Поплыл к Беекману, истошно взывающему о помощи. Рядом его лицо, сузившиеся от ужаса зрачки, трясущиеся губы. Лекарь пытался обнять Прончищева, но тот увернулся. Беекман на шее, башмаки, гирями висевшие на ногах…
– Дайте руку, Беекман!
Их накрыло волной, но Прончищев крепко сжал локоть лекаря.
Что было дальше, слабо помнил. Очнулся на палубе. Таня поднесла к его губам кружку спирта.
– Беекман. Как он?
– Господи, да вытащил же ты его…
Малосмешная эта история неожиданно приобрела в устах матросов веселый оттенок.
– И вот, значит, выходит ночью Беекман по малой нужде на палубу, – рассказывали острословы. – А тут рыба-кит. Тоже, значит, фонтанчик пускает. Ха-ха-ха!.. Беекман дивится. Видит-то без очков плохо. Что рыба – видит. А что кит – того не понимает. Вот бы, думает, изловить рыбешку голыми руками. Для опытов. Ну и давай хватать… Ха-ха-ха!

Ни Прончищев, ни Беекман не захворали после ледяной купели. Лишь Челюскин чертыхался, втихомолку крыл Василия на все лопатки. Сигать в море! О команде забыть! О должности!
Море все чаще штормило, дули пронизывающие до костей ветры. Волны терзали палубные постройки. Обломился форштевень. То и дело приходилось выкачивать воду из гребного отсека – порой отсек напоминал полное корыто. Люди с ног валились.
Через каждый час Челюскин и Прончищев менялись на вахте.
Жадно всматривались вперед. Вода. Вода. Вода.
Челюскин растирал задубевшие щеки. Подумалось о баньке. Похлестаться бы березовым веником. Побрызгаться из кадки горячей водой. Такие не хитрые мысли бродили в его голове.
В очередной раз приставил к глазу окуляр зрительной трубки. Ба, прямо по курсу, точно из-под земли, вырос крутолобый кряж. До него оставалось миль пять-шесть.
– Командира!
Прончищев не заставил себя ждать.
– Трубку!
Светлый кругляшок увеличительного стекла притянул к зрачку стесненное кряжами плато. Оно было серое, зыбкое, уходило далеко на север.
– Берег! – выдохнул Прончищев. – Таймырский берег…
Челюскин раструбом приставил ладони ко рту, огласил море диким, хриплым, срывающимся криком:
– Та-а-аймы-ыр по курсу! Та-а-аймы-ыр!!!
ТАЙМЫРПрончищев воочию представлял ледяную шапочку, надетую на макушку Таймыра. Скорее, скорее! Но кто знает, как велика протяженность восточного таймырского берега?
Измучили постоянные штормы. Они замедляли движение дубель-шлюпки, которая шла вдоль побережья полуострова. Таймыр сопротивлялся, жестоко мстил людям, которые захотели проведать его тайны.
Одно к одному. Одно к одному. Боцман Медведев докладывал: кончаются сухари, на исходе опостылевшая солонина. Всем осточертело варево из моченого гороха, мерзлой капусты, буряка.
Скорбутная болезнь мало-помалу собирала с экипажа свою смертную дань. Умерло трое матросов. Покойников, обернув парусиной, опустили за борт. Среди них был тот молоденький матросик, что просил рассказать Таню какую-нибудь занятную историю про любовь. Эта смерть как-то особенно больно отозвалась в Тане.
Ближе к вершине Таймыра – гуще туман. В ледяном крошеве шуршали борта. Хорошо, что в оленекском селении нарастили их бревнами. Дубель-шлюпка потеряла свои стройные формы. Лишь точеная лебединая шея на носу напоминала о былой красоте и соразмерности судна. Уж как хлестали волны это деревянное изваяние, а лебединая головка выныривала из воды всем чертям назло.
В ясную погоду, а она все реже баловала, вблизи берегов проглядывался донный лед – то светло-зеленый, то голубоватый, а то и вовсе неожиданный – с розоватым отсветом, как брюшко карася морского. Таня пыталась передать в своих рисунках эти обнаженные глубины. Но как уловить мерцающие блики льда, его переменчивое сияние? Рисовала кряжи, отмели, заваленные валунами.
Челюскин чертит карты. Много скажут они моряку, но разве о Таймыре не захотят узнать другие люди? Возвратятся в Санкт-Петербург. (Господи, когда это будет?) Прончищев представит адмиралтейскому начальству (и Берингу, Берингу!) свои записи, чертежи, съемки берегов. И тут жена лейтенанта раскроет свои папки. Вот то море. Берега. Бухты. Кто посмеет сказать, что капитан-командор ошибся, разрешив женщине вступить на палубу военного судна!
На широте 75 градусов 15 минут таймырский берег открылся широким зевом бухты. Вошли в нее.
Хорошо у огня погреться, обсушиться. Да и разодранные паруса подлатать.
Взяв все необходимое для рисования, Таня побрела по отливу. Поднялась на гору. Плато. Отсюда далеко-далеко виден залив. Из-под ног выпорхнула белая куропатка. Редкие стволики деревьев. Моховые подушки. Головки желтого мака.
Коротенький август, жалеючи Таймыр, не знающий полного лета, всей его зеленой нежности, позволил на малое время подняться из серого мха робким цветкам, проклюнуться листьям тальника. Скоро сентябрь загасит такие нестойкие, случайные здесь тона.
– А, вот где ты! – Прончищев вскарабкался на плато, отер со лба пот. – Ну, забралась. С трудом нашел.
Василий примостился на валуне, подставил лицо свежему ветерку.
– Хорошо! Век бы так.
– Может, останемся здесь?
– Пожалуй, – соглашается Василий. – Пусть сами плывут. Ну их!
– Ну их! – Таня в легкой шубейке, голова не покрыта, пальцы перепачканы красками. – Справятся без тебя. Подумаешь, лейтенант.
– Это верно. Чего уж там. – Прончищев глядит в небо, щурится. – А скажи по правде, жалеешь, что за лейтенантом пошла?
– Жалею.
– Вспоминаешь своего жениха?.. Как его, Михаила Яковлевича?
– Еще как.
– Сейчас бы в Летний сад побежала. Да нет, на собственной тройке бы покатила. Там новые статуи. А то какой-то залив рисовать. Да где? Куда и Макар телят не гонял.
– Ох, не знала бы горя, – говорит Таня. – Ела бы вволю чего хочу, Лушка в кровать кофий бы приносила…
Когда они вернутся на «Якутск», Таня попросит Василия подписать картонный лист. На уголке рисунка Прончищев напишет: «На широте 75 градусов 15 минут сей залив изображен Т. Прончищевой».
– Рисунок для твоего отчета в Адмиралтейств-коллегию, – скажет Таня.
А в это время контр-адмирал Дмитриев-Мамонов (тот, что судил Харитона Лаптева) читал секретное письмо, только что доставленное почтой из Якутска в Санкт-Петербург.
«…Сим также сообщаю о беззаконном действии помянутого командора Беринга. В нарушение всех установленных флотских предписаний он дал разрешение жене лейтенанта Прончищева отправиться в плавание на дубель-шлюпке „Якутск“. Дерзкий сей шаг г-на Беринга не может рассматриваться иначе, как толико возмущающий вызов Адмиралтейству и флотским святыням Российской Империи.
Вашему Превосходительству небезразлично будет узнать также о самоуправном поступке оного лейтенанта Прончищева. Находясь в Усть-Кутском остроге, учинил самосуд над местным воеводой г-ном Хоробрых. Возымев себя представителем законности, высек оного г-на Хоробрых плетьми. Буде на то ваше соизволение, готов засвидетельствовать свой репорт обстоятельными доказательствами. Того ради, прошу покорнейше сие сообщение приобщить к ранее посланным из Тобольска и Енисейска.
Ваше Превосходительство может не сомневаться в правдоподобии и честности всенижайшего и всеподданнейшего раба №».
И еще несколько дней.
О них расскажут страницы вахтенного журнала.
«…Следуя по курсу, увидели группу незнаемых островов. Меж льдов проходили с великой опасностью…»
Краткая запись. Первое свидетельство открытых прончищевцами островов Св. Петра.
«…Шли вдоль широкой полосы неподвижного ледяного припая. Увидели еще один незнаемый остров…»
То был остров Св. Андрея.
«…Видим перед собой стоячие льды. Они крепкие, гладкие. Приплесков никаких нет. Увидели залив…»
То был вновь открытый залив Петровский.
«…Низкая облачность. Впереди два острова, о которых никто не ведает…»
Так впервые на карту легли острова Св. Самуила.
Уже одних этих открытий иному путешественнику достало бы на всю жизнь!
Прончищев сиял. Даже скорбутная болезнь отступила. Таня подстригла мужа в кружок, оставив впереди лохматый чуб, отчего вид командира «Якутска» был самый мальчишеский.
– Он сейчас похож на того парня, – говорил Тане Челюскин, – который поступал в Навигацкую школу.
– Это сколько же годов сбросили мне острова? Два десятка! А перевалим Таймыр…
– А перевалим Таймыр, – подхватил Челюскин, – превратишься в калужского недоросля.
– Я бы рад.
У Тани на лице обида:
– А я куда денусь?
– Ты? А никуда не денешься… – Прончищев отталкивает Семена. – А ну, штюрман, не мешайся…
И опускается перед Таней на колени.
– «Алоизия, о, как мне учинилось! Любовь наша изволила напасть на изрядный цвет…» Как сказано, дьявол его побери! Нет, нет, это не из фарса. «…Но единая капля крови вас устрашила».
– Несносный! Ты меня пугаешь.
– «Влюбленный всегда пужлив», – шпарит Прончищев непозабытый текст. И, дурачась, тянет к жене руки. – «Верность моя к вам, Алоизия, неотменительная». Ну?
Василий нетерпеливо трясет головой: он требует немедленного признания.
Таня сдается:
– «Любовь моя есть к вам вечная…»
– «Но влюбленный есть человек отчаянный, – ревет Василий. – Он никогда не унывает. Жар-р-р мой есть к вам нестер-р-р-пимый». Рашид, давай дальше.
– Я не знаю, чего говорить. Я забыл.
– Ну, вестовой попался. Беспамятный. Вот, слушай: «Я принужден любить вас усердно. Вы есть моя красивейшая Венера!»
В большой деревянной клетке клевали зерно гуси, найденные Таней в тундре. Теперь они подросли, стали важными. Испуганные громкими голосами, гусак и гусыня захлопали крыльями.
Хохоча, Челюскин заявил, что Василий отменно справился со своей лицедейской ролью, в знак чего гуси выдали ему заслуженный «аплодисмент».
Рашид принес из поварни котелок с кипятком. Пили чай, дурачились, забыв о болезнях, льдах, штормах…
Дрейфовали все чаще. В тесных разводьях – как в сверкающих ущельях. Высокие стамухи – ледяные глыбы – вершинами нависали над палубой. Шли на веслах.
Где же оконечность Таймыра? Неужто не успеют проскочить до великих морозов? Прончищев садился рядом с гребцами. Брал в руки весла. Иногда проход между льдами сужался до ширины «Якутска». Вооружались баграми. Отталкивали торосы.
– Давай ее, ребята-а-а! Разо-о-ом взя-я-ли-и! Еще-е ра-аз…
Кто-то из матросов вплетал шустрый голос в этот гам:
– Верно бают: в августе мужику три заботы – косить, пахать и сеять. Да выходит, четвертая есть – льды толкать.
– На-ава-ались, ребята! Раз-два – взяли. Еще раз взяли!
Массивные глыбы, точно примериваясь и испытывая прочность деревянного суденышка, толкались в его бока. Отодвинутые баграми, вновь придвигались под напором белых громадин. Поначалу в схватке с северным морем в матросах, вчерашних крестьянах, ощущалась удаль. Так, поигрывая мускулами, прицеливаясь, мужики начинают пахоту или косьбу. Работа. И здесь они работали.
В Усть-Куте, где в побег ушло несколько служивых, Прончищев казнил себя, что неудачно подобрал команду. Зато остался костяк верных людей. Никто не роптал. А ведь видели – худо оборачивается дело. Напор льда усиливался; спасительная полоска воды на глазах сужалась; горлышко прохода не сулило открытой воды, где можно встать под паруса или просторно идти на веслах.
Тем не менее «Якутск» шел вперед, задевая бортами лед, скрипя обшивкой.
В бараньем тулупе, в громоздких бахилах, подвязанных под лодыжками, Таня орудовала багром. Ныли плечи, руки. Багор срывался, скользя по льду. Напрягаясь всем телом, Таня отпихивала торосы.
Встревоженные чайки верещали над головой. На дальние льдины вскарабкивались белые медведи. Позади «Якутска» показывались гладкие головки тюленей. Своей обычной жизнью жило северное море. Необычны были только люди с дрынами и веслами, с их нелепыми, такими беспомощными движениями.
– На-авали-ись, ребята!
Челюскин взбирался на марсовую площадку, вглядывался в бесконечные белые дали. Ледяное крошево тонкой штопкой забирало воду.
Внезапно, как молния в ночи, августовскую сырость пронзил крепчайший мороз. В близкой глубине из тонких игл рождался молодой лед. Так из искрометных крошечных рыбешек воссоздается цельная стайка. Коркой обросли снасти, стали ломкими, как выстиранные простыни на студеном ветру. За ночь в саванную одежду облачился корпус «Якутска». Весла стеклянно звенели. Торосы как-то сразу утеряли краски морской воды. Обесцветились.
На короткое время в толще тумана дымчато проявился солнечный диск. Луч не пробился, затушенный сырой хмарью. Но неважным был бы Челюскин штюрманом, когда бы упустил благоприятный момент и не уточнил, где находятся. Инструменты показали – 77 градусов 29 минут[2]2
Уже в наши дни гидрографы выяснят: дубель-шлюпка «Якутск» под командованием Василия Прончищева достигла 77 градусов 50 минут северной широты, что значительно выше, чем определил Семен Челюскин. Моряки были севернее крайней точки Таймыра, нынешнего мыса Челюскина. В XVIII веке таких координат не достигало ни одно судно – прончищевцы первые!
[Закрыть].
Раздался треск. Дубель-шлюпка наткнулась на подводный ледяной риф. Нос ее приподнялся. Судно откатилось назад.
Прончищев услышал истошный крик:
– Все, ребята! Нет дале пути…
Возглас как ножом полоснул. Прончищев больше всего боялся этой страшной минуты. Выскочил на палубу, спрыгнул вниз. Чистый просвет воды – он должен быть впереди. Непременно! Выколотят лед, прорубят затор, пройдут…

Ветер гнал в спину; рубаха холодила. Как был в одной рубахе, так, ни о чем не думая, сиганул на лед. Он не вернется, пока не увидит воду. Еще совсем немного… Вон за тем сверкающим надолбом. Там должна быть полоса незамерзшего моря. Но припаю не было видно конца. Ледяная пустыня погасила всякую надежду. А остановиться не мог. И наверное, не остановился, если бы его не догнал Челюскин.
– Василий, стой, опомнись! Ва-аси-илий…
Слезящимися глазами Прончищев смотрел на штюрмана.
– Семен, нет пути дальше.
– Назад пошли, чертова головушка. А ну, живо!.. Слышишь, что говорю? Совсем окоченеешь, с ума сошел…
– Что я, что я, что я? – Прончищев припал к груди Челюскина и вдруг стал оседать.
Штюрман поднял лейтенанта, запахнул его овчинным полушубком.
Лишь через час после укола Прончищев очнулся. За все время пути это был самый тяжелый приступ болезни. От озноба дрожали руки. Ноги застыли от холода.
– Танюша, достань шерстяные носки. Никак не согреюсь.
Таня полезла в сундук.
– Тут пакет какой-то…
– Пакет? A-а. Давай сюда.
Василий натянул на ноги еще одни носки. Развернул вдвое сложенный лист. Попросил Таню прочитать.
– «Василий Васильевич, – читала Таня, – когда вам станет трудно, призовите на помощь друзей. Среди них вы увидите Лоренца Вакселя. Я не смогу сказать лучше, чем поется в старой скандинавской саге. Вот она:
Знаю, ваше смелое и опасное путешествие.
Предпринятое ради великих дел,
Принесет вам удачу на всех путях,
Направляя вас, как попутный ветер.
Будьте благородны в своих поступках.
А теперь поспешим расстаться. Прощайте».
Мрачные, обросшие бородами, в капитанской каюте собрались Челюскин, Чекин и Беекман. Таня притулилась в уголке. Даже в полутьме голова Семена светилась рыжими вихрами. Чекин нервно потирал руки. Вид у корабельного лекаря был испуганный.
Прижавшись крылами, дремали в клетке гуси.
«Якутск» лежал в дрейфе.
Холодно. Как холодно! Таня запахнулась в платок, дула на руки. Железная печурка потрескивала дровами, а тепла нет. Как согреть студеную каюту? Щели в обшивке разукрасились изморозью.
Туман. Ледяные глыбы, взявшие дубель-шлюпку в клещи. Темная, пугающая глубина под килем. Могла ли она еще совсем недавно подумать, что будет это не во сне, а наяву?
Страха она не чувствовала. Была боль за мужа. Как он мучительно воспринял случившееся! Ведь знал север, повадки Ледяного моря. И все же надеялся…
Челюскин рассматривал карту, но ответа в ней не находил.
– Вооружиться баграми, выдираться из ловушки. – Чекин кивнул на иллюминатор. – Вон что делается. Не погибать же. Время для нас пошло на минуты…
…Вахтенный журнал «Якутска»: «20 августа в час пополудни лейтенант Прончищев, несмотря на то что болен, собрал в каюте младших офицеров. Состоялся совет. Решили, что находимся в великой опасности, вперед пройти нет никакой возможности. Каждую минуту рискуем быть затертыми льдами».
Запись сделал Челюскин. И хоть кошки скребли на сердце, крупными буквами, гордясь собою и товарищами, дописал: «ДО СЕГО ГРАДУСА ЕЩЕ НИКТО НЕ ПОДНИМАЛСЯ…»