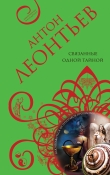Текст книги "Куда ведет Нептун"
Автор книги: Юрий Крутогоров
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Еще одного героя нашей повести, Харитона Лаптева, мы оставили в тот момент, когда, распрощавшись с братом и товарищами, он вернулся на Котлин. Здесь ждало его новое назначение – мичманом на фрегат «Митау». Это было новое судно, только что сошедшее со стапелей. Экипаж укомплектовали наиболее опытными офицерами.
Командир «Митау», капитан 2 ранга Дефремери, был молод, пылок, находчив. О мужестве этого француза, уже многие годы служившего в русском флоте, ходили легенды. Так, во время войны со шведами он с небольшой командой матросов пробрался на борт неприятельского брига, пленил капитана, доставил его на флагманский корабль.
Помощником Дефремери был лейтенант Вяземский, князь, человек древней фамилии.
Служебная карьера Харитона складывалась вполне удачно. Он был на виду у флотского начальства. Честолюбие его было вполне удовлетворено.
С Дефремери его связывали не только отношения служебные, меж ними установилась чисто человеческая приязнь. Командир безраздельно доверял своему мичману, ценил его честность, отличное знание балтийских лоций.
Лаптев платил Дефремери той же монетой.
Учения, маневры, походы к скандинавским берегам занимали все время мичмана.
В Адмиралтейств-коллегию было послано прошение о присвоении ему звания лейтенанта.
Разнообразили жизнь письма от Дмитрия и Прончищева.
Поначалу послания брата были длинные, обстоятельные. Описывал местности, мимо которых проезжал, рассказывал о своих адъютантских обязанностях. Харитон-то знал Беринга! Спокойной жизни возле него не жди! Жесток к себе, требователен к людям. Никому не даст отдыха-продыха. Но такой жизнью Дмитрий был доволен, радовался, что пошел в путешествие.
После Казани письма стали короче, сдержаннее. Дмитрий писал урывками, на ходу.
Счастливец Прончищев через каждую фразу упоминал Таню. Жизнь для него обрела новый смысл. Он писал: «Тонем в болотах, нас пожирают комары, грязь, едим порою лишь одни сухари, а как подумаешь, что рядом Таня, – все отходит в сторону, ничто не страшит. Мы, Харитоша, еще откроем такие берега!»
Звенела в его письмах еще одна струна – Таймыр! Какая в нем жила жажда разгадать эту загадку. И не пустое мальчишество им владело – нет, замысел был обдуман, серьезен, прям.
Каждому свое. Каждый свою дорогу выбирает.
В последнее время между Харитоном и Дмитрием пролегла легкая тень. Дмитрий считал, что они должны идти вместе, – вот возможность наиболее полно выразить себя, испытать себя. Они, кажется, впервые разошлись во мнениях. Ему интересна и дорога служба на Балтике. Что грешного в том, что он хочет здесь утвердить себя достойной офицера должностью!
Каждому свое, каждому свое…
Между тем в то самое время, когда наши путешественники, оставив Тобольск, углубились в самые дебри Сибири, в жизни Харитона произошли события чрезвычайные. Он попал в водоворот самых бурных конфликтов, связанных с внешней политикой державы.
Россия начала военные действия в Польше. Страсти разгорелись по поводу того, кому восседать на польском престоле. Политическая интрига напоминала своего рода запутанную шахматную партию: как и куда ходить королю. Возможно, это упрощенный взгляд на вещи, но что поделаешь… Порою и хитроумные узелки, завязываемые великими державами, расплетаются весьма просто, обнаруживая всю непритязательность, казалось бы, сложных дипломатических ухищрений. Словом, Франция желала возвести на трон тестя французского короля Людовика XV – Станислава Лещинского. Тут был прямой фамильный интерес. Россия настаивала на Августе III, сыне покойного монарха. Русские войска вступили в Варшаву, заставив Лещинского бежать из страны. Но тот делать этого не собирался и обосновался в Данциге. В ответ на этот, можно сказать, дерзкий королевский ход Россия к армии сухопутной привлекла флот военный. Флоту поручалось осадить Данциг, перекрыв Лещинскому все пути к отступлению. Но что же за осада без предварительной разведки: какова обстановка в гавани, суда каких стран в ней находятся?
Произвести морскую разведку поручили фрегату «Митау».
В мае 1734 года фрегат поднял вымпел и снялся с Котлинского рейда.
Ветер благоприятствовал плаванию.
Лаптев держал вахту.
Еще накануне Дефремери напомнил мичману, какой держать курс, каких противников опасаться. Во всем этом была одна странность: в ордере, то есть приказе командира эскадры, среди враждующих сторон не значилась Франция. Более того, предписывалось остерегаться любых действий, которые, говоря языком сегодняшним, могли бы спровоцировать войну с этой страной.
25 мая в шестом часу пополудни марсовые, о чем свидетельствует судовой журнал, «усмотрели со стеньгов пять кораблей под парусами на расстоянии две или три мили. Скоро признали, что это были французские суда. Легли на правый галс. Французы повторили курс, преуспевая в скорости. Корабли вскоре догнали „Митау“. Был поднят российский флаг и морской вымпел…».
Пришла шлюпка с нарочным. Французский офицер являл саму любезность; Дефремери приглашался посетить с визитом борт французского флагмана.
Еще раз прочитаем судовой журнал: «Посовещавшись с офицерами и полагаясь на резон, что войны России с Францией не объявлено, Дефремери отбыл на французский корабль».
Князь Вяземский, оставшийся за главного, был спокоен:
– Мы в водах свободных, ни в чем не замечены.
Вообще же во всей этой ситуации для русских моряков было что-то унизительное. Ордер нарушить было нельзя. Да если бы и нарушить? Фрегат «Митау» был совершенно беззащитен рядом со стопушечными французскими судами. Притянутый якорным канатом ко дну, он напоминал белокрылую птицу, пойманную в капкан.
Пришла ночь.
Дефремери не возвращался.
Решили ждать до утра, а там…
Несмотря на перевес со стороны «нейтральных» французов, русские моряки были полны самого боевого духа.
Но произошло то, чего никак не могли ожидать на «Митау».
Воспользовавшись кромешной мглой, шлюпки с французскими солдатами почти бесшумно приблизились к фрегату и взяли его на абордаж. Операция длилась не более десяти минут.
Силы были неравные.
Когда солдаты стремительно ворвались в каюту Харитона Лаптева, он схватил пистолет, выстрелил несколько раз. Три француза замертво свалились на пол. Тяжелый удар обрушился на голову мичмана. Сознание его отключилось.
Так вероломно был пленен фрегат «Митау». Его доставили в один из ближайших портов, весь экипаж вывезли на берег, заключив в каземат.
Через полтора месяца две державы договорились об обмене пленными. Час от часу не легче. Возвращенных офицеров, не дав им опамятоваться, тут же заключили в одиночные камеры Петропавловской крепости.
Приказано – учинить следствие.
Определена следственная комиссия во главе с контр-адмиралом Дмитриевым-Мамоновым.
Это был почтенных лет морской служака. Знал отменно устав, выше всего на свете чтил флотскую честь. И во имя утверждения ее не гнушался самых жестоких средств. Лютые наказания выносил. Вот образчики сохранившихся за его подписью приговоров: «повесить за ребро, дондеже не умрет», «уморить, закопав в землю», «казнить смертью отсечением головы». Рассказывают, что при исполнении приговора нередко сам присутствовал, покрикивая на палачей за непроворство.
Покрыть позором честь русского флага! Сдаться в плен!

Громы и молнии метал Дмитриев-Мамонов. Одно лишь презрение испытывал к трусливым, как он полагал, офицерам фрегата «Митау».
За время пленения и следствия Харитон поседел. Глаза ввалились, взгляд выражал полную обреченность.
С потемневшим лицом, в простой матросской робе стоял он перед членами следственной комиссии.
– Понимаете ли вы, Лаптев, степень своей вины?
– Виновным себя не считаю.
Голос контр-адмирала взорвался петардой:
– И это после того, как растоптал русский флаг?! Трус!
– Ваше превосходительство, смерти я не боялся. И не боюсь.
– А вот как за ребро-то подвесят?
Харитон спокойно ответил:
– Каждый исполняет свое дело. Палач свое.
– Он о деле заговорил! – с бешеным сарказмом воскликнул Дмитриев-Мамонов. – Дело офицера принять смерть в честном бою. Это для француза Дефремери ничего не значит русский флаг. Но ты – русский!
– Я решительно отвергаю обвинение Дефремери в небрежении службой и отступлении от присяги. Кровь француза ни при чем. Он честнейший человек!
– Себя защищай, а не француза.

– Ваше превосходительство, я не могу отделить себя от моего командира. И в защиту всех нас скажу одно: мы ничего худого не ждали. Французская корона, как говорилось в ордере, нейтральна. Она не значилась среди врагов. Мы не могли предполагать подобного вероломства. Когда же пришел час обороняться, было поздно.
– Так кто виноват? – взвился Дмитриев-Мамонов. – Начальник эскадры?
– То не могу знать. Я лишь мичман.
– И, слава богу, уже не будешь лейтенантом!
И опять комиссия долбила свое: то, что можно простить французу, непростительно для русского офицера.
И опять Харитон вступался за командира. Спокойно и решительно доказывал – жестоко и несправедливо подозревать Дефремери в изменнических целях, исходя только из того, что в жилах его течет французская кровь.
Харитона обвиняли в бесчестии, а он требовал торжества истины, и только истины.
Дмитриев-Мамонов понял: раскаяния от этого мичмана не добиться. Как спокоен, как уверен в себе. Он порочен уже тем, что в нем живет ложное чувство товарищества – и с кем, с изменником! Тогда ты сам дважды изменник.
Контр-адмирал костяшкой пальца постучал по кожаной обложке «Книги морских уставов».
– Вот где истина! По главе X, по артикулам 73 и 146 ваше подлое деяние карается казнью через смерть.
Харитон сказал:
– Ваше превосходительство, смерти, как уже говорил, не опасаюсь. Куда страшнее ложные обвинения в трусости и бесчестии.
– По силе морского устава, ты трус!
Писарь заносил в протокол показания Харитона: «С самого начала службы не имел к себе никаких подозрений. Сейчас случилось несчастье. Но оно следствие того, что на „Митау“ не признавали французов за врагов. В противном случае оборонялись бы до последней капли крови и до полной погибели. Выжидали оттого, что не хотели подать причину для начатия войны Российской империи с французской короной».
Члены следственной комиссии возмущенно закивали париками. Как мнит о себе худородный мичман! Желает притянуть в свою защиту государственный интерес!
Дмитриев-Мамонов медленно утер платком багровые щеки.
– Государственный интерес, – сказал он, – всегда и во всем отстаивать флаг русского флота. С кем же вступать в войну или не вступать есть забота кабинета Ея Императорского Величества.
Напрасно пытался Харитон еще раз сказать об ордере – его не слышали, не желали слышать, свой приговор они уже привели в действие. Трудно сказать о той внутренней пружине которая руководила следствием. Возможно, кому-то из чиновников Адмиралтейств-коллегии было выгодно списать на офицеров «Митау» собственное преступное упущение.
27 сентября 1734 года капитану 2 ранга Дефремери, лейтенанту Вяземскому, мичману Лаптеву был вынесен смертный приговор.
Ждали указа императрицы.
Перед тем как доложить государыне о приговоре, уже знакомый нам обер-секретарь Сената Кирилов внимательно ознакомился с материалами дела. Он не спешил. Затребовал ордер, выданный Дефремери перед разведывательным плаванием в Данциг.
Вопрос затянулся.
Харитон написал прощальное письмо Борису Ивановичу.
«Мне не в чем каяться. Несчастье, в котором я оказался, не хочет прислушиваться к голосу рассудка. Артикулы оказались сильнее доводов. Я не отделяю свою участь отдельно от участи моих товарищей. Нам были даны ошибочные инструкции, проистекающие от незнания или поспешности, с которой посылали нас в разведку. Это я пишу безо всякого лукавства, зная, что, может быть, сейчас откроется дверь каземата и нас поведут на плац, дабы исполнить приговор.
Батюшке и матушке, брату, всем друзьям моим скажи, что умираю с тоской от учиненной несправедливости.
Сама несправедливость уже есть казнь, поэтому веревка, которую накинут на шею, меня страшит мало.
Я верю, что со временем истина справит свою победу. Истина защитит честь фамилии. Меня же не будет. Впрочем, сама мысль, что неправедный суд будет пересмотрен, дает силы прожить оставшиеся часы в душевной твердости».
Караульный офицер взял письмо, принес чистое белье. Предложил исповедаться. Харитон отказался: исповедоваться и каяться не в чем.
Заложив руки за спину, Харитон ходил но кирпичному полу камеры.
Сон не брал.
Куранты Петропавловской крепости напомнили, что время шло своим чередом. Он впервые уловил мелодию колоколов. Это по нему они звонили.
Как дядя мечтал, чтобы племянники в мужестве были явственнее. И чтобы держава их восхвалила. Для него, Харитона, все кончилось.
Он лег спиной на узкую тюремную кровать.
Потолок, как шляпками болтов, был усеян каплями сырости. Одна капля вытянулась, сорвалась, упала на лицо. Она была холодна.
Мимо высокого окошка через равные промежутки времени проходили ноги часового.
Говорят, смертники перед роковой минутой вспоминают всю свою жизнь. Нет, Харитон не вспоминал. В ушах стояли жестокие слова главного следователя: «Ты растоптал русский флаг. Трус!»
Как это мучительно!
Харитон повернулся на живот, уткнул лицо в подушку. Рыдания сотрясали его тело.
Умыл лицо ледяной водой из ковша. Переоделся. Белая холстинная рубаха холодила.
Не сумел прожить жизнь – надо умереть мужественно! Пусть хотя бы палачи увидят, что он не трус.
Раскрыл Библию, которую давеча принесли в камеру. Прочел случайно раскрытую страницу: «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает».


Часть третья
ОТ ЛЕНЫ ДО ТАЙМЫРА
Глава первая
СЛОВО И ДЕЛО
О, эти бесконечные, изматывающие перевалки.
С суши на реку.
С реки на сушу.
Непроходимая тайга. Болота. В топях тонущие лошади. Голодные волки, идущие следом, бросающиеся на падаль.
Перед отъездом из столицы Василий забежал попрощаться с профессором Фархварсоном. Навигатор не скрывал радости, что многие его ученики решились на столь дерзостное предприятие. Растрогался, всплакнул. Разве не он, в меру своих скромных сил, учил их жить безблудно и прямо.
– Какой поход! – У него быстро изменилось настроение, он оживленно заходил по зале. Напомнил слова философа Сенеки: – «Свой образ мысли ты должен изменить, а не климат. Уплыви хоть за отдаленнейшие моря, твои заблуждения последуют за тобою».
Прончищев пообещал климат Сибири не менять. А заблуждений ни в голове, ни в походной сумке не держит. Дорога не страшит. Это, пожалуй, было единственное его заблуждение. Он и предположить не мог, какие мытарства ожидают их в пути. Люди от болезней и истощения умирали косяками.
Случались побеги.
А какого недетского лиха хватил Лоренц Ваксель! Он вырос из своей одежки, голубая жилка на тонкой шее как-то особенно подчеркивала его отрочество, несовместность с тяжелыми мужскими обязанностями. Вместе со всеми перетаскивал груз, сталкивал баржи и дощаники с отмелей, поил лошадей, в зимние месяцы пилил и колол дрова для обогрева. Все это было не похоже на дерзкие и в то же время веселые приключения капитана Дампьера!
– Не жалеешь, что пошел с отцом? – спрашивал его Василий.
– Нисколько, господин лейтенант.
– Не о таком путешествии мечтал?
– Мне интересно.
Беседуя с мальчиком, Прончищев удивлялся, как он не по годам рассудителен, серьезен, обстоятелен. И любую работу выполнял просто, не желая выделиться, угодить, улестить начальство. Что знал в эти годы, в эти двенадцать лет, сам Прончищев? Голубей да алфабит. Людей, живущих рядом, кроме разве родителей да Рашида, вообще не замечал.
В Лоренце было много общего с Таней. Он тянулся к простым служивым, жалел их, как-то по-своему стремился облегчить их участь. Матросы полюбили мальчика. Вся команда знала уже об отважном капитане Дампьере.
Но что Дампьер в сравнении с голландским путешественником Стрейсом, побывавшим в Италии, Греции, Персии, в Московии! Как слушали мальчика, когда он читал о встрече Стрейса со Стенькой Разиным, о персидской княжне, которую атаман любил и казнил потом!
При свете костра Лоренц читал:
– «В один из последующих дней, когда мы во второй раз посетили казацкий лагерь, Разин пребывал на судне, чтобы повеселиться… При нем была персидская княжна, которую он похитил вместе с ее братом. Он подарил юношу господину Прозоровскому, а княжну оставил себе. Однажды, обратившись к Волге, сказал: „Ты прекрасна, река, от тебя получил я так много золота, ты отец и мать моей чести, славы, и тьфу на меня за то, что я до сих пор не принес ничего тебе в жертву. Ну хорошо, я не хочу быть неблагодарным“. Вслед за тем он схватил несчастную княжну и бросил в реку. На ней были одежды, затканные золотом и серебром, и она была убрана жемчугами и алмазами».
И долго служивые не могли успокоиться.
– Вот это атаман! Это по-нашему. Хоть любил, а не пожалел. Вишь, перед Волгой винился.
– Жемчугов и алмазов не пожалел. Ну, Стенька!
Лишь боцман Степан Медведев да матрос Федор Сутормин, люди степенные, семейные, не одобряли атамана.
Медведев говорил:
– Все же она девица, хоть и княжна. Жить хотела. И Разина любила. А он вон как! «По-на-а-ашее-нски»! Не по-нашенски это.
– Персиянка, – возражали ему. – Где атамана понять.
Федор Сутормин вздохнул:
– Все же чья-то дочь… Каково отцу узнать? Родная кровь.
Матросы хохотали:
– Настрогал ты, Федор, одних девок, вот и печалишься!
В небольшом Илимском остроге, последней населенной точке перед рекой Леной, Лоренц захворал. Что за болезнь, никто не знал.
Лекарь Беекман старался изо всех сил. Мальчику становилось все хуже.
– Все члены сего ребенка настолько ослабли, – жалко оправдывался лекарь, – что не вижу никакой надежды на выздоровление.
Свен Ваксель был совершенно убит горем, проклинал себя, что взял сына с собою.
Местные жители сказали: в таежной сторожке, верстах в тридцати от Илимска, живет ссыльный старик знахарь. Уединился в скиту. Ему ведомы «неземные чудеса». Он один может помочь.
Что мешкать? Прончищев с Рашидом, узнав дорогу, отправились верхом на лошадях в тайгу.
Прибитая тропа вела в сумрачные лесные чащи. Кроны высоченных сосен закрывали небо.
Часа через три они увидели землянку. Перед узким входом в нее на веревке сушилась рыба. Из родника вытекал ручей.
Прончищев спешился. Вошел в землянку. Осмотревшись, увидел на куче хвороста полуголого старика.
– Дед, мы за тобой.
Старик не пошевельнулся.
– Да живой ли ты? А ну вставай. Ребенок помирает.
Прончищев присел на корточки, приподнял голову знахаря.
Старик произнес едва слышно какие-то несуразные слова:
– Горе тому, им же соблазн приходит.
Рашид заорал ему в ухо:
– Опомнись, старый! О дите говорим.
То ли в бреду, то ли в помраченном сознании старик сказал:
– Вижу двух монахов. На небо восходят, и посланы ризы драгоценные и свещи зажжены.
Да, с таким сам, того гляди, двух монахов увидишь.
Прончищев велел Рашиду развести костер, вскипятить воду.
Заварил кружку китайским чаем, прихваченным с собою на тот случай, если заблудятся в тайге.
Приподнял голову старика.
– Попьем, дедуля.
Старик раскрыл один глаз, второй. Старый черт, он все слышал. Взгляд его был вполне осмыслен.
– Чего надо, люди из мира?
– Мальчик помирает. Я тебе чаю дам, сахару, муки.
Была в нем еще жизнь.
– Ты кто?
– Флотский офицер.
– Флотский? – переспросил старик. Нисколько не удивился, точно здесь рядом где-то плескалось море.
Знахарь поднял на Прончищева тоскливые глаза. И эта тоска обнаруживала, что он еще не совсем одичал – помнил мир, знал боль, умел горевать.
Он поднялся, затянул штаны веревкой.
– Сын мой на флоте служит. Давно не видал его.
– За что пострадал?
Старик махнул рукой. И опять произнес ошалелые, невнятные слова:
– Не по курице схода, не по кошке спесь.
Прончищев улыбнулся:
– Мало ты на курицу похож! А еще менее на кошку. Зарос, как медведь.
И, боясь, как бы опять не оборвалась ниточка, связывающая старика с жизнью, спросил:
– Как сына фамилия?
Нет, ниточка не оборвалась.
– Сутормин. Федор.
Да, поистине неземные чудеса бывают на белом свете. В это было невозможно поверить! Федор Сутормин шел в прончищевском отряде. Мужичонка на вид невзрачный, а матрос вполне подходящий. На флоте давно служит. Тверской. На каждой почтовой станции просил Василия сочинить письмо домой. Диктовал всегда одинаково: «Любезной жене Евфросинье Ивановне, любезным дочерям Акулине Федоровне, Ольге Федоровне, Елизавете Федоровне…» Прончищев катал цидулку, усмехался: «Одних девок нарожал, совсем для флота не постарался!»
Сутормин баловался вином. Как выпьет самую чуточку, так одна и та же припевка:
– Эх, раз, по два раз! Расподмахивать горазд. Кабы чарочка вина, два стаканчика пивца, на закуску пирожка…
Вот такой это был мужик.
Прончищев спросил:
– Тебя как звать?
– Игнатий.
– Ну, поехали к Федору Игнатьеву. У нас он в отряде.
– Заманываете.
– Дед, наш устав – правда.
– Заманиваете. Откуда б тут Федору быть? Он на море служит.
Рашид посадил деда позади себя, привязал кушаком – как бы по слабости не свалился с лошади.
Ощутив живое тепло лошади, спины Рашида, старик на глазах оживал; слова, замороженные холодом и тленом землянки, оттаивали.
– Господин флотский, а я ведь помирать собрался. В небо возносился…
– Мы тебя на землю поставим, – обещал Прончищев. – Ты еще не только сына – внучек увидишь. Да я их всех знаю наперечет – Акулину, Ольгу, Елизавету.
Это старика привело в полное замешательство.
– Видал их?
– Видать не видал, – захохотал Василий, – а письма писал!
Федор Сутормин обмер, глазам не поверил, когда увидел батюшку. Перекрестился, забулькал что-то невнятное, повалился отцу в ноги.
Матросы дивились:
– Как бывает, а?
– Кому скажи – не поверит. Пять лет не видались, а встретились. И где?!
– Дед, а ты чаял сына увидеть?
– Да где, ребята! – Старик мял длинную, до колен, бороду.
– А еще знахарь.
Старик нахмурился. Осерчал, видно.
Ему показали больного мальчика. Старик дотронулся до его лба, поднял веко левого глаза. Долго держал руку на его груди.
Уже через час в железной баночке на огне Игнатий готовил из таежных травок снадобье.
Шептал белыми, высохшими губами:
– Уповающего же на господа милость приидет. Свети душу его, лечи душу его и тело.
Матросы окружили старика. Истинно колдун! Слова-то какие знает.
Заскорузлыми пальцами втирал жгучий состав в кожу Лоренца. Движения рук знахаря были изящны и неторопливы; он точно узоры наносил на грудь, спину, бока мальчика.
Уже к вечеру Лоренц очнулся, попросил пить.
Через два дня встал с постели. Отец был вне себя от счастья.
– Василий Васильевич, как вас благодарить?
– Здоровье вашего сына, – ответил Прончищев, – лучшая благодарность всем нам.
Самое поразительное: старик отказался возвращаться в скит. Хотел быть рядом с сыном.
Согласно указу Адмиралтейств-коллегии, в экспедицию при нужде разрешалось зачислять ссыльных. Прончищев позволил остаться в обозе деду, рассудив, что Карлу Беекману «живой лечебник» будет хорошим подспорьем.
Пусть даже тебе дана небольшая власть, а ты уже в состоянии сделать счастливым человека. Куда девалась угрюмость деда? Он попарился в баньке, нашлось множество охотников растереть его можжевеловой мочалкой. Старик голый – кожа да кости – выскочил из жаркого закутка на воздух, бултыхнулся в холодное озерцо, истошно завопил от наслаждения и нырнул обратно в клубящееся облако пара. Из баньки вышел обновленный, сразу поважневший, попросил шило и дратву. Целыми днями чинил поизносившемуся отряду сапоги, бараньи тулупы.
– Ты нашему командиру, старый, вечно теперь богу молись, – говорили служивые.
Возле Игнатия всегда толпились любопытные. Язык у него острый, зло рассказывал, как пострадал за правду, почем зря честил сибирских начальников.
– Взять того же тутошнего воеводу – зверь. Обижается на него народ. От инородцев ясак берет втрое. Две шкуры себе, одну в казну.
– Не гневи начальство, старик. Отсюда уж куда тебя высылать?
Игнатий тянул смоляную дратву, мочил ее слюной, коротко отзывался:
– Мое теперь начальство лейтенант.
– А льдов-то не боишься, ежели с нами идешь?
– Пар костей не ломит. Тоже и льды.
В пути от Санкт-Петербурга до Усть-Кута пришлось преодолеть десятки больших и малых рек. И вот пришли к последней воде: по Лене – к Ледовитому морю. В разговорах матросов все чаще звучало слово – Таймыр. Сколько туда разных мореходцев ходило – где они? Ведомцы – так их звали. Чего проведали, за каким лешим искали эту загадочную землицу? Слушая местных казаков, многие матросы убегали из отрядов. Прончищев тяжело переживал каждый такой побег, казнил себя, что не тех людей подобрал. Лейтенант Питер Ласиниус, командир отряда, которому предстояло идти от устья Лены на восток, в сторону Колымы, успокаивал Василия:
– Не вешай голову. Север – он сам отбирает людей.
Но слова эти мало утешали Прончищева.
– Послушай, Прончищев, какой пример показываешь своим служивым? Глядя на тебя, выть волком хочется. И, как волку, в лес бежать. Встряхнись! Люди любят веселых командиров.
Питер вытащил из-за пояса пистолет и, не целясь, выстрелил в пролетающую ворону. Подстреленная птица упала наземь.
– Ты зачем? – спросил Прончищев.
– А с умыслом. Не птицу убил – черную твою хандру.
В черной морской шинели, черной треуголке, в черных ботфортах Ласиниус напоминал фигуру, сошедшую с чугунного пьедестала на грешную землю. Тяжелый шаг, неподвижный взгляд. Но стоило ему улыбнуться, покрутить острый ус – и перед вами являлся весельчак и выдумщик. Оттого грозный вид его никого не пугал, а черные до синевы усы Питера Ласиниуса служили мишенью для шуток. Служивые потешались беззлобно над своим командиром: «Лейтенант Ласиниус отрастил свой синий ус». Конечно же, стишок коснулся ушей Питера, и он, похохатывая, говорил друзьям, что если и не достигнет Колымы, то все равно войдет в историю экспедиции и о нем непременно вспомнят потомки, как о лейтенанте, что отрастил свой синий ус.
На рубке корабельного леса два отряда работали рядом. Ласиниус, в простой матросской робе, с неизменной фарфоровой трубкой в зубах, наравне со всеми валил деревья, шкурил стволы.
Однажды, забавы ради, предложил Прончищеву потягаться, кто скорее спилит сосну одноручковой пилой.
Отыскали два дерева одинакового диаметра.
И пошла работа!
Спины раскалились докрасна. На торсах напряглись мускулы. Зубья пил, хрипя от ярости, выплевывали влажные струйки опилок. Падали на траву шишки. С нарастающим гулом сосны одновременно повалились на поляну.
– Милостивый государь! – вскричал Питер. – Нас ждет удача. Так я загадал.
И он вскинул над головой пилу, блеснувшую щучьим серебристым телом, острыми зубьями.
– Не схватиться ли, сударь, нам пилой двуручной? – шутливо отозвался Прончищев.
Глядя на лейтенантов, и служивые работали весело и споро.
Один случай еще больше сблизил Прончищева и Ласиниуса.
Полновластным хозяином этих таежных мест был воевода Никита Хоробрых. В свое время он служил офицером в оружейном приказе. Был судим за взяточничество, выслан в Сибирь. Опала длилась недолго. Вскоре был поставлен начальником Усть-Кута. Тут Хоробрых дал волю своим низменным инстинктам. Место отдаленное – полный хозяин, пуп земли, вершитель судеб местного населения.
Уже в первые дни по прибытии отрядов в Усть-Кут к Прончищеву стали приходить обиженные люди. Жаловались на непомерные воеводские поборы. Хоробрых установил для усть-кутцев своего рода ясак: три соболиные шкуры в казну, четвертую себе. Возмущение вызывали его дикие вакханалии: насильничал над молодыми девушками, устроил у себя дома настоящий гарем.
Прончищев выслушал жалобы. Чем он мог помочь? Его никто не наделял полномочиями вершить закон, вмешиваться в местные дела.
Возмутился же он, когда Хоробрых распорядился «для устрашения беглецов» поставить на берегу Лены несколько виселиц.
Рассвирепевший Василий ворвался в воеводскую канцелярию.
– То мой приказ, – спокойно объяснил воевода. – Ваши люди бегут с моими ссыльными. Пусть знают, что их ждет. Щадить никого не стану.
– Это своевольство. Прошу убрать виселицы и не распространять свою власть на матрозов.
Холодными глазами Хоробрых погасил пыл лейтенанта.
– Господин Прончищев, вы бы лучше о себе подумали. В ваших списках числится государев ослушник Игнатий Сутормин, определенный на поселение в здешних краях. Он ведет противоправные речи. На него показано «слово и дело».
– Это безобидный старик. Нашел сына спустя годы. И полезен нам: скорняк, сапожник, умеет лечить.
– Я велел его арестовать. Будет произведено дознание.
Прончищев побелел от негодования:
– Как смеете?
«Слово и дело» – так в те времена назывался донос политический. Ничего не было страшнее этих двух выкриков. На кого «слово и дело» показано, считай того человека пропащим.
О, это Прончищев хорошо знал.
В отряде его поджидал Федор Сутормин. Слезы текли по щекам матроса.
Прончищев положил ему на плечо руку. И этим непроизвольным жестом было сказано так много. И что старика взял в экспедицию, а уберечь не смог. И что власти не хватает, чтобы укротить немилосердного воеводу.
Так они стояли, соединенные одной бедой и виной.
А потом был страшный день. Возвращаясь с матросами из тайги, Прончищев увидел на одной из виселиц повешенного старика. Забился в плаче Федор: «Батю-юш-ка-а!..» Боцман Медведев закатал рукава: «Айда, ребята к воеводе». С большим трудом Прончищев и Челюскин остановили разгневанных матросов.
Таня ждала Василия. Поставила перед ним миску щей. Прончищев не притронулся к еде.
Вечером Прончищев совещался с Питером Ласиниусом.
– Не могу оставить безнаказанным злодеяние. Как быть, лейтенант?
Ласиниус тяжелыми шагами ходил по комнате. Взгляд его был жесток.
– Василий, ты можешь рассчитывать на мою помощь. И я разделю с тобой ответственность. Слушай, что скажу.
…Поздним часом двинулись они к воеводскому подворью. Стараясь не шуметь, через сени вошли в горницу. Сутормин держал смоляной факел. Хоробрых в исподнем, заспанный, ничего не ведающий, кинулся им навстречу:
– Кто таковы?
– Одевайся! – приказал Прончищев.
Хоробрых рванулся к стене, снял ружье.
– Прочь из дома…
Челюскин подскочил к воеводе, подмял его, крепко сцепив запястья.
– Не баловать. Наизнанку выверну.
– Господи, за что?
Через огороды воеводу повели в тайгу. Метрах в трехстах от подворья остановились. Луна высеребрила опушку, бледное лицо воеводы.
– Объясните, чего вы добиваетесь? Это насилие.
– Ты был офицером, говорят? – спросил Прончищев.
– Я и сейчас офицер Ея Императорского Величества.
– Тем лучше. Учиним суд офицерской чести.
– Вас кто на то уполномочил? – взвился от ярости Хоробрых.
– А вот он. – Прончищев кивнул на матроса Сутормина. – Батюшка его, тобою повешенный…