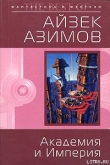Текст книги "Вейская империя (Том 1-5)"
Автор книги: Юлия Латынина
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 89 (всего у книги 101 страниц)
Шимана не удержался и сказал:
– Это автор памфлета о "Ста вазах" растравил им душу. Если бы не этот памфлет, о вазах бы не вспомнили.
Это было жестоко: многие знали, что автором памфлета о "Ста Вазах" был сам министр полиции.
– Эти вазы, – сказал Андарз, – спаслись при государе Иршахчане, когда дворец горел три месяца. А знаете, что эти лавочники сделали потом? Попросили заплатить им за шесть часов работы!
Наконец глава еретиков, беглый министр полиции и народный министр закончили праздничный обед. Андарз едва притронулся к еде. Перед глазами его стояли печальные и немного удивленные глаза зверей на раздавленных черепках. Он едва сдерживал себя, чтоб не разрыдаться и чувствовал, что что-то непоправимо оборвалось в мире.
Подали чай.
– Что мы будем делать, – сказал Нан, – если государь не подпишет конституции?
Еретик Шимана подозвал мальчика с розовой водой, вымыл в воде руки и вытер их о волосы мальчика.
– Мне было видение, – сказал Шимана, что государь Миен жив.
Государь Миен, напомним, был старший брат царствующего государя Варназда, тот самый, которого монахи-шакуники подменили барсуком. Вдовствующая государыня дозналась об этом и казнила и барсука, и монахов.
Шимана хлопнул в ладоши: одна из дальних циновок приподнялась, в глубине комнаты показался человек. По кивку Шиманы он подошел поближе. Ему было лет тридцать на вид. Простоватое лицо, подбородок скобкой, глаза широко расставлены и чуть оттянуты книзу. Самое смешное, что человек и вправду несколько походил, сколь мог судить Нан, на казненного юношу.
– Как же вам удалось спастись, – спросил Нан, – и где вы были эти одиннадцать лет?
– Я, – сказал человек, по-детски выкатывая глаза, – был предупрежден о замыслах монахов, и лежал в постели, не смыкая глаз. Когда монахи, превратив меня в барсука, хотели меня задушить, я выскочил и утек через очаг. И, – запнулся государь-барсук, – я бегал по ойкумене одиннадцать лет, уязвляясь страданиями народа, а неделю назад мне во сне явилась матушка Касия, и сказала: "Сын мой! Иди в храм красных циновок и потри там голову об алтарь – Единый Господь простит тебя, и твой облик и твой престол будут возвращены тебе".
– Я, – прибавил человек, с надеждою глядя на Нана, – буду хорошим государем. Я видел страдания народа.
Расколдованный барсук поцеловал руку Шиманы и удалился.
– Ну что? – спросил с надеждой Шимана.
– У него неплохие манеры, – сказал Нан.
– Нет такого идиотизма, – сказал министр полиции, – которому бы народ не поверил.
– Политика, – сказал Нан, – это искусство говорить языком, доступным народу. От их речей, – и он кивнул куда-то в сторону залы Пятидесяти полей, – народ скоро соскучится, а про барсука он понимает.
– Вот, – сказал Шимана, – и я то же думаю. Если государь не подпишет конституции... Хотел бы узнать ваше мнение: что мне делать с расколдованным барсуком?
– Заколдуйте его обратно, – фыркнул Нан.
Меж тем делегация Доброго Совета пожаловала во дворец. Государь наотрез отказался видеть этих людей. Киссур стал настаивать; с государем случился припадок астмы. Делегацию, в особом зале, принял Злой Совет. Глава делегации, пожилой старости цеха красильщиков, зачитал длинный шелковый свиток.
Староста был испуган великолепием дворца и отсутствием государя. Конечно, он был человек рассудительный, в оборотней не верил, днем, во всяком случае... Но кто его знает? Какой страшный старик с золотыми глазами!
Киссур стоял, презрительно выпятив губу. Спина Киссура болела от побоев, а душа... Великий Вей! Киссуру казалось, что все смотрят на него, как на труса. Он бежал! Кинулся в воду, как карась! Правда, он убил нескольких человек, Киссур не считал, скольких именно. Но он бежал, а не умер за государя! А почему? Да потому, что сам бой был несправедлив! Справедливый бой – это тогда, когда военачальник бьется с военачальником, а дружинник – с дружинником! Дружина не будет служить сеньору, который не дерется впереди, и сеньор никогда не потерпит, чтоб самый богатый противник достался какому-нибудь простолюдину. А здесь? Что за подлый бой!
Не только Андарз, негодяй и взяточник, не думал быть впереди, но сама головка мятежа заседала в городской префектуре и занималась... бог ее знает, чем она там занималась? Если шестьсот человек сошлись вместе, и это не войско и не пирушка, то разве можно понять, зачем они сошлись вместе?
Делегат окончил чтение, Киссур посмотрел на свиток и сказал:
– А ну-ка отдайте мне этот свиток!
– Он его разорвет! Не давай! – зашипел один делегат другому.
– Клянусь божьим зобом, – зашипел Киссур, – обязательно разорву, и на одном конце повешу Нана, а на другом – Андарза!
– Трудновато это будет тебе сделать, – съехидничал лавочник, – потому что в твоем войске – двадцать варваров, а в нашем, – весь народ.
Киссур усмехнулся и сказал:
– По трем причинам войско терпит поражение. Во-первых, когда военачальники больше хотят свести счеты друг с другом, чем с врагом. Во-вторых, когда, победив, воины, в погоне за добычей, перестают слушаться полководца и становятся уязвимыми. В-третьих – из-за зависти богов. Оттого же, что в одном войске больше народу, а в другом – меньше, поражения не терпят никогда.
После этого краткого обмена мнениями делегацию выпроводили вон, а государственный совет удалился на совещание.
Господин Лай наклонился к уху господина Чареники.
– Проклятый старик, – сказал Лай, – он предсказал сначала бунт, а потом – конституцию. Он хоть скажет, что делать дальше.
– Он, – холодно сказал Чареника, – предложит нам согласиться на всенародные выборы и на суд присяжных.
– Но тогда суд обвинит его... и тут же Лай прикусил язык, сообразив, что, как ни странно, именно Арфарре, да и Киссуру, конституционный суд не может предъявить ни одного обвинения. Более того, если речь зайдет о пересмотре несправедливых приговоров, приговор Арфарры будет отменен первым. Что и Чаренике, и Андарзу, и Лаю, и Хардашу, и даже самому Шимане Двенадцатому есть за что давать ответ: а отшельника Арфарру упрекнуть не в чем! И, конечно, нет никакого сомнения в том, что при всенародных выборах тысячи крестьян ойкумены проголосуют за своего бога, яшмового аравана Арфарру.
Чареника увлек Лая в сторонку и что-то зашептал на ухо.
Киссур поддержал Арфарру, которому было тяжело подниматься по ступенькам.
– Советник, – сказал Киссур, – позвольте мне повесить Чаренику! Он предал государя! Андарз посылал к нему какого-то Рысьего Глаза, а Чареника ничего об этом не сказал!
– Предоставь это дело мне, – промолвил Арфарра.
Члены Совета взошли в Голубую Залу. Арфарра сел в кресло о шести ножках, с рысьими головками по краям. Полуприкрыв глаза, он думал о том, что про Киссура говорят, будто варвар навел порчу на государя. Что народ истолкует припадок астмы как подтверждение этому, и что государь это знал, а все-таки с ним случился припадок.
– Что вы думаете по поводу конституции? – спросил его Чареника.
Арфарра улыбнулся и пробормотал, что сначала хотел бы узнать мнение других.
– Омерзительная бумага, – сказал некто господин Харшад, один из ближайших друзей Чареники и председатель Верхнего суда.
– Ба, – вскричал Киссур, – но вас не было в зале с делегатами, когда вы успели ее прочесть?
– Великий Вей, – сказал с достоинством господин Харшад, – зачем я должен ее читать, когда один из авторов ее – этот циник и негодяй Андарз? Разве простит он нам, что мы остались верны государю?
– Ах да, – сказал Киссур, – вы же сами подписали такую бумагу три дня назад, когда хотели зарезать меня в государевой спальне.
Арфарра не выдержал и молча схватился за голову.
– Господин Киссур, – сказал Чареника негромко, – положенье опасное. Хорошо бы человек, преданный государю, проверил посты вокруг дворца. Не сделаете ли вы это?
Киссур поднялся, щелкнул гардой о ножны.
– Ладно, – сказал он, – пойду проверю посты.
Киссур ушел, и Чареника опять спросил:
– Что вы думаете по поводу этих требований?
Мнение Арфарры сильно зависело от уровня воды во рве с ручными утками, который он на месте Андарза спустил бы в два дня. Он улыбнулся и пробормотал, что действовать подобает сообразно обстоятельствам, а не мнениям.
– Я думаю, – воскликнул господин Чареника, – что пока среди мятежников находится этот негодяй Андарз, и речи не может идти о переговорах. Это человек, составленный из преступлений и всяческого воровства; из-за него тысячи верст плодородных земель под столицей превращены в болото. А Чахарский мятеж! Андарз получил деньги для оплаты войска за два дня до штурма, а раздал их через два дня после! А во время штурма он нарочно положил половину войска, чтобы деньги убитых достались ему! У господина Нана обо всем этом были бумаги – теперь они у вас, господин Арфарра. Достаточно огласить их в народном собрании, и народ отвернется от Андарза.
– Боюсь, – сказал Арфарра, – что народ не обратит на это внимания.
– Как же не обратит, – возразил Чареника, – когда они уже умудрились запретить этому негодяю штурмовать дворец! Кое-кто, господин Арфарра, распускает вздорные слухи о том, что у вас нет документов господина Нана, и что завтра господин Нан сам предъявит эти документы в собрании! Ходят слухи, что вы тайно заказали у дворцового резчика копии двух печатей, овальной и с пеликаном, которые Нан тоже держал в сундучке! Лучший способ опровергнуть эти сплетни – принести сюда документы об Андарзе.
– А вы как думаете? – спросил Арфарра другого советника, господина Лая.
– Я ничего не думаю, – ответил советник, – пока не увижу документов об Андарзе.
Арфарра обвел глазами всех сидевших за столом: все одиннадцать смотрели на него, как коза на капусту.
– Хорошо, – сказал господин Арфарра. – Отложим заседание до вечера. Вечером, в присутствии государя, я оглашу эти документы.
Господин Арфарра улыбнулся, встал, и вышел из Голубого Зала, чувствуя себя в точности, как сазан на сковороде.
Обед в комнате, обтянутой красными циновками, продолжался. Унесли вторую перемену, третью, и перед гостями в теплых глиняных чашечках задымилась "красная трава", а стол покрылся серебряными корзиночками, наполненными сладостями пяти видов и десяти вкусов.
О претенденте больше не было сказано ни слова, и было видно, что Шимана не очень-то доволен теми словами, что были сказаны.
Шимане принесли какую-то бумажку. Он прочитал ее, пожевал пухлыми губами и сказал:
– Господин Нан! Народ требует суда над теми, кто высосал его кровь и мозг. Я не скрою от вас, что Чареника – мой давний враг, и мне приятно знать, что мои враги – отныне враги народа. У вас есть папка на Чаренику и прочих: почему бы не зачитать ее завтра в соборе?
– Не знаю всех обстоятельств, – осторожно сказал Нан, – может быть, эти документы уже у Арфарры.
Шимана пошевелил свою чашечку.
– Ужасно, – сказал он. У этих, на площади, язык без костей! Станут говорить, что вы, мол, уже договорились с Арфаррой, купили свою жизнь ценой этих бумаг.
– Не думаю, – поспешно сказал начальник парчовых курток Андарз. – Там целая папка касается меня, и если б эти документы были в руках Арфарры, он бы нашел способ зачитать эту папку прямо с трибуны собрания.
Нан молчал. Шимана помахал принесенной бумажкой.
– Шесть часов назад, – сказал он, – в Голубом Зале самозванец Арфарра предложил государю восстановить вас в должности. Негодяй Чареника так и закричал: "Нан и Арфарра сговорились за счет блага народа"!
Нан молчал.
– Все дело упирается в документы, – нетерпеливо сказал еретик. – Что скажут, если вы откажетесь их огласить? Скажут, что вы еще надеетесь на примирение с дворцом!
Внезапно Нан вынул из рукава записку и протянул ее Шимане. Записку ему бросил в толпе какой-то из агентов Арфарры. Арфарра предлагал меняться: Нан отдает сундучок с документами, а взамен получает сына.
Андарз всплеснул руками:
– Какая дрянь! Отдайте ему бумаги!
Шимана внимательно прочитал записку и порвал ее.
Первый министр побледнел от бешенства.
– Вы думаете, – сказал он, – мы достаточно сильны, чтобы уже ссориться?
– Ничего Арфарра с вашим сыном не сделает, – возразил Шимана. В крайнем случае отрежет... чтобы тот не мог быть императором.
Слово, употребленное еретиком, было непозволительно грубым.
– Я думаю, господин Шимана, – сказал Андарз, – что сын Нана и государевой кузины, – единственный, помимо государя, ныне живой отпрыск государева рода, и вам стоит упомянуть об этом на вечернем заседании. А господин Нан за это отдаст бумаги, касающиеся вашего врага Чареники.
На этом и порешили.
Нан и Андарз откланялись и покинули комнату с красными циновками. Шамана остался наедине с писаной красавицей. Он поклонился и сказал:
– Документы – бог с ними, можно повесить Чаренику и без документов. Но вот что важно: чтобы Нан навсегда порвал с этими людьми из дворца и сам добивался их гибели. Кончилось время мира!
– Дурак! – сказала женщина, – народ повесит Чаренику за его преступления, а за какие преступления повесишь ты Арфарру?
– Матушка, – сказал Шимана, – я не понимаю, о чем ты?
– Выборы, выборы, – закудахтала женщина. – А кого выберут-то? В столице, пожалуй, выберут тебя! А в провинции-то выберут Арфарру!
Шимана ужасно побледнел.
– Можно обвинить его... и тут же замолк. Все те соображения касательно всенародных выборов и Арфарры, которые уже представлялись Чаренике, пришли в голову и его заклятому врагу. Но следующие слова писаной красавицы заставили Шиману окаменеть.
– Если Нан будет жить, – сказала она, – то кто-то из вас через три месяца отрежет другому голову! А если он умрет сегодня, то он станет богом-хранителем революции. И если смерть его приписать Арфарре и Киссуру, это и будет то преступление, за которое их можно казнить по суду.
– Матушка, – воскликнул Шимана, – я буду неблагодарной лягушкой, если не отомщу за смерть Нана! У нас хватит мужества дойти до эры истинного добра, даже если придется идти по трупам!
И пошел распорядиться.
Поездка Андарза и Нана к дому первого министра заняла почти час: народ не давал им проходу, осыпая жареным зерном. Министр полиции Андарз заплакал и стал на колени.
– Нан, – сказал он, – вы чувствуете запах свободы?
Нан, по правде говоря, чувствовал лишь запах чеснока.
Нан и Андарз прошли в широкий двор: там, среди ликующего народа, стояло десять сектантов, в красных куртках и с мечами, и впереди них – сын Шиманы, стройный, красивый юноша лет семнадцати. Нан знал его и любил: в отличие от своего отца, тот получил изрядное образование и учился в лучших лицеях.
Юноша опустился на колени перед Наном и произнес:
– Отец сказал: "Пока Арфарра держит его сына во дворце – иди и будь его сыном." Ах, господин министр! Этот колдун Арфарра сделал из бобов и бумаги целое войско наемных убийц и послал их по вашим следам: а вы даже свою охрану оставили в Зале Пятидесяти Полей. Можно мы будем охранять вас?
Андарз и Нан довольно переглянулись. "Все-таки Шимана устыдился, подумал Андарз. – Послал сына, для примирения, почти заложником". Засмеялся, обернулся и спросил Нана:
– Как вы думаете, – примет государь делегацию или нет?
– Думаю, – сказал Нан, – что с ним случится приступ астмы.
– Что ж, усмехнулся Андарз, выпятив губу, он не понимает, что если с ним случится приступ астмы, то через месяц ему отрубят голову?
Нан поглядел на Андарза. Министр полиции, взяточник и казнокрад, был очень хорош сегодня. Его большие серые глаза так и светились, дорогой кафтан был измят и разорван на груди, и на высоком лбу красивого цвета спелого миндаля была повязана красная шелковая косынка. Он совсем не походил на того человека, который, два года назад, прятался в масляном кувшине и плакал в ногах Нана.
– А вы понимаете, – сказал Нан, что если через месяц государю отрубят голову, то через два месяца ее отрубят нам?
– Я думаю, что это совершенно неважно, – ответил Андарз.
Оба чиновника сошли с лошадей и расцеловались на прощание. Солнце билось и сверкало в мраморных плитах двора, челядинцы и красные циновки почтительно щурились в отдалении, и с холма, на котором стоял дворец, в раскрытые ворота виднелись бесчисленные беленые крыши и зелень садов, и пестрая толпа на улицах и площадях.
Андарз вскочил на лошадь и поскакал к своим войскам. Нан долго глядел ему вослед, на солнце, город, народ и небо. Обнял сына Шиманы, засмеялся и сказал:
– А вы правы! Арфарра попытается меня убить, – пошлю-ка я за своей охраной.
Черкнул записку и отослал с одним из секретарей.
Нан прошел по аллее, усыпанной красноватым песком, в малые покои в глубине сада. Он шел очень медленно. Встретив садовника, стал расспрашивать его, хороша ли в теплицах клубника, та, которую он всегда посылал государю. Полюбовался цветущими кувшинками и долго стоял в детской у пустой колыбельки.
– Ну, – хлопнул Нан юношу, – пошли за сундучком!
Сын Шиманы как-то растерянно улыбнулся и пошел за министром. Они прошли в малый, скромно отделанный кабинет, с толстым харайнским ковром во весь пол и неброскими гобеленами в белых и голубых тонах. В углу стояло множество богов-хранителей, и юноша вздрогнул дурного предчувствия, заметив среди них яшмового аравана Арфарру. Нан долго что-то делал у каминной решетки, так что сектанты даже подскочили, когда угол ковра вдруг стал опускаться, открывая щель, черную, как лаз в преисподнюю. Нан сошел вниз, а один из сектантов, вышивальщик по занятию, взял фонарь в виде шара, увитого виноградными гроздями, и полез за ним. "Экие аккуратные ступеньки – подумал вышивальщик. – У нас так дома не чисто, как у них в подземелье." Ход был довольно узок. Нан скоро остановился, вынул из стены небольшой сундучок и сунул его в руки сектанту. Сектант, топоча к выходу, полюбопытствовал:
– А куда ведет этот ход дальше?
– Во дворец. Можно даже дойти к моему кабинету.
– Ба, – так мы, значит, можем пробраться во дворец без всякого штурма? Или там – засада?
– Не знаю, – сказал Нан. – Об этом ходе знаю только я и государь. Я почел лишним сообщать о нем моему преемнику, а государь, сколь я знаю, мог и запамятовать.
– Ба, – промолвил сектант, – все-таки у нас неподходящий государь.
Нан помолчал, потом сказал:
– Этот Арфарра, вероятно, велел постукать по стенам, только нынче эти вещи не так строятся, чтобы до них можно было достучаться.
Тут они вышли в малый кабинет. Вышивальщик стал вертеть сундучком на столе, и Нан торопливо сказал:
– Его не открыть без шифра – бумаги сгорят.
Сын Шиманы улыбнулся ненатуральной улыбкой, словно карп на подносе, подошел к двери кабинета и запер ее на ключ изнутри. Двое сектантов скучали и бродили глазами по потолку.
– Итак, – сказал медленно Нан, – я отдаю вашему отцу бумаги, порочащие Чаренику, а что я получаю взамен, кроме народного восторга и репутации предателя?
Тогда все трое сектантов откровенно вынули из ножен мечи, и сын Шиманы стукнул кулаком по столу и заявил:
– Открывайте сундук! Больше вам ничего не осталось!
– Да, – согласился Нан, больше мне ничего не осталось, разве что вот это, – Нан встал, и юноша увидел, что министр вытащил больную руку из-за пазухи и держит в ней какую-то ребристую штучку с глазком посередине. Глазок выпучился на юношу, подмигнул.
– Это как называется? – удивился юноша.
– На языке ойкумены, – ответил насмешливо Нан, – это не называется никак, а сделана эта штука для того, чтобы защищать бедных министров, которых всякая сволочь норовит принести в жертву государственным соображениям.
Юноша схватился за меч и вышивальщик схватился за меч... Говорят, что на небесах эти двое жестоко поспорили: один показывал, что министр-колдун вытряхнул из своего рукава десять тысяч драконов, а другой говорил, что драконов не было, а была огненная река; и судья Бужва, вконец запутавшись, постановил, что это дело не входит в его юрисдикцию.
И если вы хотите узнать, что случилось дальше, – читайте следующую главу.
13
Убедившись, что весь Государственный Совет остается на заседании, Киссур, довольно усмехаясь, спустился в дворовую кухню, где под присмотром Алдона и двоих его сыновей, поварята в желтых передничках варили в огромном котле птичий клей.
– Готово? – спросил Киссур.
– Готово, – ответил Алдон.
– Тогда понесли, – распорядился новый фаворит.
– Что ты скажешь людям, – спросил Алдон.
– Я сначала сделаю их людьми, – усмехнулся Киссур, а потом и поговорю.
Варвары подхватили котел за чугунные ушки и потащили во внутренний дворик, где собралось большинство защитников дворца. Господин Андарз бессовестно преуменьшал, уверяя, что из городской стражи осталось в живых тридцать человек. Их было не меньше двух сотен.
Лавочник Радун-старший лежал на песке в одной набрюшной юбочке. При виде Киссура он приподнял голову и сказал своему собеседнику:
– Ишь, опять пришел ругаться. Ты как думаешь, наш склад в Лесной Головке уцелеет?
Склад имел все шансы уцелеть, так как Радун отдал дочь замуж за большого человека из "красных циновок".
– Не знаю, – откликнулся собеседник. – А вот, говорят, народное собрание заседает сегодня в зале Пятидесяти Полей, и принимает там делегацию от уроженцев Варнарайна, в национальных костюмах. Если б мы были в этой делегации, то склад бы наверняка уцелел.
Киссур оглянулся и подошел к Радуну.
– А ну оденься, – сказал он.
Лавочник перевернулся на песке.
– А что, – сощурился он на юношу, – разве мне дали десять палок, что я не могу показать спину солнцу?
Все захохотали.
В следующее мгновение один из сыновей Алдона, из-за спины Киссура, вскинул рогатое копье и вогнал его в глотку умника.
Люди повскакали с мест, но в этот миг внимание их было отвлечено новым обстоятельством: племянник Алдона, бешено бранясь, вталкивал во двор, одного за другим, только что арестованных дворцовых чиновников. Пленники, связанные вместе, в своих нарядных кафтанах и придворных шапках, походили на гирлянды праздничных тыкв, которые продают на рынке в дни храмовых торжеств, раскрасив всеми восемью цветами и семьюдесятью оттенками. Воины пораскрывали глаза, увидев, что первым среди арестованных тащат сына Чареники.
Киссур подошел к пленнику и ткнул его в грудь.
– Все вы, – сказал Киссур, – изобличены в кознях против государства и в сношениях с бунтовщиками.
– Только попробуй отруби мне голову, – взвизгнул чиновник.
– Я вовсе не собираюсь рубить тебе голову, – возразил Киссур. – Я раздену тебя и загоню в этот чан с клеем. После этого купанья я заставлю тебя одеть опять твой нарядный кафтанчик, и отдам тебя моим солдатам: и они начнут сдирать с тебя кафтан вместе с кожей.
Тут лавочникам стало интересно, потому что раньше дворцовые чиновники драли с них кожу, а чтобы они драли кожу с чиновников, – такого не было.
– Я невиновен, – взвизгнул Чареника-сын в ужасе.
– Это хорошо, если ты невиновен, – сказал Киссур, – в таком случае бог оправдает тебя.
– Каким образом? – встревожился чиновник.
– Вас тут двенадцать человек, связанных попарно. Каждый получит меч и будет драться с тем, с кем он связан. Тот, кто невиновен, победит, а тот, кто виновен – проиграет. А того, кто откажется, я вымажу клеем и отдам солдатам.
Чареника-сын оглянулся на цепочку чиновников и истерически захохотал. Дело в том, что Киссур и Алдон так связали людей, что в каждой паре стояли смертельные враги, и мало кто из них отказался бы от возможности свести последние счеты.
Поединки продолжались три часа.
Когда все кончилось, Киссур обвел глазами своих воинов: лица у них налились кровью, глаза пританцовывали, – эге-гей, да это уже были не прежние лавочники, это были те самые аломы, чьи предки превращались в бою в волков и рысей!
– Эй вы, воры! – закричал Киссур. – Ох и будет вам завтра чем похвастаться перед предками! Ох и славную про вас сложат песню!
Тут Киссур произнес речь, и это была очень хорошая речь. Он сказал, что храбрость воина приобретает за одну ночь больше, чем корысть лавочника – за десять лет.
– Клянусь божьим зобом, – орал Киссур, – мы – как эти вейцы! Кто победит – будет прав в глазах бога, кто помрет – избегнет жуткой смерти! Мой предок, император Амар, двести лет назад переплыл этот ров с полусотней людей, и приобрел себе славу и богатство, и, клянусь всеми богами, я повторю сегодня то, что сделал император Амар! Пусть станут направо те, кто забыл о чести и выгоде, а налево – те, кто хочет убить своих врагов и преумножить свое добро! Мне не нужно много людей – чем меньше воинов, тем больше доля каждого!
А в Зале Пятидесяти Полей шло ночное заседание. На помосте сидел Шимана и двенадцать сопредседателей. За ними возвышался алтарь, крытый алым сукном. На алтаре стояли курильницы и золотые миски. В мисках плавали ветви сосен с прикрепленными к ним табличками.
Шимана поцеловал священные таблички и предложил:
– Посвятим первую часть заседания выборам делегации, отправляющейся во дворец, ибо первая, увы, вернулась ни с чем, – а потом господин Нан обещал прислать документы, в которых будет рассказана вся правда о злодеяниях Чареники и других негодяев, угнетавших народ.
Едва выбранная делегация отбыла во дворец, как к Шимане прибежал посыльный от Андарза и доложил, что к Зале Пятидесяти Полей от рыночной площади идет огромная толпа, и во главе ее – святой Лахут.
– Не стоит ли объявить их агентами Арфарры, – спросил один из сектантов, – и отрубить им головы?
– Нет, – возразил Шимана, – придется срубить слишком много голов. Лучше допустить народ в залу и побрататься с ним.
Делать нечего! Молебен пришлось отложить, и скоро огромная толпа народа окружила павильон, где заседали уважаемые люди и представители цехов. В павильоне растворили двери, и народ набился в проходы и верхние галереи. У пришедших в руках были фонари в форме красных орхидей, с надписями на фонарях "представитель народа". Остальные размахивали приветственными флагами.
– Что-то у них слишком много флагов, – заметил один из членов Доброго Совета.
– Они насажены на древки копий, – шепотом ответил Шимана.
Сначала люди с красными фонарями вели себя тихо. Попав во дворец впервые в жизни, они с благоговением вертели головой, озирая изысканную резьбу на стенах и цветочные шары, свисающие с потолка. Потом ораторы из их числа стали выходить на сцену со словами благодарности собору и народу, и по мере каждого последующего выступления люди с красными фонарями вели себя все развязней, и даже скоро заплевали пол, на котором уселись, красной жвачкой от бетеля.
Первый оратор сказал:
– Предлагаю считать нынешний день первым днем нового времени. Прежние века не существуют для нас; нельзя считать жизнью то время, когда мы жили под пятой тирании.
Люди в проходах и ярусах одобрительно засвистели.
Вторым говорил человек в кафтане младшего дворцового писца.
– Люди, – сказал он, – никогда я не видел революции столь удивительной и возвышенной, рассыпающей благоухание вокруг, милостью привлекающей друзей, великодушием побеждающей врагов! Я сам видел, как при известии о революции расцвело золотое дерево во дворце!
Люди в проходах и ярусах одобрительно засвистели.
Третьим выступал человек в красной парчовой куртке и с оторванным ухом.
– Люди, – сказал он, – я всегда был справедливым человеком! Сердце мое такое, – где увижу негодяя, не могу заснуть, пока не съем у негодяя сердце и печенку! Всю жизнь я должен был скрываться от негодяев...
Слова его потонули в рукоплесканиях, – это был знаменитый вор Ласия Бараний Глаз.
Четвертым вышел человек в куртке мастерового.
– Люди, – сказал он, – посмотрите на себя: здесь тысяча стульев, и каждый человек сидит на одном стуле: странным показалось бы вам, если бы кто-то расселся на пяти стульях. Люди! Жизнь наша подобна этому залу, а имущество – местам в зале; на всех хватило бы поровну, если б богачи не сидели на пяти местах сразу! Как можно, уничтожив дворцовых чиновников, терпеть над собой рабство еще более страшное – рабство богачей?
Люди в проходах и ярусах закричали от радости, а Шимана застучал в медную тарелочку.
Пятый оратор был сам святой Лахут. Он сказал:
– Братья! О каком равенстве толкует Шимана? Он ест с золотых тарелок, а вы – с пальмовых листьев, он ходит в кафтане, крытом шелком, а вы – в штанах на завязочках. Вы посмотрите, сколько в этом борове сала! И каждая капелька этого сала, – высосана из мозга наших детей! Я-то знаю: сам был кровопийцей! Разве, о Шимана, равны богач и нищий? Разве, о Шимана, будут равны возможности, пока не станут равны состояния?
Шимана заметался на своем председательском кресле, как сазан на сковородке, и в этот момент, раздались крики:
– Человек от Нана! Человек от Нана!
От магического имени толпа расступилась, и на помост вспрыгнул молодой чиновник в шелковом синем платье и кожаных сапожках. На круглом воротнике были вышиты кленовые листья, какие носят секретари первого министра.
– Уважаемые граждане, – сказал молодой секретарь, – пришел час рассказать о некоторых преступлениях, совершенных негодяями, пившими кровь народа и терзавшими его печень. Раньше господин Нан не имел возможности рассказать об этих преступлениях, ибо негодяи угрожали его жизни, но он тайно собирал документы, в надежде на внимание народа.
– Поистине, – продолжал секретарь, – эти люди составлены из мерзости и лжи, и после смерти они попадут в самые злополучные уголки ада.
Секретарь замолк, откашлялся и стал суетиться в бумагах.
– Вот, например, один из них, будучи главой округа в Сониме, послал людей ограбить торговый караван из десяти судов. Когда же капитан каравана явился к нему с просьбой о расследовании, он вскричал: "Негодяй! В моем округе нет разбойников! Я вижу, ты сам по дешевке распродал добро, а теперь хочешь обмануть своего хозяина!" Он велел бить несчастного капитана расщепленными палками, тот не выдержал пытки, признался и был повешен.
В Чахаре этот человек усмирял бунт. Как он обходился с крестьянами это один вопрос. Из-за спешности дела войска его были наемные. Он окружил столицу провинции, и накануне штурма ему прислали плату и продовольствие для солдат. Он задержал раздачу платы до взятия города, и все деньги, причитающиеся убитым, положил себе в карман. Но мало этого: он изменил план штурма, и велел брать город в лоб, чтобы убитых было больше!
– Или вот другой негодяй, – продолжал молодой секретарь. Восемь лет назад он построил мельницу в одном из округов Кассанданы. В округе было еще три мельницы, и все три были сожжены по его приказу его молодчиками, а он заломил неслыханные цены за помол. Один местный чиновник, сострадая народу, выстроил казенную мельницу. Счет за постройку мельницы пошел наверх. Человек, о котором я веду речь, подкупил кого надо, и счет вернулся с такою пометой: "Стоимость постройки, указанная в семьдесят тысяч, явно завышена. Реальную стоимость постройки записать как десять тысяч. Недостающие деньги взыскать с преступного чиновника. Надобности в мельнице нет, окупить она себя не может. Посему, дабы не отягощать казну, продать мельницу за десять тысяч в частные руки, если найдется желающий". У честного чиновника не было ни гроша – он сгинул в тюрьме, а негодяй купил и эту мельницу за седьмую часть стоимости!"