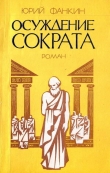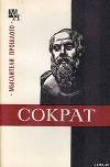Текст книги "Сократ"
Автор книги: Йозеф Томан
Соавторы: Мирослава Томанова
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
Критий вдруг понял, что Сократ разговаривает с ним отнюдь не как с правителем, тем самым подтверждая донос Анофелеса. Он встал, указал Сократу на дверь.
Выйдя из булевтерия, Сократ попал в объятия своих учеников. Его засыпали вопросами – чем кончилось?
– Критий почтил меня новым запретом. Отныне я вообще не имею права разговаривать с теми, кто моложе тридцати лет.
– Ах, это за то, что ты сравнил его со свиньей, когда он отирался об Эвтидема, – сказал Критон.
– Скорее за то, что ты распространил по Афинам мысль: тот не правитель, кто, подобно негодному пастырю, уменьшает свое стадо, – возразил Ксенофонт.
– Это – страх, – вымолвил Платон. – Страх, который Сократ внушает Критию.
– А мы-то хотели, чтоб ты нам рассказал... – жалобно протянул Аполлодор.
Сократ ухмыльнулся.
– Но мне позволено разговаривать с теми из вас, кому больше тридцати как Критону или Симону. С младшими разговаривать закон мне запрещает. Постойте! Не ершитесь, не возмущайтесь, будьте внимательны: вам, молодым, закон не запрещает слушать, когда я буду беседовать со старшими. Об этом, клянусь шкурой Кербера, в законе ничего не сказано!
Обнимают, уводят Сократа, весело шумя.
Когда Сократ покинул булевтерий, отдернулась одна из завес, и в зал вошел Хармид.
– Ты хорошо слышал, Хармид?
– Каждое слово, особенно – его. Но я уверен, он и теперь не подчинится. Ты говоришь – надо нагнать на него страху. Да разве этот упрямец знает, что такое страх? Он сам нагоняет страх на нас!
– Порой я думаю, не лучше ли предать его суду за подстрекательство: один свидетель у меня есть, других найдем играючи, а тогда – чаша цикуты, и будет покой.
– Не будет, милый Критий.
– Ты прав – он и мертвый будет вредить нам. И даже больше, чем живой. Афиняне нас ненавидят, его любят. И все же я был бы спокойней, если б его не стало.
– Замолчи – он был не только твоим, но и моим учителем, – сказал Хармид, передернувшись от отвращения к Критию.
– Нет, с ним пока подождем. Сейчас нам опаснее Алкивиад. Народ уже громко кричит, призывая его, а если ему удастся поднять на нас персидского царя, будем иметь дело и с ним, и с афинским демосом. Пока Алкивиад жив, нам и в собственном доме небезопасно.
– Что ты задумал? – Голос Хармида звучал зло, возмущенно. – Он тоже любимец Афин. И мой и твой родственник.
– Эту работу я предоставлю спартанцам. Пойду к Лисандру. А за Сократом установлю наблюдение.
– Делай, как разумеешь, а я не желаю иметь со всем этим ничего общего. Но берегись: в том, за что тебя упрекал Ферамен, после его смерти упрекают уже и другие из оставшихся двадцати восьми. Взвесь все хорошенько – если обезвредишь Алкивиада и Сократа, как бы не погубили нас раздоры в собственных рядах!
Критий сверкнул глазами:
– Спасибо, что предупредил, – вижу, придется нам все-таки казнить Сократа! Что мы уменьшаем стадо – это лишь часть правды, а целая правда – в том, что мы избавляемся от паршивых овец. И если парша распространяется быстро, это значит, что мы должны действовать еще быстрее.
8
И даже в теперешнем положении
оставалась слабая надежда, что дела
афинян не погибли окончательно, пока
жив Алкивиад. Ибо как раньше, будучи в
изгнании, он не любил бездеятельной и
спокойной жизни, так и теперь, если он
будет иметь достаточно сил, он не
снесет надменности лакедемонян и
бесчинств Тридцати. Эти мечты народа
не были невероятными...
Плутарх 1
1 Перевод Е. Л. Оверецкой под редакцией С. Я. Лурье. Плутарх. Избранные биографии. М.-Л., 1941, с. 144.
С каждым днем мысль об этом все больше пугала тиранов. Критий велел доложить о себе Лисандру; мужлан сидя принял поэта, софиста, главу правительства, и выслушал, так и не предложив ему сесть.
– Спартанцы не смогут спокойно владеть Афинами, пока жив Алкивиад, так закончил Критий.
Лисандр отпустил Крития кивком головы. И тотчас отправил гонца в Даскилею на Пропонтиде, к сатрапу Фарнабазу, чтоб устроить нужное.
День тот имел странные краски, звуки и запахи. Ветер дул с фракийских гор, где пребывает Сабазий, как здесь называли Диониса. Ветер холодный, бешеный, будоражащий и пьянящий. На гребне свистящего ветра летел высокий, непрекращающийся звук, неизменной высоты, неизменной пронзительности.
День был окрашен в цвет тумана, который стелется у самой земли, коварно выползает из всех расщелин, впитывается во все, что встречается ему на пути.
Алкивиаду привиделся дурной сон. Ему снилось – он переодет в платье возлюбленной, и Тимандра подкрасила ему лицо, словно он женщина.
Алкивиад был хмур; беспокойно ходил по комнате. Вчера он ужинал у Фарнабаза; но ко всем намекам, что пора ему, Алкивиаду, двинуться в поход во главе персидского войска и освободить Афины от спартанцев и от власти Тридцати, тот оставался глух и нем.
– Должен же Фарнабаз прислать за мной и дать мне персидское войско! Почему он медлит? Кто, кроме меня, может спасти Афины?
Уже много дней Тимандра с тревогой следила за нетерпением Алкивиада. Ей тоже не нравилась мешкотность сатрапа, и теперь, улавливая нотки отчаяния в голосе любимого, она вся дрожала. Как он страдает! Чем помочь ему? Как успокоить?
– Что означает этот сон, Тимандра?
Мороз пробежал у нее по коже до самых ног, до ногтей на ногах, окрашенных кармином. Тимандра была суеверна и боялась дурных снов. Она ответила нежно:
– Он означает, что ты – это я, а я – это ты. Мы с тобой – одно, понимаешь?
Она привлекла его к себе, на шкуры, разложенные по полу перед очагом, и заговорила, ласкаясь:
– Как я люблю тебя, Алкивиад! Как хочу, чтоб и ты любил меня такой же любовью...
Ее агатовые глаза, всегда такие завораживающие, сегодня сверкали напрасно.
– Сатрап Фарнабаз – хитрый варвар, – сказал Алкивиад. – А царь Персии хитрее его настолько же, насколько могущественнее. – И вдруг закричал: Долго ли собираетесь вы играть со мной в прятки?! Выслушаете ли меня наконец? Послушаетесь?!
Тимандра прижала его ладонь к своей груди. Жалобно проговорила:
– Сегодня ты даже не погладишь свою маленькую Тимандру? Не любишь меня больше, дорогой?..
– Чем объяснить, что царь Персии медлит? Может, он опять полюбил спартанцев больше, чем нас?
Тимандру охватила дрожь. Почему это так мучает Алкивиада? Почему мало ему нашего скромного счастья?
– Мне холодно без твоих ласк, – прошептала она. – А у тебя сегодня был такой хороший сон – ты был мною, а я тобой...
– Слышишь этот звук? – перебил он ее.
– Какой звук, любимый?
– Такой высокий, непрерывный звон...
Она прислушалась.
– Ничего не слышу. Он звенит в тебе, этот звук, от мучительного ожидания.
Она поднялась, пробежала по шкурам за кифарой, торопливо ударила по струнам.
– Сейчас ты перестанешь его слышать!
Запела.
Дурное свершается мгновенно, хотя надвигается медленно, подумал Алкивиад. Но какое дурное, по какой причине? Что может быть хуже для меня, чем ждать, словно нищему, у ворот сатрапова дворца? Я должен, должен вернуться в Афины! И – со славой! Ах, я уже слышу ликование толп, вижу пылающие факелы...
Кифара Тимандры звучала – глухие, темные аккорды; голос ее дрожал от страха, напрасно старалась она окрасить его страстной жаждой любви. Почувствовала, что сейчас расплачется, и умолкла. Отложила кифару, бросилась к Алкивиаду, обнимала его, целовала...
– Люби меня! Люби меня! Я погибну без твоей любви!
Он отвечал ей объятиями, поцелуями.
– Я-то тебя люблю, но ты скоро перестанешь любить меня, нищего, жалкого просителя. Я б на колени упал перед персидским царем, слезами смягчил бы его сердце – да он меня к себе не допускает!
– Взгляни, Алкивиад. – Тимандра показала на высоко прорубленное окно, задернутое занавесом. – Я еще не видела таких кровавых закатов.
– Здесь, на севере, закаты пышнее, чем в Афинах...
Но багровые отсветы на занавесе шевелились.
Алкивиад вскочил.
– О боги! – в ужасе воскликнул он. – Смотри! И на восточной стороне зарево! Это не закат, Тимандра. Дом горит!
Бревенчатый дом, подожженный с четырех сторон, стоял в пламени.
Алкивиад, как ребенка, подхватил Тимандру на руки, вынес из дому. Одним прыжком вернулся внутрь, обмотал плащ вокруг левой руки, правой схватил меч – ждал воинов, а не убийц из-за угла.
Выбежал через огонь навстречу врагу. Ярко озаренный пожаром, со сверкающим мечом в руке, стоял он – разъяренный, страшный демон. Наемные убийцы, сбежавшиеся было к горящему дому, отступили к лесу. Имя Алкивиада внушало им страх. Сам он наводил на них ужас.
Он стоял перед пылающим домом, словно в огне, тучи дыма минутами совсем скрывали его.
– Сюда, ко мне, негодяи! Выходите против меня! Всем вам головы снесу!
Почудился издали отчаянный зов Тимандры:
– Алкивиад!
Заглушая треск огня и грохот рушащихся балок, он крикнул:
– Не бойся, Тимандра! Меня никто не одолеет!
Трусливые тени стали метать в него копья с опушки леса, засыпали дождем стрел. Он пал бездыханный.
Ветер свистел, раздувая пламя, но тени Фарнабазовых наемников укрылись во тьме, и ночь поглотила их.
Дом догорал, когда Тимандра нашла тело любимого.
Горько зарыдала она. И так просидела над мертвым возлюбленным до рассвета.
Утром она умастила Алкивиада благовонными маслами, обернула в свои белые одежды, увенчала ему голову венком из зеленых листьев.
Когда хоронили Алкивиада, впереди небольшой погребальной процессии несли его копье – в знак того, что те, кого он оставил на земле, будут мстить его убийцам.
9
Гой, сегодня все напейтесь, пейте даже
через силу: умер Критий!
Надпись на афинских стенах
Много афинских демократов, спасаясь от тиранов, вовремя покинули Афины и Аттику, укрылись в Фивах и в пограничной крепости Филе.
И вот после долгих месяцев кровавого правления настал час, когда Критий стоял на высоком пьедестале из тысяч трупов, а тираны не могли уже договориться меж собою – убивать ли больше или меньше, и кого, и за что, у кого что отнять, кому отдать; когда одни афиняне въезжали в роскошные дома убитых, восхваляя тиранию, а другие, поселившись на свалках, взывали к справедливости, – старый воин, флотоводец Фрасибул, верный сторонник народовластия, двинулся во главе демократов на Пирей и Мунихий, разгромил олигархов и освободил государство от ненасытных убийц.
Критий пал в бою, сраженный множеством ран, нанесенных спереди и сзади.
По дороге к агоре тянется шествие, во главе его – Фрасибул и Анит. В колонне шагает приплясывая странный человек. На его голове венок, с которого, развеваясь, свисают разноцветные ленточки; человек восторженно вскидывает руки, выкрикивая:
– Да здравствует демократия! Да здравствует Фрасибул, освободитель!
Это Анофелес. Граждане весело приветствуют его как шута, неотъемлемую принадлежность города.
С таким же энтузиазмом, как Фрасибула, приветствует народ Сократа и его учеников. Сократ, как всегда, босой, на нем его обычный – единственный гиматий, но лицо сияет празднично.
Юная девушка подбежала к нему, увенчала розами. Какой-то мужчина протянул ему кувшин:
– Выпей, Сократ! Сегодня – несмешанное!
Сократ, отхлебнув, восклицает:
– За счастливую жизнь!
На возвышении для ораторов, на которое совсем недавно поднимались Павсаний, Лисандр и Критий, – лицом к площади, набитой людьми так тесно, что и оливке некуда упасть, встали сегодня Фрасибул, демагог Анит и ритор Ликон.
Анофелес в своих лентах пробился к Сократу:
– Что же нету тебя среди ораторов в столь торжественный день?
Взяв кончиками пальцев одну из ленточек его венка, Сократ возразил:
– А зачем это мне?
Анофелес – громко, выспренне:
– Но ты показывал пример бесстрашия перед кровавыми деспотами, перед худшим из них – Критием! Это знают все Афины!
– Ну и разве недостаточно, что это знают все Афины? – удивился Сократ. – Неужели же мне еще об этом рассказывать?
Старому воину Фрасибулу легче схватиться с полчищем неприятеля, чем сочинять возвышенные фразы. Он говорит сурово и кратко.
Анит, полагая, что лаконичность Фрасибула не придала достаточного блеска великому моменту, сочным голосом заводит торжественную речь – о вражде богов, о жестокости спартанцев, которую превосходила только жестокость афинской олигархии, возглавляемой Критием. Обещает:
– Мы отпустим на свободу всех, кого бросили в темницу Тридцать тиранов, вернем конфискованное имущество... Обновим славную демократию. Восстановим народное собрание, буле и гелиэю. Вновь введем обычай справедливого избрания архонтов и пританов из числа полноправных граждан путем жеребьевки. Установим бесплатный вход в театры и плату за время, отданное служению городу. Будем выдавать пособия неимущим гражданам...
Долго говорил Анит, много наобещал, под восторженные клики толпы камень за камнем укладывал в основание храма обновленной демократии, которая отныне будет править в Афинах.
Ликон, весьма искушенный в риторике, начал от Гомера и довел до нынешнего великого дня. Речь свою он заключил высокопарной фразой:
– Граждане Афин, друзья! Власть народа даст вам все, что до сей поры виделось вам недосягаемым!
Толпа расступилась. Государственные рабы вынесли амфоры вина – первое из того, что было недосягаемо для бедняков.
ИНТЕРМЕДИЯ ЧЕТВЕРТАЯ
Едва он сегодня вошел и без приглашения направился своей переваливающейся походкой к креслу, которое я всегда ему предлагал, я сразу набросился на него с нетерпеливым вопросом:
– Как могло случиться, Сократ, что ты невредимым пережил власть тиранов? Повиновался запрету Крития и перестал беседовать с молодежью?
Округлый живот Сократа заколыхался от смеха:
– Как тебе такое на ум пришло, милый мой северянин? Ты ведь уже немножко знаешь меня. Мог ли я прекратить беседы? Да для меня это все равно что перестать дышать... А было так. Выйду, как обычно, пошататься по городу, встречу знакомого юношу, только заговорю с ним – а он палец к губам и давай бог ноги! Я зову, я кричу ему – куда! Самые преданные мои ученики не желали меня узнавать. Оберегали, добрые души, от меня самого. Не стану врать, это делало меня счастливым – в остальном же очень мало радости приносило мне то время. Критий рассчитывал, что сикофанты застигнут меня, когда я буду по-прежнему "подстрекать" молодежь против него, и я за это поплачусь головой. Но скажу тебе – молчать, когда Критий сотнями умерщвлял своих же, афинян, было для меня мукой... Зато позднее я щедро вознаграждал себя вплоть до самого...
– Знаю, – поспешил я прервать его. – Когда Афины стали снова свободны, ты начал нападать и на вождей демократии.
– Ошибаешься, друг, – возразил Сократ. – Нападал я на Крития демократию же всегда только стремился улучшить. Вспомни: права женщинам, облегченье рабам и хорошее образование для всех... Мог ли я молчать, глядя на Анита? Но я не хочу быть несправедливым, даже к нему. После Пелопоннесской войны он получил в наследство разруху. Трудное было время. От могущественных Афин, главы морского союза, остался маленький клочок земли, разоренной дотла... Конечно, нелегко было вести хозяйство в таких бедственных условиях. Но демагог Анит и ему подобные совершенно выпустили вожжи из рук, вместо хоть какого-то порядка воцарились полный произвол и разврат. Не обижайся поэтому, что я тебя поправил: таких, как Анит, уже нельзя было назвать демократами – то были демагоги, зараженные софистикой. Объяснить народу умели все, а вот решить – ничего. Зато где только могли гребли к себе, как все эти крысы, что повылезали тогда из нор. И не спрашивай, до чего возмущал я их своим простым образом жизни и наставлениями к скромности и умеренности. Со старыми и с молодыми я без обиняков обсуждал то, что есть, и то, что должно и чего не должно быть.
– Я читал о так называемых плутократах, – вставил я. – Они нахватали больше богатств, чем когда-либо было у старых аристократов. Лисий так отзывался об этих скоробогачах: "Люди эти находят родину в любой стране или общине, там, где им открывается возможность большой наживы. Их родина – не община, а имущество".
– Прекрасно написал Лисий, – похвалил Сократ. – Так метко и я не сумел бы сказать! Но я должен объяснить тебе, что еще из всей софистики особенно подходило всем этим крысам, в том числе Аниту.
Сократ взъерошил бороду и перечислил грехи софистов. Отрицание объективной истины. Каждый человек имеет право убеждать прочих, будто истина – то, что ему таковой кажется. Единственный авторитет – индивидуум. Сила тождественна праву. Нравственно то, что полезно сильному. Даже умно построенная речь может стать инструментом силы.
– Достаточно ли внимательно ты слушаешь? – многозначительно осведомился Сократ. – Понимаешь, для чего они использовали риторику? Хотели сказать, что ловкостью языка достигнешь на свете большего, чем мудростью и добродетелью. А софросине? По их мнению, это просто чепуха, раздутая старым чудаком Сократом. Они же, напротив, требовали всего сверх меры, через силу и невоздержанность свою называли радостью жизни. Грубость и бесчувственность полагали свойствами, привлекательными у избранных. Заносчивость свою изображали чувством собственного достоинства. А недисциплинированность провозглашали свободой. Их неустанные проповеди произвола привели со временем к страшным последствиям.
Сократ сидел опустив голову, руки его покоились на коленях; он показался мне очень бледным.
Но вдруг старый философ выпрямился, щеки у него порозовели, и он быстро заговорил:
– Я рассказал, как плохо было тогда. Спекулянты хлебом и прочими товарами немилосердно выжимали последний обол у людей – и моя небольшая семья жила не лучше других. Как раз в ту пору случилось такое, что лучше б мне провалиться... А все из-за Ксантиппы...
Я давно собирался расспросить Сократа о его жене, да не решался; но теперь у меня сорвалось с языка:
– А правда, что Ксантиппа была сварливой и злой женщиной?
– Клянусь клыками Кербера! – возмущенно вскричал он. – Какой только не изображали злые языки мою бедную Ксантиппу! Настоящей Мегерой! Ох и люди же! Точили бы лучше об меня свои зубы... Это я был упрям! Она от меня страдала, не я от нее!
– Ах, Сократ! Опять ты преувеличиваешь. Вижу, сказывается темперамент грека...
– Ладно, ладно, – надулся Сократ.
Он встал с кресла, заходил из угла в угол – по ковру его босые ноги ступали бесшумно, по паркету со шлепаньем. Но вот он остановился передо мной.
– Отвечу тебе одним лишь примером, и надеюсь, этого будет достаточно, чтобы показать подлинную картину наших отношений. Ксантиппа прихварывала ей перевалило за пятьдесят. Всю домашнюю работу делала Мирто. Ксантиппа была рада, что мы взяли Мирто к себе, она и сама полюбила девушку, словечка недоброго ей не сказала, но... Но, как уж оно бывает, тяжело ей было, что я свое сердце делил пополам... Что ж, правда: половину я оставил Ксантиппе, вторую отдал Мирто. Это не улучшало расположение духа моей жены, и порой она меня основательно пробирала. Однако тут я был совершенно не виноват. Сам знаешь – мужчина в таких делах никогда не бывает виноват, – произнес он с серьезным видом, однако лукаво подмигнув мне одним глазом.
Я кивнул с такой же серьезной миной, хотя кто знает – быть может, и меня выдал один мой глаз, лукаво подмигнув Сократу...
– А потом и случилась неприятность. – Сократ помрачнел. – И неприятность эту причинил Ксантиппе я. Мой бывший ученик Аристипп из Кирены, что в Северной Африке, основал у себя на родине школу. Он принял мою мысль, что образованность дает человеку ощущение высочайшего блаженства. Но, хитрая лиса, Аристипп на первое место поставил наслаждение, гедоне объявив его смыслом жизни, и тем завоевал огромную популярность, пускай и оговаривался робко, что в каждом наслаждении следует соблюдать мою софросине. Ловкач, скажу тебе, был этот Аристипп, брал с учеников высокую плату – и разбогател. С того-то и началось. Этот гедонист Аристипп презрел мой принцип – ни от кого не брать денег за учение; быть может, он рассуждал так: я тут живу как в Элисии, а у Сократа собачья жизнь, пускай же мой старый учитель не испытывает нужды на склоне лет. Намерение-то у него было доброе, вот и послал он мне с особым гонцом двадцать мин! А знаешь ли ты, человек из далекого будущего, что такое двадцать мин?! – возбужденно вскричал Сократ. Это две тысячи драхм! Сумма, намного превышающая все, что я имел!
Итак, сваливаются на нас двадцать мин: вот он, конец всем бедам, рукой подать, до глубокой старости нам обеспечен сверкающий серебром достаток, Ксантиппа уже благодарит богов... Деньги явились как по заказу, знаю, все знаю, и то, что это в первую очередь принесет облегчение больной Ксантиппе... Дрожу весь словно в лихорадке – но не могу иначе! Отвергаю дар! Иппа моя обращает на меня умоляющий взгляд, руки протягивает – напрасно: я возвращаю Аристиппу царский подарок. Лампроклу с Мирто пришлось увести Ксантиппу на ложе. Она теряла сознание.
Даже и после этого я велел гонцу удалиться с его кошелем.
Что же ты теперь обо мне думаешь, неведомый мой северянин, к которому я явился сам не знаю через сколько Олимпиад?
У меня прямо-таки зубы стучали от волнения. Ведь прежде всего своему учителю обязан был Аристипп тем, что смог открыть в Кирене школу, пользующуюся такой широкой славой, и разбогатеть. Но к тому времени я уже слишком хорошо знал Сократа, чтобы понять, как трудно ему было, сострадая к семье, принять такое решение; но еще я понимал, что только так и мог он поступить.
Сократ не вынес моего молчания в таком больном для него вопросе и спросил:
– Так как же считаешь ты, глядя на все это из такой дали: быть может, я должен был сгрести эту кучу серебра... после того как всю жизнь отказывался принимать плату за то, что стараюсь подсадить людей ступенькой повыше?
– Нет, Сократ! – чуть ли не крикнул я. – Нет, ты не мог принять это серебро!
– Вот и хорошо. Ты со мной согласен. Но по отношению к Ксантиппе это было безжалостно. И я понимал ее, если впоследствии, когда у нее ничего не бывало на ужин, она попрекала меня этими двадцатью минами и бранилась так, что вся улица сбегалась, точно на пожар. Верь мне, и никому иному: хорошей женой была мне моя Иппа. Другая бы в ту минуту бросилась на меня, словно гарпия, и царапалась бы, и визжала, пока я не взял бы серебро – между нами говоря, в общем-то отчасти и заслуженное. Но после этого я был бы уже не тем Сократом, какого вы нынче знаете.
Он вздохнул.
– И это не все! Позднее я еще хуже поступил с Ксантиппой и со всеми моими. Буду рад, друг – а я убедился, что ты мне друг, – если ты не пойдешь по пути недругов, изобразивших мою Ксантиппу злой бабой. Напиши правду – в нашей супружеской упряжке иноходцем-то был я, а не Иппа.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
1
Под низенькими кустами тамариска, прямо на голой земле, любятся мужчина и женщина. С трех сторон их окружает свалка, четвертую замыкают остатки снесенных стен, уже поросших сорной травой.
На расстоянии стадия от парочки стоит неподвижный Сократ, ученики его расселись на обломках стены.
Осторожно приближается страж порядка, скиф. Он все видит, но не вмешивается. Распаляясь, жадно наблюдает он происходящее. Под ногой его скрипнул камешек – мужчина поднял голову, увидел скифа, увидел его глаза. Любовные труды прерваны.
Только тогда скиф крикнул:
– Вы нарушили закон нравственности! Это публичный разврат! Девка задрала голые ноги, будто она дома!
Женщина опустила пеплос, села, ответила криком:
– Это я-то девка? А? Слышите, боги?!
Мужчина встал, напустился на скифа:
– Что-о? Нравственность, публичный разврат? Девкой ее назвал? К твоему сведению, паршивый варвар, это моя жена! А безнравствен – ты, коли пялишь на нас глаза... и вообще, как ты смеешь препятствовать исполнению супружеских обязанностей?
– В общественных местах этим запрещено заниматься, вы не дома...
– А у нас нет дома! Наш дом – здесь! Наш дворец – вот это вот. Мужчина со злостью раскинул руки. – Вон тот обломок – наш стол, тот – мое кресло! А тут тебе и перистиль с роскошными цветочками. – Он показал на заросли репейника, опунций и тамариска и, теперь только заметив Сократа с его друзьями, добавил: – И со статуями! А статуи-то живые, видал? – Он махнул рукой в сторону неподвижно стоящего философа.
Скиф, однако, не собирался сдаваться.
– Знаю я вас! Бродяги! Бездельники! Дармоеды! Клопами к Афинам присосались!
– Заткнись, морда! Я-то здесь дома – проваливай с моего места!
Скиф опрометчиво брякнул своим коротким мечом, опрометчиво прокричал что-то насчет примерного наказания тюрьмой или штрафом.
Тогда шевельнулись кусты, из-за обломков стены стали подниматься еще и еще несчастные.
– Кто тут орет?!
– Это я только начинаю! – закричал мужчина, почувствовав поддержку. Ты чего тут свой меч дергаешь? Я тебя так дерну, что душа с телом расстанется! Видали невежу? – обратился он к сотоварищам. – Вздумал наказывать нас за то, что нам негде жить! Дай нам дом, как у Анита, покажем мы тебе тогда такое, чего тут не увидишь, только приди! А еще говорят свобода в Афинах... Хороша свобода – прогонять нас с нашей свалки!
Обитатели ям один за другим выползали из-за развалин. Кучка оборванцев двинулась к скифу. Тот попятился:
– Да я что... Я, граждане, только хотел предупредить этих супругов... Дурного и в мыслях не было – в их же интересах... Вот этот старик свидетель...
Но Сократ молчал и не двигался, и скиф поспешил унести ноги.
Оборванцы повернулись к Сократу, но тот, не сказав ни слова, медленно пошел прочь, сопровождаемый учениками.
По дороге обсуждали то, что видели и слышали. Бездомные люди живут и любятся на городской свалке, заменившей им дом. Закон же это запрещает. Вместе с тем он допускает, чтоб были люди, которым негде приклонить голову. Ксенофонт спросил:
– Найдешь ли тут виноватого? У этого человека нет иной возможности, кроме как поселиться в развалинах. Он не может быть виноватым. Кто же тогда? Что же тогда, Сократ?
Сократ печально глянул на него и сказал только:
– Пойдем дальше.
2
Они остановились у источника Каллирои. Сократ сел на бережку ручья, вытекавшего из водоема, в котором перед свадьбой окунаются невесты. Омыв ноги, он обратился к друзьям:
– Вот и хорошо, что вы подошли поближе: увидите, сколько грязи у меня на ногах. Но грязь уже унесла вода... А какая вода унесет худшую грязь Афин?
– Грязь – неподобающее слово, когда речь об Афинах, учитель, – возразил Платон.
– Ты ее не видел, правда? – Сократ встал. – Пойдемте, я поведу вас, как обещал...
– Куда?
– Чтоб вы видели.
– Но я спросил – куда ты нас поведешь?
– В Тартар.
– Что это еще за чудачество? – тихо спросил Антисфена Федон.
Пошли.
Чем дальше проникали они в квартал, где поселились безземельные, тем уже и извилистее становились улочки; тут и там, словно щели, оставшиеся после выбитого зуба, зияли пустыри на месте обвалившихся лачуг.
На их развалинах, на кучах камней рос репейник, но под ними сохранились подвалы. В подвалах – тьма, крысы и холод, на поверхности – отбросы и смрад.
– Приподними гиматий – запачкаешь подол...
Перекресток. Куда дальше?
Сократ сказал:
– Здесь – вход в Тартар. – Он показал рукой на улочки, по которым сновали толпы нищих, изможденных женщин и рахитичных детей. – Вот река Стикс, река ужаса, там – Ахерон, река вздохов, а это – Кокит, река плача... Воздух здесь как на гноище.
– Не хватает Леты, реки забвения, – вымолвил Антисфен.
Федон:
– Лета – всегда в конце...
– Бросимся в волны Ахерона, – предложил Сократ.
Они медленно двинулись вперед – странные фигуры на этой улочке, тонущей в волнах вздохов.
– Где ты, мой виноградник на склоне горы? Созрела ли хоть единая гроздь? Или затоптали тебя без следа?..
– Я был сам себе хозяин... Было у меня поле, пастбища, был дом. Стада коров, множество добра, а нынче я за весь день не выклянчил даже на ячменную лепешку!
– О моя оливовая роща, как сладостно было отдыхать в твоей тени! Когда поспевали оливки, как славно было собирать их! А теперь? Теперь перед глазами моими – одно уродство...
– Перестань ты вздыхать! Уж лучше утопиться...
Лающий смех с мусорной кучи:
– Да где тут утопишься? Разве что в грязи, ее тут больше, чем воды в Илиссе!
– Ох как больно! Больно! Нарыв с каждым днем взбухает... Что же это со мной? О великая Гера, спаси меня, помоги!..
Видят ли вздыхающие, как руслом Ахерона проходит группа теней? Или это – люди? Кое-кто в группе одет красиво, даже богато, но вон тот молодой человек – в дырявом плаще, а ведет их босой старик в потрепанном гиматии...
– Что им тут надо?
– Чего надо, эй! – яростно крикнули им. – Вы не наши! Были б наши – не так бы выглядели!
И женщина – пронзительно:
– Убирайтесь!
И снова волнами вздуваются вздохи...
Сократ с друзьями свернул в улочку направо.
– А что это за река, Сократ?
– Сам на знаю, погоди, Аполлодор, увидишь...
В начале улочки – пустырь на месте обвалившейся хижины, только старая олива торчит еще... но что это? Какой странный плод свисает с нее...
– Удавленник! – ужаснулся Платон. – О боги!
Под оливой лежит, рыдая, женщина.
Сократ подступил к ней, тихо молвил:
– Позволишь спросить – что здесь произошло?
– Повесился! Мой муж это! У нас пятеро детишек... Понял?!
– Понял, – ответил вместо Сократа Платон и сунул монету в руку несчастной.
Она развернула ладонь, глянула – да так и обомлела...
– Пошли дальше, – поторопил Платон.
Вдоль стены тащится оборванец, за ним крадется другой такой же, в лохмотьях, – с ножом в руке.
Первый круто оборачивается, успевает поймать уже поднятую руку с ножом, выкручивает ее, нож падает.
– Ты, Бассон? Убить меня хотел? За что?
Бассон стонет от боли в вывихнутой руке, дышит прерывисто:
– Тебе дали три обола! И ты еще ничего не истратил, я знаю, я следил за тобой...
Слезы текут у него. От боли? От стыда?
Навстречу бежит плачущая женщина, за нею – двое малых детей:
– Мама, мамочка, возьми нас! Не убегай!
– Я не ваша мать!
– Наша! Мама! Ты наша! Мы всегда были с тобой!
– Ищите себе другую маму, у которой есть чем кормить вас!
И женщина бежит дальше по кривой тропке между лачуг, дети с плачем – за ней...
– Это Стикс – река ужаса... – шепчет Аполлодор.
Старуха стучит в запертую дверь лачуги:
– Открой, Элиада, это я!
Голос изнутри:
– Сейчас, дай доползу до двери...
Старуха:
– Мне нынче повезло, у меня восемь оболов!
Голос изнутри:
– О боги, молчи! Как бы кто не услыхал!
Дверь приоткрывается. Старуха просовывает руку в щель:
– Возьми пять – с меня и трех хватит...
Платон:
– Мне холодно. Нельзя ли идти побыстрее, Сократ?
Аполлодор:
– Медленно течение Стикса...
Они прибавили шагу. Впереди них бредет, качаясь, пожилой человек – и вдруг падает лицом вниз.
Сократ склонился к нему:
– Что с тобой? Что случилось?
– Не могу больше... Не держусь на ногах... Дышать нечем... Пить! Воды!
Федон кинулся к лачуге:
– Человек упал! Идите скорее! Дайте ему воды!
– А тебе-то что? – ответил изнутри грубый мужской голос.