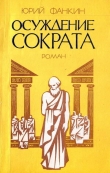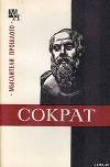Текст книги "Сократ"
Автор книги: Йозеф Томан
Соавторы: Мирослава Томанова
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 32 страниц)
Никию удалось склонить народное собрание к тому, чтобы заключить со Спартой мирный договор на пятьдесят лет. Как прочен мир, заключенный на такой долгий срок! Никий заключил мир со Спартой, но в экклесии он мира не нашел.
После гибели Клеонта во главе радикальной демократии встал Алкивиад и начал длительную борьбу с Никием за благосклонность народа.
Алкивиад обсуждал положение дел с Сократом. Как обычно, он сидел на обломке мрамора, Сократ же расхаживал перед ним, грызя семечки.
– Этот прекрасный полувековой мир имеет целью ослепить нас! Ему даже новорожденный не поверит! – страстно говорил Алкивиад. – Мир рассчитан на крестьян, это ловушка для земледельцев: спите, мол, спокойно, жители Аттики! Мир вам обеспечен на полсотни лет, а тем временем – готов спорить на десять мин! – уже нынче спартанские эфоры готовят планы нового вторжения в Афины! Никию это на руку: мол, мир, граждане, все-таки мир, договор есть договор, сложите руки на коленях, – а в одно прекрасное утро вся Аттика будет наводнена спартанскими гоплитами!
Сократ кивнул:
– А те отлично знают свое ремесло. Я всегда восхищался дисциплиной и надежностью спартанских воинов.
Никий и многочисленные аристократы в народном собрании целыми месяцами убаюкивали афинский народ видениями братского любовного союза между Спартой и Афинами.
– Какой может быть любовный союз между нами, демократами, и Спартой, аристократической испокон веков?! – взвился Алкивиад. – Они, наверное, хотят сказать – между спартанскими аристократами и аристократами афинскими!
Народ медленно, но все более и более явно склонялся на сторону Алкивиада. Он весь в Перикла, говорили о нем. Тот тоже всегда был непримиримым противником Спарты.
– Под угрозой не одни Афины – все наши союзники! Под угрозой морская и экономическая мощь государства. Во имя спасения родины готовьте войско и флот, мужи афинские!
Страстная речь Алкивиада имела успех. Члены народного собрания сотнями присоединялись к нему.
Однако прилежно трудился и Никий.
– Неужели вы не цените столь драгоценный, с таким трудом добытый мир, что хотите готовить новую войну? Разве не хлебнули мы ее досыта?
Кто-то в запальчивости крикнул:
– Аристократы хотят продать Афины Спарте! Что тогда? Спартанцы перебьют всех нас, демократов, или превратят в рабов!
Словно раскаты грома прокатились над экклесией, открывая путь Алкивиаду к высшей вехе.
Установили день, когда экклесия выберет для Афин новых десять стратегов.
14
– А не заглянуть ли нам к какой-нибудь из афинских красавиц? – бросил Антисфен, когда они после ужина вышли из виллы Критона, и добавил: Говорят, Феодата – из самых красивых и образованных гетер, каких когда-либо знала ночная жизнь.
Алкивиад вопросительно посмотрел на Сократа.
– "Говорят" – обманное слово, – заметил тот. – Красота по слухам этого мало. Я всегда жажду смотреть на красоту вблизи. Веди нас, Алкивиад, ты ведь все знаешь.
Алкивиад сказал привратнику, что Сократ с друзьями желают поклониться прекрасной Феодате. Имя Сократа произвело такое впечатление, что всех троих тотчас ввели в просторный зал, из которого открытые двери вели в сад; из сада заглядывали сюда ночь и звезды, вплывала ароматная свежесть.
Покой был обставлен роскошно – ковры, занавеси. За столиком сидел бледный молодой человек, из-за его спины рабыня наполняла вином его чашу.
Молодой человек представился вошедшим, сказав, что он – трапезит из Пирея.
Легкий звон кифары стих – Феодата встала с кресла, чтобы встретить гостей.
– Благодарим за ласковый прием, – поклонился ей Алкивиад. – А дочь твоя не выйдет приветствовать нас?
– Тимандра еще в Эфесе, – ответила Феодата. – Но скоро приедет, чтобы отпраздновать у матери свой четырнадцатый день рождения.
Сократ глаз не мог отвести от Феодаты. Юная мать – прекрасная мать! Лицо ослепительно белое под высокой, сложной прической волос, окрашенных в темно-рыжий цвет. Глаза же темные, как агат, рот широкий, чувственный, но вместе с тем и нежный.
– Сядешь с нами?
– Конечно. Только отдам распоряжения моим девушкам.
– Ага! – радостно воскликнул Сократ. – Не успели мы войти, как ты меня уже порадовала!
На вопрос Феодаты – чем именно, Сократ ответил:
– Тем, что чтишь в рабынях людей и называешь их "мои девушки".
Феодата улыбнулась ему:
– Я их люблю. Извини меня ненадолго.
Она вышла, а скульпторское око Сократа, в котором вечно светился художнический восторг, отметило совершенную красоту сложения Феодаты и ее походки.
Гетера велела рабыням увенчать гостей розами, принести мясные и сладкие закуски и охлажденное вино. Она вернулась в длинном пеплосе с тонкой вышивкой по подолу и в бледно-сиреневой накидке: то и другое казалось сотканным из воздуха и благоуханий, то и другое прозрачно, так что просвечивали под ними округлые плечи и великолепной лепки груди. Под грудью дыхание ткани стянуто лентой, чтоб подчеркнуть линии тела.
Взгляд Феодаты прикован к Сократу. Тот удивился:
– Если бы я смотрел на тебя одну, Феодата, это было бы вполне объяснимо, но удивительно, что ты смотришь только на меня!
– Я много слышала о тебе и мечтала с тобой познакомиться. Когда ты вошел, стало будто светлее.
– Мой долг, да и всех, входящих под твой кров, оценить твою ослепительную красоту.
Началось соревнование в похвалах и восхищении рыжеволосой красавицей; Антисфен одолевал молодого трапезита, который был способен лишь сравнивать ее с разными Афродитами – Кипрской, Книдской...
– Клянусь псом, сколько же у нас Афродит! – тихо заметил Сократ; но тут трапезит вспомнил еще Афродиту Анадиомену, которая-де выступает из морской пены точно так же, как Феодата из волн своего прозрачного пеплоса.
Сравнение недурно, подумал Антисфен и пустился во весь дух сравнивать красоту гетеры с розовой лилией, с бутоном дикого мака, с песней, со свежестью, что царит на вершине Парнаса...
Сократ молчал.
Феодата слушала, улыбаясь по обязанности, и выжидательно смотрела на философа. Ждал и Алкивиад, что-то он скажет. А Сократ с удовольствием отведывал угощение; поев, ополоснул пальцы в серебряном тазу и осушил их виссонной тканью. Затем, вытерев бороду, он проговорил:
– Следовало бы теперь и мне, божественная Феодата, присоединить свою долю к восхвалению твоей красоты. Но хотя я захвачен ею и потрясен до мозга костей и ввергнут ею в такой же экстаз, какой овладевает мною при восходе солнца, не позволяй мне этого делать.
– Почему, Сократ?
– Трудно говорить о великой радости, какую внушает нам красота, если душа внезапно сжимается и болит...
– Болит?.. И – внезапно?.. Стало быть, боль эта навалилась на тебя здесь, у меня?
– Вот именно, прекрасная.
– О боги, какое же зло причинил тебе мой дом?
– Не дом твой, а ты сама.
Феодата вскочила, в испуге протянула к нему руки:
– Чем же, о я несчастная?! Сократ быстро сказал:
– Прошу, помедли так, в этом движении, с этим испугом на лице! – И к остальным. – Видите? Медные волосы, откинутые резким движением, брови раскрылись, как небесные врата, ресницы – волшебные стрелы, которые ранят, но сладостной раной, лодыжка, изящной кривой переходящая в белую колонну голени, над широкими боками – тонкая талия, и выпуклость груди с двумя яблочками, шея, несущая голову, губы, за которые не трудно умереть... И все это я говорю только от одного из пяти чувств человека!
– Ах, какая хвала! – вздохнула гетера, влюбленно глядя на Сократа. – Но ты сказал – я причинила тебе боль!
– Конечно. – Сократ обеими руками обвел, не прикасаясь, линии ее плеч, рук, боков и ног и горько закончил: – А я, глупец, оставил ваяние!
– Никто, Феодата, не выскажет тебе большей хвалы, чем эта! – сказал Антисфен.
Алкивиад добавил:
– А я завершу ее. Я почти каждый день провожу с Сократом, но еще не слыхал, чтоб он хоть раз пожалел о том, что оставил ваяние, – только сегодня, увидев тебя, Феодата!
Она опустилась на пол у ног Сократа и положила голову ему на колени:
– Не знаешь ты, как я счастлива, что ты пришел ко мне, и до чего несчастна, что не дано мне стать прообразом твоей статуи...
Сократ медленно провел ладонью по ее волосам, от темени до самых их кончиков:
– Тебя пишут лучшие наши художники, и это смягчает мое сожаление.
Антисфен поднял глаза на Сократа:
– А тебе не хочется, ради Феодаты, снова взять в руки резец и молоток?
Сократ покачал головой.
– Да, то была бы славная работа. Я, пожалуй, еще не забыл – нет, нет, даже наверное; такой образец разом вернул бы мне былое мастерство...
– Что же тебе мешает? – спросила Феодата.
– Я черпаю воду решетом, – усмехнулся Сократ. – Занимаюсь человеком, хочу, чтобы он стал лучше, но приверженцы софистики путают мои карты...
– Ах, я знаю. Замечаю сама, – вздохнула Феодата. – Младшие софисты дурно влияют на души. Разглагольствуют без умолку, прямо подавляют человека словами. Разрушают в нем всякую веру в себя...
– Подрывают все, как дикие кабаны, – нахмурился Антисфен. – Стремятся обратить мир в первозданный хаос... При нем-то им, конечно, жилось бы наилучшим образом. Долой народовластие, долой законы, долой какой бы то ни было порядок, устрояющий совместную жизнь людей! Они поклоняются произволу, который позволяет отдельной личности, не считаясь с прочими, добиваться успеха для себя... – Антисфен виновато посмотрел на хозяйку. – Но в какие дебри забрела наша беседа от твоей красоты?
Феодата покачала головой:
– Мы говорим о вещах более важных, чем моя внешность... – Перевела взор на Сократа. – Меня поражает наглость, с какой софисты публично учат людей, как сделаться прожженными себялюбцами...
Сократ засмеялся горьким смехом.
– Можно ли поражаться человеческой слабости, заставляющей людей слушать подсказки софистов о том, как взобраться повыше и извлечь для себя побольше выгоды?
Феодата брезгливо передернулась.
– Ужасно, что их слова имеют такую большую власть.
– Да, – подхватил Сократ. – Слово – великая сила, но не одно только их слово; вот почему у меня и у моих друзей нынче много дела.
Феодата повела рукой в сторону Алкивиада.
– Ты, Сократ, пестуешь человека, как сирийские садоводы – дички. Они их прививают, делают все, чтоб вырастить прекрасные плоды...
Молодой богатый трапезит слушал все эти разговоры с неудовольствием. Он пришел взять свое, заранее известив о посещении, а непрошеные гости задерживаются... Давно миновала полночь. И он не выдержал:
– Время позднее. Пора Феодате решать, кого из нас оставит она сегодня у себя для любовных утех!
Положив руку на свой кошелек, он вызывающе посмотрел на гетеру, уверенный, что та не устоит перед звоном золота.
Феодата обвела мужчин взглядом, словно раздумывая.
– Я очень жадная. Я просто хищница и не скрываю этого. – Она глянула на молодого менялу, который горделиво выпрямился, уже чувствуя себя победителем. – Сегодня же особенно обуяла меня невероятная алчность. Поэтому, друзья, не сердитесь, если я хочу мужчину, в котором два мужа!
– Как это понимать? Скажи яснее...
Феодата встала.
– Хочу того, в котором одновременно живут философ и художник! – И она низко поклонилась Сократу.
Все были поражены. Меняла спрятал свой кошелек и удалился.
Алкивиад заявил, что они с Антисфеном выбрали для себя по молодой рабыне и потешатся с ними. Оба ушли в сад, примыкающий к залу, сговариваясь потихоньку подглядывать, как будет Сократ ласкать Феодату: интересно, удастся ли ему сохранить сдержанность, к которой он так часто призывает их!
Гетера погасила яркие светильники и зажгла оранжевую лампу. Бросила в огонь несколько палочек аравийских благовоний и принесла целую охапку подушек. Все это создало атмосферу интимности, дурманящей чувства.
– Ты попался в сети продажной женщины, – тихо проговорила она. – Не уйти ли тебе? Я слышала – ты недавно женился.
– Да, – улыбнулся Сократ. – Но это не причина, чтобы я ушел, хотя я очень люблю жену.
– Говорят, Ксантиппа поразительно красива.
– Это правда. Иной красотой, чем твоя.
– И, наверное, ревнует тебя.
– Ты угадала.
– Угадать нетрудно. Такого человека!
Сократ засмеялся.
– А я вот дивлюсь ее ревности. Разве это не в порядке вещей, что я люблю Ксантиппу и в то же время восхищаюсь Феодатой?
– Думаю, да. Однако я плохо тебя развлекаю. Вот – пробудила в тебе сожаление, что ты, из любви к человеку, перестал высекать его в камне. Но ведь и то, что ты делаешь теперь, – искусство.
Он гладил ее, задерживал пальцы на ее обнаженной шее, наслаждаясь этим прикосновением.
– Отбрось все, что тебя терзает, пока ты со мной... Молю тебя, Сократ! Сегодня у меня праздник. Забудь мучительные мысли, стань весел, как ты сам советуешь другим...
Сократ поцеловал ее:
– Когда мы входили, я слышал – ты играешь на кифаре...
Феодата села на подушки у его ног; оранжевый свет подсвечивал ее медные волосы. Устремив взор на Сократа, она вполголоса запела стихи Архилоха, аккомпанируя себе тихими аккордами:
По любви безмерная тоска
В глубину души моей проникла,
Зрение окутав черной мглою,
Жалкий разум из груди исторгла...
Сократ любил музыку и пение. Слушал, улыбался.
– Вместе с тобой плыву на волнах твоей песни, и это несказанно прекрасно... – Он притянул ее к себе. – Как умеешь ты насытить все чувства человека, милая! – проговорил он с изумлением.
Он преодолевал искушение, исходящее от ее красоты. Даже сам увеличивал опасность...
Алкивиад с Антисфеном подглядывают сквозь ветви олеандров; они поражены.
– Но это больше, чем терпеть голод, жажду, зной и холод! – шепчет Алкивиад.
Антисфен взволнованно вздыхает:
– Сократ действительно сильный человек: что хочет, то и может...
Бледнеет над горами небо, масло в лампе на исходе, она еле светит, и лица в полумраке еще загадочнее, еще желаннее. Феодата жарко целует Сократа на прощание:
– Сегодня я узнала, мой дорогой, новую, глубокую связь между мужчиной и женщиной, неизвестную мне доселе. Это доказывает твою правоту, что наслаждение – не одно, их сотни, может быть, тысячи, и ты умеешь открывать и дарить их...
– У тебя же, Феодата, редкостный дар: возвращать, насыщая, все множество наслаждений.
– Можно мне попросить тебя?
– Ну конечно же!
– Приходи поскорее снова!
Он расцеловал ее:
– Я и сам заранее радуюсь этому.
Он ушел – из-за олеандра выступил Алкивиад, раскрыв объятия.
Феодата попросила его ничего сегодня от нее не требовать.
15
Сократ идет домой от Феодаты. Скоро утро – над гребнем Гиметта светает, заря растекается по небу.
Сократу хорошо. После вина у него легкий шаг. Прямо танцевать хочется... Из груди рвутся слова песни Феодаты:
По любви безмерная тоска
В глубину души моей проникла,
Зрение окутав черной мглою,
Жалкий разум из груди исторгла...
Шлепают босые ноги по плитам мостовой. Сократ думает о Ксантиппе, радуется, что скоро ее обнимет. Где найдет ее? Позавчера она сидела, съежившись, обнимая колени, на глыбе гранита, волосы распустила, и они покрывали всю ее. Очень нескоро удалось ему развернуть этот горестный комочек, прижать к себе. Как-то будет сегодня? – с опаской думает Сократ, тихонько открывая калитку.
Уже видна дверь дома, а Ксантиппы нигде нет. Не ждет его, как обычно. Легко ступая, Сократ прошел к дому – и тут дверь распахнулась, вышла Ксантиппа с подойником в руке.
Сократ ожидал громы и молнии. Зубы жены блеснули, но в ласковой улыбке:
– Ай-яй-яй! Ты уже здесь? А я только еще доить иду... Или сегодня не весело было, что ты спешишь домой?
Приветливость жены сбила Сократа с толку. Он приготовился встретить грозу – а погода-то ясная...
– Хорошо ли выспалась, милая? – уклонился он от ответа.
– Спасибо, отлично! Тихо было в доме. Никто не храпел, не хихикал во сне, не разговаривал...
Величайший мастер диалога опешил. Стал выкарабкиваться, как умел.
– Это хорошо, что ты ложишься спать, когда я где-нибудь задерживаюсь. Розовенькая ты, будто только что выкупалась...
– О, как ты меня хвалишь! – Ксантиппа отставила подойник, подбоченилась. – Зато ты всю ночь глаз не смыкал, будешь теперь отсыпаться, а мне – целый день спину гнуть... Клянусь совоокой Афиной! А все – твои несчастные беседы. Только из дому – уже хватаешь кого попало и пошел выматывать ему душу... Ах ты, неуемный язык, все бы тебе говорить, говорить, конца-краю нету! Ах ты мой болтливый пустозвон, дырявый кувшинчик, горшочек ты мой кипящий!
Сократ продолжал льстить ей:
– Вот видишь, милая, я прав! Всем риторам и синонимистам поучиться бы у тебя богатству речи... О певучий аттический язык, обогащенный Керамиком! Прямо музыка льется из твоих хорошеньких губок...
Но Ксантиппа не дала отвлечь себя от практической стороны:
– Что это с твоим хитоном? Клянусь Герой! Весь облит вином...
– Это – был симпосий у Критона...
Ксантиппа уже начала раздражаться:
– Вот как! Глядите-ка! Я тут торчу среди камней, как в тюрьме, вокруг немота, а ты пируешь? Лакомишься паштетами да селедочками, винцо потягиваешь, я-то знаю, сколько ты в состоянии выхлебать, вот тебе и весело... Молчи! Оставь меня! Я издали слышала, как ты распевал, да только не от той радости, что ко мне идешь, а от той, какая у тебя там была!
Он нежно обнял жену:
– Знаю. Я негодяй, что все время оставляю тебя одну, но я ведь не виноват, что женщинам запрещено бывать в мужской компании. Как раз сегодня у Критона говорили о том, как это несправедливо по отношению к нашим женам, что мы запираем их дома, словно кур в курятнике, и именно сегодня я подумал – надо подать проект закона, чтобы девушки получали образование наравне с юношами и ходили бы слушать философов. Только образование улучшит положение женщин. Они станут подругами своим мужьям, и тогда не одни гетеры будут хоть мало-мальски образованны, будут владеть, например, искусством декламации, танца, пения и музыки... Это будет переворот в обществе, дорогая!
Ксантиппа вырвалась из его рук и завела свое:
– Что ты болтаешь? Хочешь меня еще пуще разозлить? Это как же – чтоб я оставила наш виноградник в Гуди, пускай гниет на корню, пускай в доме беспорядок, коза пускай подыхает – не будет ни капли молока! – а я чтоб пошла учиться, в то время как ты будешь таскаться по городу?!
Она вдруг осеклась, принюхалась к его хитону.
– Благовония! Ты был у гетеры! – Голос ее дрогнул. – О, бессовестный! Так вот они, твои премудрости! Лжешь, что с приятелями беседовал, а сам всю ночь с гетерой вожжался!
Слова ее рвались сквозь всхлипывания, пальцы так и вцепились в плечи Сократа.
– Был я, Иппа, у гетеры. Мы были у Феодаты. Но я не вожжался с ней. Ел, пил, разговаривал. Феодата – высокообразованная женщина. А ты – самая прекрасная и славная из афинянок! Я рассказал Феодате, как люблю тебя.
Он закрыл поцелуем рот Ксантиппы, уже открывшийся было для отповеди, и нежно повел ее в дом.
Ушли...
Мом, сердитый на Артемиду за то, что девчонка все время оставляет его одного, а сама носится где-то по Аркадии, с интересом слушал супружеский диалог.
Старый ворчун полюбил Сократа с самого его рождения, но казалось ему еще больше привязался он к его женушке. Хотя бы за то, как ловко она бегает по двору – черные волосы развеваются, глаза – живое пламя... К тому же Ксантиппа не забывает почтить его букетиком цветов. А что у нее язычок ловко подвешен? Да это лучше, чем если б была она божьей овечкой...
16
Трое сидят под платаном: Сократ, Алкивиад, Критий. Четвертого не видно.
– Спите, дремлите, похрапывайте, дрыхните как убитые – вот что советует нам Никий! Но кто же поднимет Афины к былому могуществу? Спящие? – говорил Алкивиад.
– А Никий и не видит, что их надо поднимать. Зато это видит афинский народ, мореходы, ремесленники, торговцы, – отозвался Сократ. – Я слушаю твои выступления в экклесии и слышу, как принимает народ твои речи. Люди верят в твою рачительность и талант полководца. Потому и любят тебя, Алкивиад.
– А какая тебе от этого выгода – нетрудно угадать, – вставил Критий.
Алкивиад замахал руками, словно отгоняя осу:
– Нет, нет! Пока меня не проводят с собрания первым человеком в Афинах – и слышать об этом не хочу!
Крития непрестанно гложет зависть: я ведь тоже племянник Перикла, тоже ученик Сократа, и способности мои не меньше – я поэт, и все же ползаю по земле, в то время как Алкивиад взлетает орлом!
И он процедил ядовито:
– По-моему, Алкивиад, тебя любят больше за красоту, которую ты еще подчеркиваешь крайностями чужеземной моды.
– Ах, милый Критий, – возразил Алкивиад, – очутись ты в моей шкуре, знал бы: когда женщины и мужчины любят тебя за внешность – это тягостно, а часто даже противно!
– Но ты и с теми, в чьей любви не нуждаешься, разговариваешь сладко...
– Верно, – кивнул Алкивиад. – Не умею я вызвать к себе неприязнь, быть с людьми кусачим и язвительным. Но уж если кто меня взбесит – могу так отдубасить, что тот своих не узнает; зато на другое утро – я уже у него, готов донага раздеться и просить, чтоб он меня отхлестал кнутом в отместку...
Сократ молчал. Обмакнув палец в вино, рисовал на столе Эрота с луком и стрелами. Заметил на висках Алкивиада набрякшие жилы. Какой человек, мой милый Алкивиад! Хищный зверь – и вместе кроткий ягненок...
– Я не умею стать неприятным даже собственной жене. Любит она меня. Говорит – до безумия...
– То-то сбежала от тебя к своему брату, – злобно заметил Критий.
– Ах да, – вздохнул Алкивиад. – Хочет довести меня до того, чтоб я не смотрел на других женщин и сходил бы с ума от любви к ней одной, как она сходит с ума по мне... – Он повернулся к Сократу. – Скажи сам, дорогой, разумно ли, что Гиппарета хочет запретить мне ходить к Феодате и другим гетерам? А почему мы, мужчины, посещаем гетер? Потому что находим у них то, чего нет у нас дома...
И он стал развивать мысль: жена должна быть не просто самкой, но и другом мужа, с которым тот мог бы говорить обо всем, как с мужчинами.
– У гетер нередко можно рассуждать о разных вещах даже лучше, чем на пирушках, на которых хозяин усердно потчует тебя жарким, паштетами, вином, а то и живым мясцом... Начинается шумное веселье, шутки, приходят фокусники и тогда всякое разумное слово воспринимается как очередной фокус. Меж тем как у гетер...
– Остановись, Алкивиад, – сказал Сократ. – Что хочешь ты скрыть под этой речью?
– Я отстаиваю свое право на выбор! А моя ревнивая Гиппарета воображает, будто по причине безумной любви ко мне вправе стать моим тюремщиком...
– Алкивиад говорит о безумии! – усмехнулся Критий. – Но лишь в отношении других...
Сократ спросил:
– В чем, Алкивиад, видишь ты безумие любви Гиппареты?
Алкивиад как-то сник, на лице его появилось страдальческое выражение:
– Она и впрямь обезумела. Подала архонту требование о разводе. Сегодня я должен предстать перед судом.
– И ты спокойно сидишь тут с нами вместо того, чтоб идти на суд и защищаться?! – изумился Сократ.
– Я защищаюсь здесь, перед тобой, Сократ. Мне очень важно, чтоб ты знал, как я с ней мучаюсь.
– Мучаешься?
– Да, Сократ. Разве не безумие, что она судом хочет принудить меня, как собачонку, лежать у ее ног и каждый день клясться в страстной любви? Но этого она на суде не заявит. Будет без конца доказывать, какой я дурной, прикрывая этими словами угрозу и давление на меня. Насилие! Скажи, Сократ, сколько раз предостерегал ты нас от насилия в делах любви?
Но Сократ осведомился:
– А ты – не любишь жену?
В калитке показался запыхавшийся судебный служитель и передал Алкивиаду повеление судьи: немедленно явиться в зал суда.;
– Твоя супруга, как предписывает закон, лично вручила судье требование о разводе... Теперь она и судья ждут с нетерпением, когда ты наконец явишься для разбирательства...
Тут недобрый вестник взглянул в лицо Алкивиада и в страхе попятился.
– Постой, приятель! – остановил его Алкивиад. – Передай судье, что я не явлюсь. Ну чего же ты ждешь? Повторять мне, что ли?!
– Я искал тебя в твоем доме, и, пока нашел здесь, прошло много времени... Если все-таки пойдешь на суд – дело-то серьезное, – так поторопись... – пролепетал служитель.
– Это ты поторопись передать судье мои слова, не то я разобью этот кувшин о твою голову! – крикнул Алкивиад.
Сократ строго посмотрел на своего ученика:
– Разве тот, кто хочет править государством, не обязан быть образцом послушания закону?!
Алкивиад не отвечал; мысленно он следовал за служителем. Вот теперь тот, наверное, вышел из Алопеки, теперь входит в город, пересекает Мелиту...
Между тем в зале суда Гиппарета, в невыразимом напряжении ожидавшая мужа, почувствовала себя дурно. Принесли воды, охладили ей виски, судья исчерпал уже все слова ободрения. Он больше не надеялся на то, что Алкивиад все-таки явится, и устал выдумывать все новые и новые утешения. Сейчас он и сам в них нуждался. Знал – Алкивиаду предстоит вскоре стать во главе государства, а он, несчастный архонт, не сумел помирить его с женой, как то следовало и надлежало...
Алкивиад не ответил на уговоры серьезные – Сократа и ехидные – Крития подчиниться закону и отправиться в суд. Вместо этого он набросил на плечи хламиду, сколол ее пряжкой и пустился в танец... Танцуя, дошел он до калитки и весело помахал друзьям на прощание.
Когда он скрылся из виду, Критий промолвил:
– Ужасный человек. Даже не дождавшись развода, помчался к гетерам праздновать это событие...
Служитель вбежал в зал суда и сокрушенно доложил, что ему не удалось привести Алкивиада.
– Он просто выгнал меня...
– А ты-то что же? – взъелся на него архонт.
– Он пригрозил разбить мне голову кувшином, я спасся бегством...
Отчаянный вопль Гиппареты предварил ее горькие причитания:
– О я злосчастная! Он не придет! Как я несчастна! Он меня не любит! Звеня браслетами, она заломила свои холеные руки. – О, зачем я потребовала развода! Какой злой демон внушил мне эту мысль! – Гиппарета пала на колени, в мольбе протянула руки к архонту. – Злосчастная, я хотела только пригрозить ему разводом! Надеялась – он поймет, признает недостойность своего отношения к любящей жене, к матери двух сыновей, которых я ему родила! Надеялась, он исправится, бросит кутежи, озорство!
– Мне очень жаль, но суд уже ознакомился с твоим требованием, доказательств достаточно, и потому, дорогая Гиппарета, нам не остается ничего иного, кроме как удовлетворить твою просьбу о разводе... – сломленным голосом сказал судья.
Гиппарета повалилась как подкошенная, рыдала, кричала в отчаянии:
– Убейте меня! Я не хочу жить! Я не хочу жить!
В зал влетел Алкивиад.
– Что ты тут делаешь, милая? – раздался над нею его голос. – Хочешь в царство Аида? Откуда такое сумасбродное желание, когда в моем доме для тебя – настоящий Элисий?
И прежде, чем женщина успела опомниться, прежде, чем судья сумел выговорить слово, Алкивиад подхватил Гиппарету на руки и выбежал с нею на площадь.
– Эй! Граждане! Глядите! Алкивиад! – раздались голоса в толпе, вечно бездельничающей на агоре.
– Что это он несет? – Кучка зевак побежала за ним.
– Клянусь Зевсом! Собственную жену!
Гиппарета отбивалась, выкручивалась, била ногами, отталкивала его голову, кричала – не помогало ничего! Алкивиад бежал по городу, неся ее на руках, и за его плечами развевалась хламида и распустившиеся волосы его жены. Ее несшитый пеплос распахнулся, и восхищенным взорам толпы открылись ее белые ноги. Смех провожал их. И веселые крики:
– Похитил собственную жену!
Кучка любопытных и шутников, следовавших за Алкивиадом, разрасталась с каждым шагом.
– Молодец Алкивиад!
– Отлично, Алкивиад!
– Вот поступок настоящего мужчины!
Поняв, что сопротивление бесполезно, Гиппарета обхватила мужа за шею, а он на бегу целовал ее до самого дома.
Афины ликовали! Афины смеялись! Афинам представился редкостный спектакль!
Весть о похищении Гиппареты летела по городу. Долетела она и до Сократа, все еще сидевшего с Критием под платаном. Сократ хохотал так, что едва мог связно выговорить:
– Вот так выходка! Ну и выходка, ах ты шалопай эдакий! Какие там суды! Иди ты в болото, архонт! И ты, Гиппарета! Ты любишь меня, я люблю тебя выкраду, как жених невесту, и будем мы снова как молодожены!
– Да, шутка неплохая. Есть чему смеяться, – сказал Критий. – А нет ли тут, дорогой Сократ, еще одной причины для смеха?
– Глядите-ка! – не успокаивался Сократ. – Хочешь мне, повивальной бабке, помочь родить? Уже перенял от меня это искусство?
– Я перенял побольше, чем это. Однако испытывать на тебе свое повивальное искусство я бы не осмелился. Но, как кровный родственник Алкивиада, я рад и думаю, что и ты, его друг, радуешься его ловкости и сообразительности. А то ведь еще немного – и он из-за разлада в семье потерял бы популярность среди порядочных афинян. Сегодня же, утащив Гиппарету из зала суда, он завоевал сердца многих. С его стороны это был отлично рассчитанный ход перед выборами.
Сократ слушал, задумавшись, и задумчиво произнес:
– Я и радуюсь.
– Тем более он сделал это на виду у всех. – Критий подсластил свою кислоту. – Мы-то знаем, как оно бывает. Ведь за каждый удачный шаг Алкивиада люди хвалят тебя, его учителя.
– Но тем самым ты хочешь сказать, что за каждый его неудачный шаг они же меня бранят, – сказал Сократ.
– С чего бы им тебя бранить? Алкивиад слушает тебя с благоговением: твое слово и его дело – едины. Это он показал недавно. Ты осуждаешь аристократов за то, что они презирают бедняков; Алкивиад же, наш будущий стратег, желая доказать, что твое мнение, противное аристократам, он усвоил полностью, что ему чуждо присловье аристократов "бедность дурно пахнет", накрыл богатые столы и впустил к себе в дом всех голодных, нищих, сирот павших воинов и тех, кто неспособен трудиться из-за недугов, безруких и одноногих... И сам пировал, пел с ними, ничуть не смущаясь тем, что люди эти не мыты и не натерты благовонными притираниями. Одним словом, он отлично умеет добиваться благосклонности народа.
Сократ устремил на Крития взгляд своих больших глаз:
– Я непонятлив, милый Критий. Скажи мне, ты хвалишь Алкивиада или поносишь его?
За оградой кто-то приглушенно засмеялся. Критий вздрогнул; но больше ничто не нарушало тишины, и он успокоился. А за оградой сидел Симон, записывал высказывания Сократа – он часто так делал.
С хорошо разыгранным восхищением Критий ответил:
– Можно ли поносить Алкивиада? Этот необыкновенный человек способен привлечь к себе кого угодно, прямо-таки очаровать... – И льстиво добавил: Так же как и ты, Сократ. Злой человек счел бы, что Алкивиада следует предать суду гелиэи за его необузданные выходки, – тебе не кажется? Но ведь ни ты, ни я – не злые люди. Ты выбираешь самые мягкие выражения, говоря о его своеволии, ты находишь все это просто проявлением его непосредственности, а люди, часто слушающие тебя, привыкли перенимать твою точку зрения. Однако, боюсь, то, что к лицу юноше, не подобает мужу и стратегу.
Сократ воздел руки: