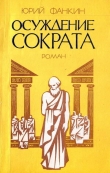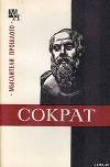Текст книги "Сократ"
Автор книги: Йозеф Томан
Соавторы: Мирослава Томанова
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)
Все это Гиппий перечислял с плохо скрытым хвастовством.
– Я тоже совершил путешествие, – отозвался Сократ. – Ездил в Гуди.
Взрыв смеха в толпе слушателей.
Один из софистов шепнул Гиппию:
– Это деревушка близ Афин...
Гиппий:
– У тебя там имение?
– Именьице. Пятьсот душ. – Каждый кустик винограда Сократ превратил в душу.
– О, это значительное состояние. Но мне говорили, что ты беден?
– Тебе лгали. Я очень богат.
Все изумленно воззрились на Сократа. А он продолжал:
– Есть у меня пятьсот виноградных лоз. Есть крыша над головой и множество верных друзей, и здесь, и там, – он махнул рукой в сторону рынка, где взорвался гром оваций.
– Итак, мы познакомились, Сократ. Это мне очень приятно. Я мечтал побеседовать с тобой, ибо слава о тебе обошла все страны, лежащие на берегах нашего моря. Я слышал о тебе удивительные вещи, особенно же похвалу твоей мудрости.
– Преувеличиваешь, почтенный Гиппий. Кто же может претендовать на мудрость! Если следовать твоему учению, которое велит сомневаться во всем, должно усомниться и в существовании мудрости.
– В этом я не сомневался никогда, ибо сам – учитель мудрости.
– Но вот вопрос: что такое мудрость вообще?
Гиппий слегка занервничал:
– Ах да, я слышал о твоем методе – вытягивать у людей воззрения и знания, дабы путем дедукции прояснять понятия...
Сократ засмеялся:
– Тэхнэ маевтике! Конечно. Тебе не говорили, что моя мать была повитухой? Повивальное искусство я перенял от нее. Человек больше ценит то суждение, которому я помогаю родиться у него, чем то, которое высказал бы я сам.
Гиппий выпятил грудь:
– Я же признаю другой метод: лекцию и состязание в искусстве риторики.
Сократ покачал головой:
– Со мной это не получится. Я привык вести собеседование. Согласен ли ты?
– Я сумею ко всему приспособиться.
– Тему нашей беседы ты, конечно, выберешь сам.
– Просвещение народа – этим ведь занимаешься и ты, Сократ, и я. Я, например, обучаю математике, астрономии, грамматике, музыке, литературе, родословной богов и героев, физике и риторике.
– О горе мне! – вскричал Сократ. – Как же мне вести диспут с ученым, постигшим все, что нас окружает! Мне, жалкому невежде, который занимается только душой человека?!
Жалобное восклицание Сократа дало ему преимущество перед софистом. Гиппий это мгновенно уловил. Отойдя назад, чтоб увеличить пространство между собой и публикой, он передал свой посох Антифонту, желая освободить обе руки для жестикуляции, и начал выспренне:
– Кто повелевает звездами в небесной выси и солнцем? Говорят олимпийские боги, однако я не вижу никого, кто бы это делал, никто не является нашему зраку, и многое на земле творится по чьей-то таинственной воле, о которой нам ничего не известно. Может ли кто назвать человека, который разгадал бы эту загадку? Вы молчите... Кто должен повелевать человеком? Он ведь и сам знает, по какому пуститься пути, чтоб не вред ему вышел, а польза...
Кто-то зааплодировал. Гиппий посмотрел в ту сторону и слегка поклонился. Затем продолжал:
– Подвяжи крылья птице – она не сможет летать и будет биться в дорожной пыли, беспомощная и убогая. Что же связывает крылья человеку, что пригнетает его к земле, хотя, по твоим, Сократ, словам, душа человека, будучи окрыленной, должна летать?
– Я восхищен тем, как много ты обо мне знаешь, Гиппий, – скромно вставил Сократ.
– Что же душит гражданина? Закон – вот тиран человека, вот преступник против свободы; к тому же, не будучи неизменным, он всегда имеет лишь преходящее значение. Закон ограничивает желания и действия человека. Закон ограничивает его свободу. Свобода же, как говорил еще Эсхил, есть наивысшее достояние человечества.
Громкие овации покрыли эти слова. Речь Гиппия была смелой и действовала сильно. Опираясь на Протагорово "человек – мера всех вещей", он развивал этот посыл, искажая его, и свел наконец к тому, что каждый имеет право на неограниченную свободу.
Случайно ли выбрал Гиппий эту тему? Нет, без сомнения. Он отлично знал, какое в Афинах настроение. Ему была известна широкая свобода слова в Афинах. И он знал, чем подкупить слушателей.
Право человека на свободу! И это требование высказывается во время затяжной войны, которая то вспыхивает ярким пламенем, то едва тлеет, но не угасает!
В этот период афинский люд стремился как можно свободнее утолять свои животные и собственнические вожделения. Неограниченная свобода! Какие красивые слова, как легко слетают они с уст, как великолепно звучат в ушах, именно для того и наставленных, чтоб ловить дерзкие призывы и проповеди, которые освобождают человека от всего, что его связывало, утверждая его право на вольность дикаря! Именно теперь и желательно пробуждать в людях тоску по древней свободе, – тоску, до сей поры переходящую от прадедов к правнукам...
Но кому она желательна сейчас, эта тоска? – подумал Сократ, ибо он думал не только о том, что говорит Гиппий, но и о том, кому он говорит, в какое время и по каким побуждениям.
А толпа ликует, славя Гиппия. Ученики Сократа не отрывают взгляда от учителя, который невозмутимо лузгает семечки.
Когда овации стихли, Сократ приблизился к Гиппию.
– Восхищаюсь тобой и преклоняюсь перед твоим умом. Блестящая декламация. Жесты складные, плавные и вместе с тем сильные, энергичные, всегда эффектные, отлично согласованные с ритмом фраз...
Гиппий победоносно озирается на своих друзей олигархов. Но те, зная Сократа, хмурятся: сначала-то хвалит, а что будет потом?
Сократ, не меняя вежливого тона, постепенно оживлялся, становился веселее.
– Из речи твоей, блистающей поэтическими образами и отлично подобранными словами, меня больше всего заинтересовало, как ты сумел свести мудрое изречение Протагора – что человек есть мера всех вещей – к требованию неограниченной свободы для человека. Поистине, посмотреть – прямо Элисий! Позволишь ли мне, почтенный Гиппий, исследовать этот твой тезис?
– Отчего же? Исследуй, дорогой Сократ!
– Благодарю за разрешение. Но, давая его мне, ты, конечно, понимаешь, что тезис твой я буду исследовать на твоем же примере. – Глаза Сократа улыбались, но в лице не дрогнул ни один мускул.
– На чьем же еще? – самодовольно ответил Гиппий. – Речь мою оценили уже все, кто нас слушает: меня немало порадовали рукоплескания, – так стану ли я отказывать тебе в этом? Ты доставишь мне большое удовольствие.
– Итак, разберем сообща твою речь. Ты сказал, что закон – тиран человека?
– Сказал.
– Хорошо ли я тебя понял? Ты считаешь, что не существует неких сверхъестественных, невидимых сил, которые бы эти законы установили?
– Ты понял меня очень хорошо.
– Но в таком случае законы могли установить только сами люди. Согласен, милый Гиппий?
– Конечно. Это подтверждает мой тезис, – твердо ответил софист.
– Но ради чего установили люди законы? Чтоб им было хуже или лучше?
– В одних случаях лучше, в других хуже... – Гиппий слегка повел рукой в сторону слушателей.
Те одобрительно зашумели.
– Не стану этого оспаривать, – неожиданно для Гиппия сказал Сократ. Но пойдем дальше, рассмотрим законы, с которыми человеку лучше, нежели без них.
– Следую за тобой! – охотно откликнулся Гиппий, уверенный, что, чем ближе подойдет Сократ к некоторым законам, тем легче будет подвергнуть их критике.
Сократ переступил с ноги на ногу, как бы удостоверяясь, что стоять ему удобно, и заговорил о тех законах и реформах, с помощью которых Солон ограничил избыток роскоши у одних и взял под защиту других, обедневших.
– Солон, – сказал Сократ, – назвал единственными виновниками всякого зла и бедствий алчных богачей, эвпатридов, которые наживаются на земле и на труде рабов. Неограниченная свобода выгодна именно им. Твоя речь, милый гость, звучит так, словно ты говоришь богачам: удачи вам, друзья, наживайтесь без затраты своего труда!
В толпе слушателей уже какое-то время накипало, и теперь вскипело. Софисты роптали, топали, Антифонт замахал руками:
– Этого Гиппий не говорил!
Но кто-то из стоявших поближе воскликнул:
– Не говорил, но так можно было его понять!
– Хайре, Сократ! Хайре, Сократ! – выскакивали отдельные голоса и скоро слились в единый хор.
Сократ мягкой улыбкой успокоил возбуждение. Вот он протянул к Гиппию обнаженную руку, без браслетов и перстней:
– Мы встретились сегодня впервые, милый Гиппий из Элиды, но твои мудрые речи, которые слышали во всех греческих городах, дошли до меня прежде тебя самого. Буду ли я несправедлив к тебе, если скажу вот здесь, при всех, что никто из учителей мудрости не признает столь открыто, как ты, естественное право человека – против права, установленного и одобренного многими людьми?
– Я горжусь этим, Сократ, – возразил Гиппий. – Каждый человек жаждет естественного права, данного ему природой.
Сократ, словно не зная, как быть дальше, спросил:
– Ты изучаешь историю?
– Конечно, – ответил Гиппий. – Мог ли я обучать истории, если б сам не был ее учеником?
– Очень рад услышать это. Значит, мне уже нет надобности поучать тебя, коли сама история учит, что все права и преимущества забрали себе богатые и могущественные, отказывая в них всем прочим.
Гиппий широким взмахом распахнул хламиду и с большим нажимом произнес:
– Я признаю естественное право за каждым человеком!
На пафос софиста Сократ возразил будничным тоном:
– На словах – да, допускаю. Однако от слов твоих до дел далеко, да последние, пожалуй, никогда у тебя и не родятся. А вот Солон, как тебе известно из истории, ограничил законом неограниченную свободу богачей наживаться корыстно. Так что же – эти законы на пользу или во вред людям, милый Гиппий?
– Зачем ты спрашиваешь меня о том, что знаешь сам? – раздраженно отозвался тот.
– Очень просто, – объяснил Сократ. – В любом утверждении скрыто его частичное отрицание и в любом отрицании – его частичное утверждение. Ты, больше меня повидавший мир, мог бы помочь мне лучше разобраться в этом.
Гиппий в тщеславии своем думал показать себя мудрее Сократа:
– Частичное отрицание еще не отрицает всего утверждения, так же как и частичное утверждение не опровергает отрицания в целом.
– Отлично, Гиппий! – воскликнул Сократ. – Но тогда ты, несомненно, согласишься, что закон одним во вред, другим же на пользу. И тут нельзя умолчать о том, что наши демократические законы – на пользу многим, во вред немногим. Однако... – Сократ почесал бороду. – Ты, Гиппий, если память мне не изменяет, сказал, что признаешь естественное право за всеми.
– Не могу отрицать этого. Здесь много свидетелей тому, что память твоя верна, но я и не собираюсь этого отрицать. – Гиппий самодовольно усмехнулся и процитировал строки из элегии Солона: – "И тех, кто здесь, на родине, влачился в гнусном рабстве, дрожа пред господином, я освободил. Законов мощью это я свершил, соединив умело насилье с правом, и сделал все, что обещал". – Гиппий засмеялся уже громко. – Ты хорошо расслышал, Сократ, слово "насилье"? От кого-нибудь из вас ускользнуло ли слово "насилье"? – обратился он к толпе.
– Ни от кого! Мы слышали! – закричали зрители. – Продолжай, Гиппий!
Гиппий поклонился народу, как бы уже прощаясь.
– Мне нечего больше сказать. Солон умело сочетал право с насильем, и вы ныне живете под этим насильем, подчиняетесь ему, почитаете его, пускай без охоты, как меня в том заверяли во всех городах вашего союза.
Толпа придвинулась ближе к ораторам.
– Благодарю тебя за беседу, – молвил Сократ, – но, прежде чем закончить ее, позволь мне спросить. Почему это естественное право, эту неограниченную свободу, ты проповедуешь во всех городах, на всех островах Афинского морского союза, в то время как – ты сам это сказал – на родине своей, в Элиде на Пелопоннесе, ты менее чем гость, милый Гиппий? Тебе не по нраву строгость ваших законов, правил и обычаев и ты предпочитаешь нашу страну, где царит столь великая свобода слова, что от нее кружится голова у таких, как ты? Или тебе и этого еще мало и ты хотел бы вызвать у нас неповиновение законам и тем самым вернуть нас ко временам глубокого варварства и тирании? Тебе кто-нибудь за это платит? Ты учитель мудрости. Это твое ремесло или ты кормишься чем-то иным?
Гиппий, оскорбленный, преодолел себя и решительно заявил:
– Это мое ремесло!
– То, что делаю я, – возразил Сократ, – я считаю своим призванием и долгом.
– Оно и видно по твоей внешности – босой... потрепанный хитон, засаленный гиматий... – презрительно бросил Гиппий.
– Послушай, друг! Выведи меня из заблуждения. Быть может, у вас вообще нет никаких законов и всем страстям человеческим дана полная воля? И ты, несчастный изгнанник, бежишь от этой вольности к нам, чтоб тебя, чего доброго, не растерзали страсти других?
Толпу всколыхнул смех. Люди захлопали. Гиппий выпятил грудь. Вскинул выше голову. А Сократ продолжал:
– Почему же тогда желаешь ты нам того, от чего сам бежишь?
– У нас тоже есть законы, – вынужден был Гиппий признать то, что старался опустить в своей речи. – Но если б их и не было, я не считаю себя до того уж слабым, чтоб бояться сильнейших меня! Я смогу их обезоружить, и, если хочешь знать, я ни в чем не испытываю недостатка. Я могу путешествовать, где захочу, я совершенно не завишу от моих знаний, таланта и способностей. Такой независимости я желал бы для всех, ибо знаю, до чего сладостен ее вкус.
Сократ воздел руки:
– О, позволь поблагодарить тебя от имени этого небольшого собрания – я говорю небольшого, ибо вижу здесь всего несколько сот человек, мы же привыкли собираться и решать дела при участии шести тысяч; но все равно прими благосклонно и эту благодарность!
Гиппий промолчал.
Сократ подошел к нему и, прикасаясь пальцем к его чеканным пряжкам, браслетам, запонам, перстням, спросил:
– Это золото?
Золото? Слово это заставило вздрогнуть человека, который уже некоторое время бродил в толпе.
– Чистое золото! – хвастливо ответил Гиппий. – Чеканил я сам, и камни настоящие. И все это – из того, что мне платят за мои уроки.
– Эй-эй, какую роскошь я вижу? – раздался в тишине громкий голос, и через толпу пробрался человек с бронзовой бляхой на груди. Он поспешно подошел к Гиппию, беззастенчиво разглядывая его шелка и золотые украшения. Гиппий брезгливо отшатнулся, а человек проворчал:
– Я астином, надзиратель, поставленный народом следить, чтоб не было излишней роскоши. Это у тебя золото, это тоже. Штраф будет велик, гражданин! Твое имя?
Но Сократ уже держал астинома за плечи:
– Не торопись, приятель!
– Хайре, Сократ. Ты защищаешь этого расфранченного щеголя?
– Это софист, Гиппий из Элиды. Он явился в Афины, чтобы побеседовать со мной. Он чужестранец и не знает наших установлений. Можешь спокойно обойти его своим усердием.
Астином еще раз смерил взглядом разодетого чужестранца и сказал:
– Если ты за него ручаешься, Сократ, я отказываюсь от штрафа. Хайре!
Он отошел, но остался в толпе любопытных.
– У тебя ценные знакомства, – сказал Сократу Гиппий. – Прими мою благодарность за заступничество.
– Я сделал лишь то, что полагается по отношению к гостю. Но хочу сделать больше. Хочу я, милый Гиппий, дать тебе на дорожку подарок. – Он лукаво усмехнулся. – Что скажешь, если я поведаю тебе, сколь безгранично я свободен? Быть может, на своих путях ты будешь рассказывать о нашей встрече и смеяться над Сократом: мол, знаете, люди добрые, что он сказал мне на прощанье?
– Прошу, говори. Я готов принять твой дар, – сказал Гиппий в надежде понравиться тем, кому он хотел понравиться.
– "Подумайте только! – заговорил Сократ как бы от лица Гиппия. – Этот странный, дурно одетый, босой человек считает себя самым свободным из людей, потому что – ой, меня душит смех! – потому что он-де не раб своих страстей и еще потому, что подчиняется законам, данным Афинам прославленными предками! И если закон хорош – а чудак убежден, что афинские законы хороши, – и если сам он, при его тонком чутье к добру, им подчиняется, то это, по его словам, еще увеличивает его свободу, ха-ха-ха!"
– Это не смешно, – несколько помрачнев, в задумчивости проговорил Гиппий.
– "А еще, дорогие друзья, – продолжал Сократ предполагаемую речь Гиппия, – этот чудак утверждает, будто самым свободным из людей его делает то, что нет у него почти никаких потребностей – кроме потребности в самом необходимом питании и одежде, ха-ха!"
– Позволь мне теперь, дорогой Сократ, поблагодарить тебя за подарок. Быть может, ты дал мне больше, чем думал. Потому что теперь мне ясно, отчего ты ходишь босой и так дурно одет. Необходимость ты возводишь в добродетель...
Через расступавшуюся толпу приближался к философам высокий молодой человек. На черных кудрях его пылал венок из жгуче-алых роз. За его плечами развевался и волокся по земле алый шелковый плащ. Лицо его разрумянилось, глаза слегка затуманены: нетрудно было угадать, что идет он с пира.
– Ты учишь даром, бедный Сократ, – говорил меж тем Гиппий, громко, чтоб вся толпа слышала, как он торжествует, и уже едва справляясь с гневом, вызванным его унижением. – Не ценишь ты свою мудрость – как же можешь ты после этого хотеть, чтоб ее ценили твои ученики, твои слушатели? От нищих, которым ты желаешь уподобиться внешностью, не потекут к тебе ни оболы, ни драхмы. Нищий нищему не поможет. А состоятельные люди не дураки. Не станут они платить тебе за твое "знаю, что ничего не знаю"!
А высокий юноша шел легкой походкой, гибкий и сильный, как великолепный хищник. На ногах его были мягкие сандалии, ремешки которых, перекрещиваясь на голенях, доходили до колен. Молочно-белый хитон матового шелка, в богатых складках, был коротким, зато алый плащ – таким длинным, что тащился за ним по земле, как шлейф. Рядом с юношей бежал громадный пес, редкостное, драгоценное животное. Фигура юноши привлекла всеобщее внимание. Эвтидем восторженно вздохнул.
Молодой человек приблизился, как раз когда Гиппий позорил Сократа, и слышал все. Двинувшись к софистам, он бросил собаке:
– Дарион, стойку!
Великолепное то было зрелище: гигантское животное, мгновенно замершее с оскаленными клыками...
Его хозяин повернулся к Сократу:
– Спускать?
– Да сохранят тебя боги, Алкивиад! Мы просто немножко повздорили нельзя же за это отдавать Дариону наиболее нежного из нас двоих!
Тут вдруг и толпа, и сам Сократ разразились хохотом:
– Смотри-ка, спускать-то уже и не на кого!
В самом деле, Гиппий растворился в толпе, как капля воды в реке.
8
Алкивиад подошел к Сократу. Низко поклонившись ему, он обратился к учителю – и сладостен был звук его ритмической речи, тем более что согласную "с" он выговаривал с пришепетыванием, а слова были исполнены любви и восхищения:
– Мой дражайший Сократ! Даже когда на афинское небо выезжает в золотой колеснице сам Гелиос, его сияние кажется мне не столь ослепительным, как то, что озаряет меня, когда я вижу твое лицо!
Все улыбается юному красавцу, все внимает ему с удовольствием. Только двоюродный брат его, Критий, следит за Эвтидемом, который старается хоть коснуться плаща Алкивиада. Это ему удалось, и Эвтидем в блаженстве прикрыл глаза. Все кому не лень любят этого спесивого франта: Сократ, народ, даже мой Эвтидем, думает Критий. Меня же не любит никто...
Алкивиад бурно радуется:
– Наконец-то я увиделся с тобой, дорогой Сократ!
Сократ отозвался с иронией:
– В самом деле! И как это мы нынче встретились... Опять у тебя на голове венок из роз! Ты с пира идешь. Целый месяц бегаешь от меня, кутишь. Но что я вижу? Кто изуродовал твоего Дариона? Кто отрубил ему хвост?
– Мне и самому жалко. Хвост был ему удивительно к лицу.
– Лицемер! – прошипел Критий. – Люди говорят, ты же сам это и сделал!
– Не может быть, – сказал Сократ.
Алкивиад смиренно сознался:
– Это правда. В минуту слабости... выпил много вина... Моя жена Гиппарета пыталась помешать мне, плакала... В самом деле поступок позорный, каюсь...
– Такое редкостное животное! – вставил Критий. – Ты сам говорил, что пес стоил семьдесят мин!
– О Гера! – ужаснулся Сократ. – Вдесятеро дороже всего, что есть у меня в Афинах и в Гуди!
– Все потому, что не было со мной тебя, дорогой Сократ!
– За это тебя осуждают все Афины, – проговорил Критий.
– За то, что со мной не было Сократа?
– За то, что ты изуродовал прекрасную собаку.
– А мне этого и надо, – возразил Алкивиад. – Пускай лучше говорят о моей шалости, а не о чем-либо похуже.
– Разве есть что и похуже сказать о тебе? – спросил Сократ.
– Есть, клянусь Зевсом!
Сократ нахмурился:
– Так вот почему ты так долго от меня прятался?
Алкивиад покаянно признался: да, ему стыдно было показаться на глаза Сократу. Он предался обольщениям гетер, пьянству, кутежам... Тогда Сократ спросил: было ли ему действительно стыдно показаться на глаза, или он не показывался, чтоб можно было кутить без помех? Алкивиад воскликнул с жаром:
– Если б ты, мудрейший, но и храбрейший, не спас мне жизнь под Потидеей и не вынес меня с поля боя, сегодня я соединился бы уже с тенью Перикла в подземном царстве! И теперь, Сократ, прошу тебя второй раз спасти мне жизнь, иначе я погиб! Сам я не умею сдерживать себя и укрощать. Слаб я перед страстями, что одолевают меня...
– Друг, ты меня огорчаешь!
– О Сократ, учитель мой, сколько в тебе достоинств! – не слушая возражений, страстно молит Алкивиад. – Не отвергай моей просьбы! В тебе такая великая сила, ты можешь все, даже защитить меня от напора бешеных страстей. О, я жажду снова, как на войне, делить с тобой палатку и еду, биться с врагами бок о бок с тобой и учиться у тебя всему доброму! Как я чту тебя, мой самый бесценный друг! Мой спаситель!
– Ну хватит, – оборвал его хмурый Сократ. – Ты преувеличиваешь, хотя знаешь – я этого не люблю.
– Я теперь не отойду от тебя, Сократ! – вырвалось у Алкивиада. – С тобой я делаюсь лучше. Без тебя же мной овладевают демоны зла. А я, мой дражайший, не так уж скверен, чтоб радоваться этому! Желать этого! Зевс свидетель – я несчастен, когда поступаю плохо. Кори меня, Сократ, свяжи меня силой своего слова, бичуй меня, топчи!
– Перестань, Алкивиад. Ни в чем ты не знаешь меры. Ни в грехах, ни в раскаянии. Не говорил ли я тебе сотни раз, что одна из высших добродетелей человека – софросине! Умеренность, чувство меры... Она – предпосылка для всех прочих добродетелей, без нее же ты клок соломы, треплющийся по ветру!
Но не так-то легко было утихомирить Алкивиада.
– Когда Сократ говорит о добродетелях – это как богослужение! Вся афинская молодежь должна слушать...
– Потому что я обнажаю то, что есть в ней нездорового? В том числе и в тебе?
– Ты обнажаешь недобрые поступки, но и недобрые мысли. Ты как пророк, как ясновидящий... – Алкивиад никак не успокоится. – Мы любим тебя больше всех, Сократ! Ты наш отец, ты голос бессмертных богов! – И снова самоуничижение. – Чем был бы я без тебя! Один ты в силах укротить меня, тигра, и я смиренно лежу у твоих ног. Но больше я от тебя – ни на шаг! Поведу жизнь простую и прекрасную, как ты...
Алкивиад сорвал с плеч свой алый плащ и швырнул его со ступеней портика. Плащ, взвившись, пролетел по воздуху, словно живое пламя, – и вот уже люди бросились рвать его: каждому хочется добыть кусочек этой восточной роскоши.
Критий язвительно бросил двоюродному брату:
– Собаку свою тоже кинешь толпе?
– О нет. Ее я люблю больше... – он посмотрел в глаза Критию, – больше, чем людей, у которых желчь переливается через край...
Сократ был рад раскаянию Алкивиада, которое выразилось внешне в том, что он с себя сбросил драгоценный плащ. Но тут он вспомнил о живописце Агафархе, которого Алкивиад запер у себя в доме, пока тот не распишет ему все стены, и спросил о нем. Алкивиад сознался, что все еще держит художника в плену.
– Какой позор! Какое насилие! И после этого ты обещаешь мне перемениться?!
– Я скоро выпущу его, Сократ. Он скоро закончит. Он украсил мне весь дом. Гиппарета в восторге от его искусства. Согласись! Если его отпустить, он, вернувшись, уже не сможет сделать столько, как сейчас. Запертый же среди голых стен, он, желая вообразить себя на свободе, расписывает их пейзажами и фигурами людей. Отлично работает!
Кругом засмеялись.
Засмеялся и Критий: сколько дерзости, какие причуды... Сколько безобразий совершает Алкивиад – и ему-то стать первым человеком в Афинах?!
– Почему ты, Сократ, обладая всеми необходимыми для этого знаниями, не хочешь посвятить себя военному делу и политике? – повернулся Критий к философу.
– Если б я занялся этим, милый Критий, то, пожалуй, кое в чем и преуспел бы. Но тогда я был бы один. А я хочу трудиться во имя того, чтобы искусством управлять овладело как можно больше людей – к выгоде Афин. Поэтому я посвятил себя не политике, а вам. Таким путем я умножил самого себя. И я сближаю вас с другими, чтобы вы стали добрыми друзьями... – Видит ли Сократ, с какой ненавистью смотрит Критий на Алкивиада, которому влюбленно улыбается Эвтидем? – Чтоб помогали друг другу жить добродетельно, пользуясь при этом всеми дарами жизни...
А поодаль, под портиком, два эпигона софистов поучают толпу, как легче и быстрее добиться успеха, власти и благосостояния.
– Барыш – всеобщий закон! Барыш – цель гражданина нашего времени! наперебой кричат они.
– Барыш – это полные горсти серебряных монет, – сказал Сократ, – но что внутри у того, кто ими владеет? Убожество, пустота, ибо подлинное богатство – в образованности, в мудрости, в арете...
Раздался режущий смех. Это подросток, афинский оборванец Анофелес, смеется таким режущим смехом, прислонившись к мраморной колонне. И насмешливо смотрит на Сократа:
– Очень уж ты витаешь в облаках, Сократ! Не видишь, чем дышат люди. Эти двое правы. Людям нужна только щепотка мудрости, как перца, зато – много хитрости, чтоб скорее дорваться до успеха. Что нам добродетель, граждане? Что она нам, скажите на милость? Разве ею насытишься? Наоборот – за добродетель-то и платят голодом, бедностью, а то и собственной головой, ха-ха! Что, премудрый Сократ, разве я не прав?
– Ты прав, Анофелес, – усмехнулся Сократ. – Прав, как и эти софисты.
И Анофелес вскричал:
– Слава мудрому Сократу!
9
Гончар Перфин праздновал рождение пятого ребенка, сына, а так как был он довольно зажиточным человеком и дом имел просторный, то и пригласил друзей на кувшин вина под острые закуски. Приглашен был и отец Ксантиппы Нактер.
Пир получился веселый и шумный, ибо старший сын Перфина неплохо играл на авлосе, чьи звуки к месту и не к месту смешивались с голосами гостей.
Нактер оказался средоточием шуток, сыпавшихся на него со всех сторон.
– Друг, возьми-ка плетку да почеши спинку своей старшенькой!
– С чего бы это? – удивился Нактер. – Не могу пожелать лучшей дочери, чем моя Ксанта!
Перфин – в одном глазу серьезность, в другом смех – сказал:
– Что правда, то правда, в Керамике никто не умеет продавать горшки лучше твоей девчонки!
Сосед же Нактера раздраженно проворчал:
– Хорошо тебе хвалить дочь, Нактер! А мне что делать? Всех покупателей переманивает!
– Не у тебя одного, дружище. – Перфин обвел пальцем сидящих за столом. – У всех у нас отбивает покупателей, хитрюшка! Но коли не возьмешь ты вовремя плеть, Нактер, потеряешь такую знатную торговку. Мы-то, конечно, вздохнем с облегчением!
Гончары засмеялись и, смеясь, продолжали подтрунивать над Зактером.
– А хорошенькая она у тебя, даже Гермес со своей гермы глазки ей делает!
– Сдается мне, дельце-то уже слажено! Уже не будет покрываться пылью наш товар – теперь запылятся твои горшки, Нактер!
Тот все еще считал такие разговоры шуточками, неотделимыми от семейного торжества.
– Чего это вы разорались? Брюхо набили, вина напились, теперь забавляетесь на мой счет, так?
– А коли так – что ж, смейся с нами, и дело с концом!
– Знаю я вас, хитрецы! Небось сказали себе: разыграем Нактера! Всем нам известно, как он умеет злиться! – Говоря так, Нактер уже и впрямь злился. Только не больно-то расходитесь, голубчики! Ксанта – моя правая рука! Так что не пугайте меня! – Нактер грозно повращал глазами. – И кому это из вас пришла в башку дурацкая мысль, что я ее потеряю? Тебе, Перфин?
– А как отцы теряют дочерей? Ты сам-то не отобрал ли в свое время дочку у другого отца? – И Перфин толкнул Нактера под ребро.
Нактер понятия не имел о том, что творится в сердце дочери. Но он не подал виду и проговорил, будто ему известно все:
– Но-но-но, милый Перфин, что за спешка? Сынок твой уж дождаться не может, когда приведет в дом мою Ксанту? Посоветуй-ка безбородому сосунку потерпеть пару годочков без супружеских ласк...
– Безбородый! Сосунок! – грохнул смехом Перфин.
– А то кто же? Конечно, сосунок! – распалился Нактер.
Его заглушил взрыв хохота:
– Слыхали? Сократ ему – сосунок!
Нактер вытаращил глаза, как собака, у которой застряла в горле рыбья кость.
– Что? Кто? Чего болтаете? Какой Сократ?
– В Афинах, насколько мне известно, есть только один! – давился смехом Перфин. – Я сейчас лопну! Сократ – жених Ксантиппы, а папенька-то ничего не знает!
Слово "жених" побудило Нактера действовать. Он стукнул кулаком по столу и под ржанье гончаров помчался домой.
Еще с порога он заорал:
– Вставайте! Поднимайтесь! Вон из постелей! Да не вы, мелюзга, вы марш обратно в свой чулан, дрыхните дальше! Жена, вставай! Ксанта, сюда!
Жена села на постели; Ксантиппа, сонная, растрепанная, босая, в измятом пеплосе предстала перед отцом.
Нактер сначала долго ругался, понося всех богов и мерзкий мир – для разбега. Потом громовым голосом осведомился у дочери:
– Ты, негодница, знаешь Сократа?
– А как же. В Афинах все его знают.
– И ты его знаешь, жена? – Он упер руки в боки, чтоб обеспечить себе прочную позицию.
– Конечно, знаю. Часто вижу его на рынке.
– Вот-вот, шляется по рынку, по улицам, словно бродяга, ничего не делает, только языком мелет да за дочкой моей ухлестывает!
Дочь Нактера давно выросла из детских сандалий, когда она не позволяла себе перебивать отца. И теперь она резко прервала его:
– Я думала, отец, ты человек ученый. И значит, не должен употреблять слова, недостойные ни тебя, ни Сократа.
– Какие еще слова?
– Ну ты ведь сказал, что он ничего не делает, только языком мелет.
– А разве это неправда?
– Неправда, отец. Он учит людей, с которыми вступает в разговоры.
Нактер вытаращил глаза:
– Чему же это он их учит?!
– Думать, – кратко ответила Ксантиппа.
Думать! Для Нактера это было слишком сложно.
– Да нешто надо учить думать? Вот дурак-то!
Жена Нактера была далека от сути спора. Она попыталась приблизиться к нему, задав практический вопрос:
– А что у тебя, Ксанта, с этим Сократом?
Ксантиппа почти пропела:
– Я возьму его в мужья!
– Что-о?! Сократ хочет на тебе жениться?! – Мать была поражена.
– А я – выйти за него. Мы уже договорились.
– Без меня?! – вскричал Нактер.
– Сумели и без тебя, отец.