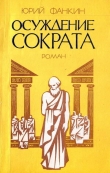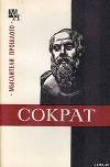Текст книги "Сократ"
Автор книги: Йозеф Томан
Соавторы: Мирослава Томанова
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
– Они выходят из храма, – предупредил Ксенофонт. – И Критий смотрит сюда. Сократ, может быть, тебе уйти?
– С чего бы? Я обедаю.
– А я ухожу, – сказал Ксенофонт. – Не хочу с ним встречаться.
С Ксенофонтом ушли все. Сократ остался один.
Критий снял пурпурную мантию, бросил ее на руки одному из стражей:
– Ступайте все вперед. Я вас догоню.
Он подошел к Сократу, который спокойно продолжал есть.
– Хайре, Сократ.
– Будь счастлив, Критий.
– Позволишь посидеть с тобой?
– Не только позволю, – улыбнулся Сократ, – но предложу тебе сыру с лепешкой. Я как раз обедаю.
Критий сел на ступеньку.
– Скудный обед. Но благодарю – не буду.
– Напрасно. Разве не помнишь, какие лепешки печет Ксантиппа? Сказка!
– Сидишь тут словно нищий. Я был бы для тебя лучшим благодетелем, чем Критон. Если бы ты, конечно, захотел. Я не забыл, что ты мой учитель.
– Бывший, – мягко поправил его Сократ. – Я тоже не забыл те времена. Но ты ошибаешься, видя во мне бедняка. Если кого из нас двоих можно так назвать, то не меня.
Критий обиженно поерзал.
– Почему же это я бедняк? – сердито спросил он.
– Клянусь псом! Это ведь так просто: я тут сижу себе над городом в холодке, дышу свежим морским ветерком, ем с удовольствием лепешку с сыром и чесноком, запиваю винцом из Гуди. Тебя, знаю, ждет пир. Угри, фаршированные дрозды, паштет из гусиной печенки с фисташками, медовое печенье, хиосское вино. Отлично. Великолепно. Да только со всеми этими вкусными вещами ты вкушаешь еще очень несладкую сладость...
– Какую же? – нетерпеливо воскликнул Критий.
– Страх, – сказал Сократ.
Критий засмеялся режущим смехом, каким смеялся всегда, когда чувствовал себя задетым.
– Ты в своем уме? Чего мне бояться?
– Загляни дома в зеркало – какой ты озабоченный, желтый, весь извелся. Не удивительно. Ни одного куска не можешь ты проглотить с удовольствием, ни одного глотка вина, охлажденного льдом. Знаю. Ты завел рабов, которые должны отведывать пищу, приготовленную для тебя. А что, если яд-то подействует через несколько часов?
– Перестань! – вырвалось у Крития.
– Нет, правда, есть такие яды, я не выдумываю. И не только это. У тебя куча льстецов, вокруг тебя кипит дружеская беседа, но можешь ли ты знать, что у кого-нибудь из твоих друзей... гм, странное слово... скажем лучше – из твоих сотрапезников, не спрятан под хитоном кинжал для тебя?
– С этим должен считаться всякий...
– Не всякий, – перебил его Сократ. – Я, например, – нет, потому что мои друзья не могут ждать от меня зла, я от них тоже. А ты даже спать спокойно не можешь. Бедняк.
Критий вскочил.
– Довольно! Ты неисправим. Когда-то ты из-за Эвтидема назвал меня свиньей, а сегодня такая дерзость... Постой! Вспомнил – я ведь хотел тебя спросить. Про Саламин. Помнишь, где это?
– Конечно. Я ездил туда к Эврипиду.
– Знаешь там некоего Леонта?
Сократ поднял глаза на Крития:
– Богача?
– Владельца поместья, – поправил его Критий.
– Что тебе от него надо?
– Чтоб он приехал потолковать со мной.
Сократ задумчиво смахнул с хитона крошки. Потом сказал:
– Да, ты любишь посадить... – поправился, – посидеть с богатыми демократами...
– Нищие башмачники или гончары не так опасны, – резко ответил Критий. В охоте на крупную дичь я соревнуюсь с Хармидом.
– Я предложил бы тебе соревнование другого рода. И тогда был бы рад помогать тебе... – Сократ заколебался.
– Говори. Вижу, мы сможем договориться.
Сократ тихо сказал:
– Соревновался бы ты, властитель Афин, с властителями других государств в том, чтобы сделать Афины самыми счастливыми... Вот это было бы соревнование! Тебе позавидовал бы весь мир!
– Проповеди! – взорвался Критий. – Оставь свои назидания про себя! Короче: я желаю, чтобы ты привел ко мне Леонта с Саламина!
Сократ отпил из бурдюка и вытер усы.
– Такое поручение, право, не для меня. Не сердись, Критий, но тут я тебе не помощник.
От злости у Крития сорвался голос:
– Да ты знаешь, что говоришь?!
– Как не знать. То, что думаю, как всегда.
– И обо всем этом ты беседуешь с учениками?
– А почему бы и нет? – удивился Сократ. – Нынче ведь такие вещи очень важны для каждого афинянина. Ты не находишь?
Но Критий уже спешил через Пропилеи в город.
– Ну вот, теперь, пожалуй, придется мне самому обзавестись отведывателями еды и питья да присматривать, не прячет ли кто для меня кинжал! – засмеялся Сократ и по старой привычке пошел полюбоваться фризом работы Фидия на челе Парфенона.
4
– Ну вот, еще с одним покончено. Можешь убрать... – Отравитель вгляделся в бледное лицо лежавшего перед ним человека: заметил в его глазах признаки жизни. – Впрочем, погоди еще.
Помощник отравителя махнул рукой:
– Ничего, может и на носилках дух испустить. Сам знаешь – приказано не возиться...
Но отравитель не позволил подгонять себя. Он добросовестно отправлял свое ремесло, когда в его руки передавали преступников, так может ли он работать небрежно теперь, когда речь идет о невинных жертвах? Он не отрывал взгляда от глаз отравленного, из которых все не уходила жизнь.
– Я знавал его. Мудрый и справедливый был человек. Выступал с речами на агоре, под портиком...
– За что же мы его... того?
– Много говорил.
Помощник отравителя покачал головой:
– Удивительное дело. Мудрый, а такой дурак...
В совете Тридцати Критий держит речь.
– Боги благословляют нашу работу...
Голос:
– Работу?..
Критий раздраженно:
– Кто это сказал?!
Молчание.
Критий:
– Мы поднимем Афины с помощью Спарты. Как – Спарта? Наш исконный противник? Наш спаситель! И кто не хочет этого понять...
Голоса:
– Слава Спарте! Слава царю Павсанию! Слава...
Имя Лисандра с трудом выговаривают даже уста Тридцати. Критий голодным взором окидывает тех, кто не так уж ревностно вторит ему: хочет их запомнить.
Критий:
– Что еще у пританов для совета?
Притан:
– Смертные приговоры, вынесенные вчера вечером, – на подпись.
Притан читает приговоры.
– Голосуйте! – велит Критий – и подписывает.
Голос:
– Говорят, вчера ты приказал без суда казнить Лесия и Тедисия!
Тишина. С улицы доносится плач, вопли.
Ферамен:
– Боюсь, ты переходишь границы, Критий. Человеческая кровь – не вода из Илисса. Тедисий был уважаемый гражданин – и тебе было достаточно, что какой-то сикофант нашептал про него – быть может, облыжно?
Критий побледнел, положил стило и, пронзая взглядом Ферамена, отрезал:
– Мне этого было достаточно!
Ферамен:
– Ты один еще не совет Тридцати!
Критий:
– Разве вы сами не дали мне право решать в некоторых случаях единолично?
Ферамен:
– Такое право тебе дали только на первые дни нашего правления и только для исключительных случаев. Лесий же, Тедисий и другие, которых ты устранил, не были исключительным случаем!
Критий:
– Здесь уже несколько раз прозвучали строптивые голоса. И прежде всего твой голос, Ферамен. Но продолжим совет. Когда закончим, выйдут все, кроме Ферамена.
Олигархи по-прежнему собираются в своих гетериях. Обсуждают положение. Все ли так хорошо, как кажется? Или – так плохо, как пугают некоторые?
Они не могут договориться, что дальше, чья очередь подняться выше, а кого пора устранить. Одни поддерживают Крития: нас мало, а противников много, и даже смертоносная рука Крития кажется не такой уж энергичной в сравнении с многочисленностью тех, кого следует умертвить или запугать. Другие стоят за Ферамена. Призывают к разумным, осторожным действиям – не надо раздражать народ... Третьи ни туда ни сюда – не знают, чего им держаться.
Сборища олигархов прежде проходили в определенном порядке. Сначала разговоры о том, что им портило кровь: о народовластии. Каждый приносил сюда, что успел узнать новенького, предложения так и сыпались – чем да как ослабить ненавистную демократию. После этого наступал черед попойки, которая примиряла участников, нередко переругавшихся насмерть из-за различия мнений. Тот же, кто не предавался разгулу без оглядки, кто не умел надлежащим образом распалить свои инстинкты или инстинкты других, а затем удовлетворить их, тот, отличаясь от прочих, был подозрителен.
Но теперь в гетериях благотворное примирение не наступает. Не помогают и тяжелые вина. Споры продолжаются даже во время оргий с девушками или юношами. Критий? Или Ферамен? Какой метод лучше – жесткий? Или мягкий?
И ни у кого из них, даже если спросить их по отдельности, нет своей твердой, неизменной точки зрения. Их речи, подобно флюгеру, поворачиваются в ту сторону, в какую дует ветер. Но в одном, как яйцо с яйцом, схожи все олигархи, все заговорщики разных гетерий, и даже сами Тридцать тиранов: афинский народ нагоняет на них все больший и больший страх, в то время как страх народа перед террором ослабевает.
Из страха перед демократами Критий не перестает убивать, маскируя жестокость правления тиранов красивыми словами. Ораторов для этой хорошо оплачиваемой работы он находит предостаточно.
Оратор за оратором выступают у портика, обмывают языками тиранов, и те выходят чистенькими, доблестными спасителями несчастных Афин.
Выступает и ритор Ликон. Его речи отличаются мастерским умением, от усердия у него воспаляются суставы челюстей – но олигархам кажется, он говорит в их пользу, у народа же создается противоположное впечатление.
Критий – Ферамену:
– Ты недоволен? Я отдал тебе роскошную виллу, полную драгоценных вещей, оставшуюся после одного... ну, ты знаешь... Все мы кому-то не нравимся, даже кое-кому из аристократов. Ни один из Тридцати не получил так много – и тем не менее они довольны. Ты хочешь большего? Рабов? Скажи, чего ты хочешь!
Ферамен:
– Ничего этого мне не нужно. Но я не люблю черный цвет, и у меня чуткий сон. Ночи напролет слышу плач и причитания. Не люблю слез, а их полны глаза...
Критий:
– К чему ты мне это говоришь?
Ферамен:
– Умирая, Перикл сказал – самое большое его счастье в том, что ни одному афинскому гражданину не пришлось носить траур по его вине. Что скажем мы, когда будем умирать?
Критий – с раздражением:
– Зачем ты говоришь "мы"? Ты заявил в совете, что не согласен с моими действиями. Не увиливай!
Ферамен:
– Ну... прежде всего – что скажешь ты?..
Критий:
– Я знаю мой долг, а того, кто мне мешает, следует устранить...
Ферамен:
– Но, великий Зевс, счет идет уже на тысячи!
Критий:
– Будешь продолжать в том же духе – я и тебя причислю к нашим противникам.
Ферамен:
– Но ведь ты и для того еще убиваешь богачей, чтоб захватить их имущество!
Критий:
– Как можешь ты смешивать две такие разные вещи? Да, богачей – которые против нас. Что касается имущества... А ты не знаешь, как выглядит наша казна? Мы вынуждены быть безжалостными, конфисковать имущество, увеличивать налоги, проводить реквизиции...
Ферамен:
– Но, Критий, мне волей-неволей приходится общаться с людьми – я ведь один из "тридцати извергов", как нас называет народ, – так вот, на кого я ни взгляну, все от меня отворачиваются! И ночью, во сне, приходят ко мне мертвецы, с которыми я пировал еще вчера...
Критий:
– Дрянь ты, Ферамен, и плевать мне на твои жалкие чувства. Спартанцы приказывают...
Ферамен взорвался:
– Спартанцы не приказывают убивать, хотя они и рады видеть, как мы истребляем своих же!
Критий с яростью:
– Много себе позволяешь, Ферамен! Я не могу не убивать. Это в высших интересах, не в моих личных! Или ждать, когда начнут убивать нас?
Ферамен:
– Когда во главе Афин стоял Алкивиад, он никого не обижал, устраивал пиры даже для бедняков – весело было у подножия Акрополя...
Критий:
– Что?! Уже и ты хочешь посадить Алкивиада на мое место?
Ферамен уклонился:
– Как ты, поэт, можешь устраивать такие гекатомбы? Или не был ты учеником Сократа?
Критий:
– Дойдет очередь и до Сократа!
Ферамен:
– Ну, этого ты не сделаешь!
Критий:
– Довольно. Ты – один против двадцати девяти. Завтра явишься в совет и заявишь при всех, что берешь назад все, что когда-либо говорил против меня и против спартанцев!
Ферамен:
– А если не возьму назад?
Критий вышел, не ответив.
После заката в сумраке тюремной камеры мигает тусклый огонек светильника. У осужденного немеет тело, оцепенение поднимается от ног к сердцу.
Отравитель философствует:
– Н-да, мой милый, живем среди обломков. А кто их делает, обломки-то? Кабы только спартанцы! Так нет, и наши туда же; сами-то они обломки крушения, да и мы с тобой тоже. – Он кивает на человека, умирающего так медленно.
Но вдруг он спохватывается, принимает почтительный вид – входит Критий, закутанный в длинный плащ.
Не поздоровавшись, без всякого обращения, Критий спрашивает:
– Как дела?
Отравитель нерешительно:
– Работы много... Не поспеваю за тобой, господин.
– Что за дерзость? За мной? Ты хочешь сказать – за нами?
– Оговорился я, – оправдывается палач.
Но Критий не удовлетворен; отступив на шаг, крикнул:
– Как это не поспеваете? Нарочно?
– Нет, господин. Мы-то стараемся. Но наше дело требует времени – а когда цикуты мало, тем более. Все ночи не спим.
– Скольких можете обработать за ночь?
– Раз на раз не приходится, – уклончиво объясняет палач. – И не от нас зависит. Некоторые – ну, вы понимаете кто – бывают уже полумертвые от страха, когда их приносят, в других, – он взглянул на лежащего, – словно девять жизней, одной чаши им мало.
Критий перевел взгляд туда же, куда смотрел отравитель, и процедил сквозь зубы:
– Другого способа не знаешь?
Отравитель промолчал.
Критий двинулся к выходу. Поняв, что это означает для него, отравитель быстро выговорил:
– Душить...
Перед тюрьмой – толпа. Страшные длинные ящики, в них всегда тишина, наводящая ужас: у тех, кого привозят сюда, во рту кляп; тем же, кого отсюда увозят, кляп уже не нужен. Страшный караван носильщиков смерти проходит через шеренги стражей.
Голоса:
– Послушали б Алкивиада, победили бы мы у Эгос-Потамов!
– Был бы Алкивиад в Афинах – такая бойня была бы невозможна!
– Вместо слез текло бы вино!
Алкивиад! Таинственным эхом отдается это имя по всему городу.
Помощник отравителя принимает у носильщиков очередную жертву.
Отравитель разглядывает человека – как всех до него. Видимо, осужденный защищался. Он весь в крови. И все же палач узнает его, и у него вырывается:
– О всемогущий Зевс! Ты ли это, господин?! Ферамен?
Ферамен не отвечает. У него кляп во рту.
Но отравитель продолжает, обращаясь к нему:
– Ужасно! Вы уже и друг друга отправляете к Аиду! А впрочем, что я говорю! Что тут ужасного?
Помощник шепчет палачу:
– Ты сказал – теперь моя очередь душить, но этого я не могу, этого ты сам...
Отравитель засмеялся:
– Успокойся – ни один из нас к нему не притронется. Он получит питье, сколько бы времени это ни заняло...
5
Ранними утрами Сократ прогуливался по берегу Илисса – там, где юношей ходил на встречи с Анаксагором и на свидания с Коринной.
Возвращаясь, останавливался в тени пиний неподалеку от домика, в котором жил с семьей внук великого государственного мужа Аристида, прозванного Справедливейшим из людей.
Внук Аристида выходил из дому только по утрам – продать свои изделия. Во времена такой дороговизны трудно было прокормить себя, жену, детей да еще сестру Мирто плетением лыковых корзин и кошелок.
Мирто ела скудную пищу, выслушивая грубости брата и язвительные замечания невестки. По утрам, когда брат с женой отправлялись на рынок с товаром, Мирто выходила в неогороженный садик, брала кифару и пела песни – и всем известные, и свои, сочиняя слова и мелодию. Она знала – под пиниями стоит Сократ. Стоял он там и сегодня.
Но сегодня он подошел к ней и заговорил:
– Ты внучка Аристида?
– Да, Сократ. Я Мирто.
– Часто слушаю твое пение.
– Я всегда пою для тебя, когда ты стоишь под пиниями.
– Мне приятно слушать тебя, смотреть на тебя. – Он легонько приподнял ей голову. – Ты плачешь?
Она рассказала ему о своей печальной доле. Сократ задумался. По его просьбе Критон, конечно, возьмет Мирто в свой богатый дом. Но тут же в нем взыграла ревность – с какой стати этому прелестному созданию жить вблизи от Критона! Удивился своему чувству, попытался прогнать его – не получилось. Громко засмеялся.
– Могу я узнать, чему ты смеешься, Сократ?
– Себе и другим я внушаю: познай самого себя! А все еще сам себя не узнал. Более того, в себе, в своей душе нахожу такие уголки, которые клянусь псом! – вовсе и не мои! – Он погладил девушку по желтым волосам. Такая красавица – и не замужем?
– Нет у меня приданого. Ни обола. Да и мне не всякий подходит...
– Из-за нескольких драхм отнята у тебя часть жизни! Да это беда всеобщая наша беда...
– Тяжело мне. В доме брата каждый кусок становится поперек горла, как подумаю, что объедаю его детей... И ту же мысль читаю в глазах брата и его жены...
– Попробую, Мирто, что-нибудь сделать для тебя.
В последнее время Ксантиппе нездоровилось. Она обрадовалась тому, что Мирто сможет помогать ей по дому, даже заменить ее. И Ксантиппа сама отправилась к Мирто и предложила ей прибежище у себя.
– Только знай – ты переходишь из нужды в нужду. Мы бедны...
– Зато ласковы и приветливы. А это больше чем богатство.
Мирто перешла не только из нужды в нужду, но и из безопасного места туда, где грозит опасность.
Он сидит на бортике бассейна, окруженный юношами и взрослыми.
Людям так нужен светлый взгляд на жизнь – и они собираются вокруг Сократа, слова которого хоть немного рассеивают мрак этих времен убийств и грабежей.
– Ты учишь молодежь вопреки запрету Тридцати лучших? Нарушаешь закон, Сократ? – раздается голос Анофелеса, который незаметно затесался в кружок друзей.
– О нет, милый Анофелес, я не нарушаю закон. Ты только хорошенько прочти его текст, вывешенный на пританее. Там написано, что я не имею права обучать юношество искусству риторики, но ни словом не сказано, что мне запрещают с кем-либо беседовать, а этим я сейчас и занимаюсь. Я ведь никого из вас не учу, друзья мои. Вот вы собрались тут все, с кем я часто беседую. Скажите: взял ли я с кого-нибудь из вас плату, как подобает учителю? Хоть обол? Нет. Видишь, милый друг! А рот мне закон не зашил.
Смех, рукоплескания.
Ученики уводят своего наставника в дальний уголок палестры, надеясь, что будут там с ним без посторонних. Это приятное местечко, здесь пахнет тимьяном и тихонько журчит ручей, облизывая выступающие из воды камни. Над ручьем носятся стрекозы.
– Когда-то я говорил вам, каким должен быть хороший правитель, – начал Сократ. – Тогда со мною были Алкивиад и Критий – правда, Критон? Но Ксенофонта, Аполлодора, Анита и тебя, Платон, тогда еще не было с нами. Сегодня я расскажу и вам.
– Ты хочешь говорить об этом здесь? – спросил, озираясь, Критон.
– Об этом я хочу говорить везде, – спокойно ответил Сократ.
И он стал рассказывать, отлично заметив, что в ручей соскользнул Анофелес – видно, тоже хотел поучиться.
– Я упомянул Алкивиада и Крития. Да, с ними обоими беседовал я о том, сколь почетна и благородна задача – править своей страной. Искусство правителя – самое сложное из всех человеческих занятий. Человек, поставленный на первое место в общине, обязан многое знать, уметь, быть рассудительным и отважным, и надо, чтобы в разуме его и в сердце была гармония добра и красоты.
Можно ли научиться искусству правления? Я убежден, что – да. Сегодня судите сами! Вы, вероятно, скажете, что правитель прежде всего должен быть справедливым. Легко ли это? Добро не птица, летающая в небе; то, что добро для одного дела, может оказаться злом для другого. Точно так же и справедливость. Ее тоже нужно рассмотреть со всех сторон прежде, чем определить – на чьей стороне, за какими людьми должна она стоять, чтоб называться справедливостью...
Платон пристально, с лицом, все более серьезным, смотрит на Сократа, который в своих рассуждениях подходит к самым опасным границам. Его поняли все. То, что справедливо для всех граждан, не может быть справедливым для Крития.
Макушка головы Анофелеса выдавалась над линией берега – доносчик сидел в ручье на камне и лихорадочно записывал на табличку обрывки Сократовых речей. Полностью фразы он не успевал записать, да и не совсем понимал их.
Сократ, как обычно, избрал для своих рассуждений пример из сельской жизни, чтоб пояснить мысль.
– Честолюбие многих афинян заключается в том, чтобы стать во главе города и заботиться о тысячах сограждан. А прославиться? Это всегда удается, если слово "прославиться" понимать слишком общо, не спрашивая себя – как. Как же следует действовать правителю, хозяину, чтобы одним словом выразить возможность для него прославиться? Возьмем пастуха, на попечении которого отара овец. Если пастух уменьшает свое стадо – не назовем ли мы его скорее волком для своих овец, чем добрым пастырем?
Друзья Сократа теснее придвинулись к нему, невольно стремясь сделать так, чтобы сказанное им осталось между ними. Но они соглашались с ним, и сердца их бились свободнее.
– Вы согласны? – улыбнулся Сократ и весело продолжал: – Но если мы назовем его волком – можно ли назвать его пастухом? Нет? Я того же мнения, что и вы. Правильно ли ты записываешь, Анофелес?
Платон в ужасе прошептал:
– Анофелес это слышал?!
Все испуганно повернулись к ручью. А Сократ продолжал:
– И добавим: если так поступает правитель – правитель ли он еще?
У слушателей мороз пробежал по спине.
– Чистые воды источника Каллирои дала Афинам природа – но потоки человеческой крови отворил в Афинах человек...
Анофелес, пригнувшись, бежал по руслу ручья, перепрыгивая с камня на камень.
6
Похвастаться на людях новой одеждой всегда успеется, сказал себе Анофелес; и он бегает по городу в старом рванье.
– Люди! Свобода! Каждый может делать, что хочет! Нет у нас никаких правителей!
– Сдурел ты, шут? – удивляются мужчины.
– Нет у нас правителей! Нет правителей! – выкрикивает Анофелес.
– Издеваешься над нашим горем! – кричат ему вслед женщины.
– Ничего подобного! Сократ сказал – кто плохо правит, тот не правитель! Вот как!
– Придержи язык, дуралей!
– Разве мудрый Сократ не прав? Кто не умеет шить – не портной, кто не умеет стряпать – не повар! Может, скажете, нет? – Анофелес расхохотался, ожидая, как подействуют его слова.
И дождался. В кучке мужчин один строптиво пробормотал:
– Да уж, это ужасное правление не продержится долго...
– А чего тебе не хватает, приятель? – допытывается Анофелес.
– О том, что у нас есть, лучше не говорить. Набито нас в Афинах что сельдей в бочке. А чего нам не хватает? Хлеба, мяса, денег, работы, земли, крыши над головой... – И тише добавил: – И демократии, которая сделала бы нас снова людьми...
– Держим и мы кое-какие железки в горне, – ободряюще заговорил другой афинянин. – Первая – Фрасибул, укрывшийся в Филе, вторая железка – демократы в Фивах, но есть и третья, уж из нее-то выкуется славный меч!
– Кто же это? Говори! – настаивает Анофелес.
И бедняк доверчиво отвечает мнимому бедняку:
– Алкивиад.
Анофелес выражает сомнение:
– Он-то нам чем поможет? Как знать, где он сейчас...
– Я знаю, где он, – похвастал моряк-инвалид. – Он со своей Тимандрой бежал в Азию, обедает с персидским царем. И каждый день выпрашивает у него по триере. Как наберет сотни две – будет здесь!
– Ох! Скорей бы! – восклицает Анофелес и скрывается, тихонько посмеиваясь.
В роскошной вилле Крития раб доложил хозяину: пришел Анофелес. Зачем явилась эта мразь? За подачкой? С доносом?
– Впусти.
Анофелес проскользнул в дверь и замер в почтительной позе. Критий смерил его холодным взглядом:
– За милостыней? Об этом ты мог сказать привратнику.
– Благородный, высокий господин! Мне ничего не надо. Просто пришел поклониться тебе – как старый знакомый, как твой почитатель. В твоем лице Афины дождались наконец крепкой узды. – Он поднял руки и, как бы в пророческом исступлении, продолжал: – Вижу – тобою очищенные Афины взрастают в новой славе! Вижу – на Акрополе, рядом с Афиной Фидия, стоит твое изваяние...
– Перестань. Я не спешу помирать, чтоб мне ставили памятники.
– Сохраните, боги! Это я из почтительности...
– Ну, довольно лести. Что хочешь за нее?
– Сохраните, боги! Я пришел не просить. Я принес тебе нечто более ценное, чем то, что можно оплатить серебром.
– На кого доносишь?
– Сохраните, боги! Доносительство презираю, но могу ли я, честный гражданин, сидеть сложа руки, когда... даже язык не поворачивается! До чего же ужасно, что о тебе говорят, будто ты плохо правишь, а стало быть – ты не правитель.
– И ты посмел ко мне с этим?.. Вон! – рявкнул Критий.
– Не торопись, благородный господин. Дело серьезное. И опасное. Люди уже повторяют... Уже и на стенах появились позорящие тебя надписи: "Пастух ли тот, кто уменьшает стадо? Правитель ли Критий, который истребляет сограждан? Критий не умеет править – Алкивиад умеет! Пускай вернется!"
– Думаешь, я не знаю, сколько у меня врагов? Но меня заинтересовало сравнение с пастухом. Какой дурак это выдумал?
Анофелес выжидающе промолчал.
Критий вынул из шкафчика кошелек, бросил на стол. Зазвенело серебро.
За одну минуту семикратно изменилось выражение лица Анофелеса:
– Дурак, сказал ты? О нет, господин. Нет. Сама Дельфийская пифия объявила этого человека мудрейшим...
– Что?! Так это мой...
Критий побагровел. Значит, мало ему было обозвать меня свиньей? Так я не правитель? Готовит почву для возвращения Алкивиада? Своего любимчика?
– Болтливый болван, – небрежно бросил Критий и, не прибавив ни слова, швырнул кошелек Анофелесу.
7
Скиф в полном вооружении соскочил с коня и трижды грубо ударил в калитку коротким мечом. Сократ завтракал, Мирто поливала цветы.
Услышав стук, Сократ крикнул:
– Какой невежа рвется к нам?!
Скиф вошел:
– Тебе надлежит немедленно в моем сопровождении явиться в булевтерий к Первому из Тридцати, Критию.
– Хо-хо! – рассмеялся Сократ. – В сопровождении такого великолепного воина с мечом! Какая честь! – Он спокойно продолжал уплетать лепешку с медом, запивая козьим молоком. – А скажи-ка, приятель, меня ожидает одна только его просвещенная голова или там будет много таких голов?
– Он ожидает тебя вместе с Хармидом.
– Отлично, сынок. Оба они мои ученики, и, когда я по их предписанию явлюсь к ним, они окажутся в достойной компании.
– Не ходи! – вскричала Ксантиппа.
– В твоем предложении, Ксантиппа, что-то есть...
– Приказ Первого гласит... – начал было скиф, но Сократ, словно его тут и нету, продолжал:
– Ты права, мне не подобает идти пешком: Критию следовало бы прислать за мной носилки. Но он всегда был немножко невоспитан. Прощу его и пойду.
– Все Афины увидят... – Рыдания перехватили горло Ксантиппы.
– Увидят мою славу, – договорил за нее Сократ.
Критий увидел его через проем в стене. Тихо выругался. Слишком поздно сообразил, что совершил ошибку. За Сократом, ведомым скифом, валила толпа мужчины, женщины, молодежь... Валила толпа с угрожающим ропотом.
Критий сидел в кресле на возвышении – Сократу он указал на низенькое сиденье напротив себя.
Сократ, не ожидая, когда с ним заговорят, смерил взглядом разницу в высоте сидений:
– О высокопосаженный Критий, вот я пришел по твоему приглашению в это уютное помещение. Что у тебя новенького?
Критий протянул ему лист папируса. На нем был написан закон, запрещавший Сократу обучать искусству риторики в гимнасиях, у портика и в других публичных местах.
– Тебе это известно?
– А как же! То же самое вывешено и внизу, чтоб каждый мог прочитать, и в обоих текстах одна и та же грамматическая ошибка. Вот здесь, видишь? Тут надо писать омикрон, а не омегу.
Критий яростно дернул бровью.
– Не задерживай меня! Мне некогда. Стало быть, тебе известен закон?
– Да. Только не понимаю, при чем тут я?
Критий бросил на него гневный взгляд.
– Не прикидывайся дураком, великий философ!
– Ну, если ты прикидываешься деспотом, великий услужающий...
– Что? Кто услужающий – я? – обиделся было Критий, но поспешил обойти щекотливое место и резко заговорил: – Нам известно, что ты общаешься с молодежью и обучаешь ее искусству риторики!
Сократ встал и как бы нечаянно подошел к проему в стене, чтоб его слышали и на улице:
– Восхищаюсь твоим всеведением. Ты меня поражаешь. Когда ты ходил у меня в учениках – всеведением не отличался. Видимо, источник его – тайный; на возвышенных местах нередко бывает много тайного. Ведь и Олимп окутан облаками, чтоб даже Гелиос не видел, что там творится. Но к делу. Ты сказал, тебе некогда, и я думаю, у тебя действительно мало времени...
– Что ты имеешь в виду?
– Понимай как хочешь. Так вот, насчет обучения. Ты ошибаешься.
– Нет. Мы знаем – ты обучаешь. Я сам знаком с твоей тэхнэ маевтике и с тем, сколько коварства за ней скрывается.
– Ах да, прекрасная философия, помогающая человеку родить мысль. Но, насколько я понимаю, вам тут не нравится мысль, что афинский народ может рождать мысли...
Снаружи раздался взрыв хохота.
– Сядь сюда! – повелительно крикнул Критий, указав на сиденье, и задернул тяжелый занавес в проеме. Затем он раскрыл ладонь перед носом Сократа и сжал ее в кулак. – Раз уж ты так любишь порождать в людях мысли, скажу тебе, какую мысль ты породил во мне, в правителе, понял, повивальная бабка?! Я издаю новый приказ: Сократу запрещается вообще разговаривать с молодежью!
– О, это удивительный запрет. Издавался ли где-нибудь когда-нибудь подобный?
– Не послушаешь – берегись, Сократ, я все еще щажу тебя! – Даже через тяжелый занавес слышен был ропот толпы. – Я щажу тебя потому, что ты был моим учителем, но, если ты не повинуешься, тебя ждет палач...
На площади раздались нетерпеливые крики:
– Сократ! Что с Сократом? Сейчас же отпустите Сократа!
Критий побледнел.
Заметив это, Сократ проговорил успокаивающим тоном:
– Не бойся, мой дорогой, я тебе помогу.
Он встал, подошел к проему своей утиной, переваливающейся походкой и отдернул занавес. Его встретили ликующими кликами. Сократ поднял руку, прося тишины.
– Вот он я, милые мои друзья! Мне здесь очень хорошо. Высокопосаженный принял меня как гостя и только что посулил мне государственные почести...
– Прекрати! – крикнул Критий.
Сократ, отойдя от проема, спросил:
– До какого возраста запрещаешь ты молодежи разговаривать со мной?
– До тридцати лет.
– Клянусь шеей лебедя Леды, цифра тридцать как-то особенно вам по душе! Впрочем, теперь уже – двадцать девять. Это много. Нельзя ли скостить десяток?
– Хватит с меня твоих шуточек! – рявкнул тиран.
Но Сократ продолжал расспрашивать:
– А как быть с продавцом оливок на рынке, если ему меньше тридцати? Случится, к примеру, что я не смогу ему сразу уплатить – ты ведь знаешь, цены скачут вверх с каждым днем, – а говорить с ним мне нельзя, я не смогу сказать ему, что остаток отдам завтра, уйду, а он пошлет за мной скифа, как за вором... Ты, конечно, согласишься, что это не подобает Сократу...
– Глупости выдумываешь!
– Вовсе нет. Сунься-ка нынче на рынок без денег! Горсти гороха в долг не дадут. Или если, скажем, встретится мне юноша, спросит: скажи, гражданин, как найти мне прославленного Крития? Мне и ему нельзя ответить?