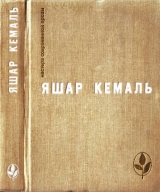
Текст книги "Легенда Горы. Если убить змею. Разбойник. Рассказы. Очерки"
Автор книги: Яшар Кемаль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц)
– Стало быть, Ахмед жив, – сказал Махмуд-хан в своем дворце. – Гора почему-то его пощадила.
– Ахмед – горец, свой человек для Горы, – отозвался Исмаил-ага.
– Нет-нет, причина не в этом. Тут кроется что-то непонятное.
Утром – весь в поту – прискакал Ахмед. Хотел было войти в крепость, но толпа его не пустила – отвела в кузню Хюсо. Ахмед поцеловал ему руку.
– Тебя спасли святые. Да помогают они тебе и впредь! – сказал кузнец и благословил его, осыпав с ног до головы искрами.
Тут же, в углу, стояла Гюльбахар. Ахмед даже не взглянул в ее сторону. Дочь паши была очень огорчена и раздосадована. Почему он не подойдет к ней, не скажет что-нибудь приветливое? Разлюбил ее? Зачем же тогда рисковал жизнью, разжег костер на вершине Горы? Гюльбахар начинала догадываться о причине его охлаждения. Нежность в ее сердце уступала место обиде.
Выйдя следом за Ахмедом, она сказала:
– Ну что ж, пошли.
– Пошли, – откликнулся Ахмед.
Во дворец они даже не заглянули. Празднества в их честь не видели. Руку Караванному Шейху не поцеловали. Сели на коней и ускакали.
Есть на склоне Горы озерцо. Невелико оно, не больше тока молотильного. Цветом голубое-голубое. Каждый год, когда начинается победное шествие весны, здесь – в предрассветный час – собираются все чобаны. Расстилают свои бурки на обломках багряных скал, на медноцветной земле, садятся на землю древней любви, играют мелодию «Гнев Горы». Вечером прилетает белая птица, окунает крыло в озерную синь – и скрывается. Затем к озеру приближается тень огромного коня. И тут же тает. И тогда чобаны прячут кавалы за кушаки и расходятся.
Ахмед и Гюльбахар остановили коней около пещеры над Кюп-гёлем. Вверху и внизу раскинулось много шатров. Из-под их пологов струился слабый свет. Воздух был напоен резким дурманящим запахом – запахом осени. Казалось, будто это гниют яблоки. Глухо и невнятно шептались сухие травы и привядшие цветы.
Ахмед и Гюльбахар привязали коней к большому кусту. Ахмед достал кресало и высек огонь. Гюльбахар принесла несколько охапок валежника. Они разожгли костер и сели друг против друга. Ахмед достал из своей торбы хлеб и головку зеленого, приятно пахнущего сыра. Ели они молча, потупив глаза.
Когда костер начинал гаснуть, Гюльбахар приносила еще хворосту. Дым ел глаза, но они не обращали на это никакого внимания.
Из дальней долины слышался грозный гул. Это было эхо обвалов. Во все времена года с Горы срываются снежные или ледяные глыбы – и долины громким эхом откликаются на грохот их падения.
Гюльбахар сидела, уткнув подбородок в колени, испуганная и печальная. Вся подобралась, съежилась. Налетела буря, потянуло ледяным холодом. Затем немного потеплело.
Было уже за полночь, а они все сидели друг против друга, глаза – на костер, и ни слова.
Все глубже и глубже пускал корни гнев в сердце Гюльбахар. Наконец не выдержала она, взорвалась:
– Говори же, Ахмед! Какую обиду ты затаил на меня? Говори же!
Ахмед широко открыл глаза от удивления. Он как будто неожиданно увидел старую знакомую, с которой много лет не встречался, – такое у него было выражение лица.
Что ему ответить, он так и не знал. Но ответить было надо. Каждое слово Гюльбахар обжигало как пламя.
Ахмед устремил пристальный взгляд на ее лицо и заговорил, с трудом подбирая слова, медленно и невнятно, как умирающий:
– Какой ценой ты спасла меня, Гюльбахар? Чего потребовал от тебя Мемо? Ведь он же знал – не мог не знать, что мое освобождение будет стоить ему жизни. И все-таки отпустил меня! Почему? Отвечай, Гюльбахар!
– Конечно же, он знал, – помолчав, сказала Гюльбахар. – Нигде в мире не прощают тюремщиков, отпускающих узников на волю. Это преступление карается смертной казнью. И ни один народ не укроет того, кто его совершил. Все это знал Мемо. Вот почему он бился до конца, вот почему бросился в пропасть.
– Ты посулила ему много золота?
– Нет.
– Обещала подарить роскошный дворец?
– Нет.
– Чем же ты подкупила его? Почему он отдал жизнь ради моего спасения?
– Он ничего не требовал от меня. Ничего.
– Освободил меня просто так – за красивые глаза?
– Я предложила ему все, чего он захочет. Он ничего не захотел.
– Ты предложила ему все, чего он захочет?
– Да. Но он ничего не захотел.
Воцарилось безмолвие. Огонь медленно гас. Гюльбахар поняла, что все кончено, Ахмед не простит ее. И ничто не сможет рассеять его подозрения.
Ахмед вытащил чепрак из-под седла и расстелил его посреди пещеры. Бросил под голову охапку пахучего вереска, положил рядом обнаженный меч – при свете костра сталь метала алые искры – и лег, укрывшись чепраком.
Гюльбахар принесла еще охапку сушняка. Подбросила в костер. Высоко взметнулось пламя. Снова и снова всматривалась она в лицо Ахмеда – с восхищением, с обожанием, – никак не могла налюбоваться. Все сильнее терзала ее любовь. И все сильнее становилось отчаяние. «Все кончено, все кончено», – мысленно повторяла она. Боль тупым ножом резала ей сердце. И она не знала, что делать, куда пойти, у кого попросить приюта. И все сильнее терзала ее любовь. Это ли не настоящая любовь?! Неужто было бы лучше, если б он умер на плахе… А Мемо?..
Гюльбахар, спотыкаясь, вышла из пещеры. Звезды, кружась, падали на склоны Горы и тотчас же взмывали ввысь. Гора то поднималась, то опускалась, а то начинала кружиться вместе со звездами – в одном хороводе. И вдруг она с ужасающим грохотом опрокинулась.
Набрав еще немного хворосту, Гюльбахар вернулась в пещеру. Долго смотрела на Ахмеда. Все красивее становилось его лицо, и она явственно читала на нем прежнюю любовь.
Спит ли он? Погружен ли в мечты? Или же просто измучен до последней крайности? Гюльбахар задыхалась.
Все краше и краше становилось лицо Ахмеда. И все краснее языки пламени.
И вдруг мир закружился вокруг нее. С оглушительными стонами закачались скалы. Заметались звезды. Все вокруг, казалось, было охвачено безумием. Уж не начинается ли светопреставление? – испугалась Гюльбахар. И тут же наступила полная тьма, только лицо Ахмеда сияло с прежней яркостью.
Гюльбахар выхватила кинжал и стала яростно разить им куда попало. Разила и разила, пока не устала рука…
Когда она открыла глаза, уже светало. Теплый ветер разносил острые запахи. На камнях перед собой она увидела Ахмеда. И бросилась к нему с криком:
– Ахмед! Ахмед! Не покидай меня, Ахмед!
Вся Гора ответила на ее зов. Задрожала, затрепетала до самых глубин своих подземных. Рухнули, покатились снежные лавины.
Бежит что есть мочи Гюльбахар – Ахмед от нее удаляется. Станет – все равно удаляется Ахмед. И вот уже перед ними Кюп-гёль. И тут Ахмед исчез – как провалился. Села Гюльбахар на медноцветную землю, обхватила голову руками и смотрит на озеро – голубое-голубое.
Иногда в воде мелькает Ахмед, и тогда, широко разведя руки, Гюльбахар кидается к нему, кричит: «Ахмед! Ахмед!» Вся Гора откликается на ее зов. «Ахмед! Ахмед! – рыдает Гюльбахар. – Будь ты на моем месте, и ты поступил бы точно так же! Хватит тебе прятаться – вернись ко мне!»
Вскипает озерцо. Исчезает Ахмед. Нет и Гюльбахар. Белая птица окунает крыло в озерную синь. А затем над водой проносится черная тень исполинского коня.
Каждый год, с наступлением весны, когда все кругом начинает цвести и петь, на берегах Кюп-гёля собираются чобаны со всей Горы. Они расстилают свои бурки на медноцветной земле, усаживаются на землю древней любви и, как только забрезжит утренняя заря, начинают играть «Гнев Горы». А на закате белая птица…
Если убить змею
Yilani ÖLdürseler
İstanbul, 1976
Перевод T. Меликова и M. Пастер

Когда начались описываемые события, Хасану было лет шесть или семь.
Над утесами Анаварзы кругами ходят орлы. Нежно-белыми лепестками тянутся к солнцу асфодели. Издалека ползут ленивые облака; длинными языками теней они облизывают болото, потом надвигаются на Домлу. В сердцевинах цветков копошатся пчелы – желто-черные, медоносные, искристые с голубинкой, словно бисерные. А из-за камней, ощетинившись, выглядывают голубоватые артишоки.
Хасан носится по скалам совсем как горная куропатка. Справа пропасть, глянешь вниз – голова кругом идет. Там, на каменистых уступах, – орлиные гнезда. Хасан добрался до них, но не обнаружил ни яиц, ни орлят. Завидев его, орлы улетают, взвихривая воздух, почти касаясь крылами отвесных, как стены, скал. Весеннее солнце согревает камни. Между ними пробивается голубой молочай, и золотистый шафран, и красный клевер. Близится время цветения тимьяна; его тяжелый, почти осязаемый аромат вяло струится в насыщенном солнцем воздухе.
Остается последняя надежда на гнездо глубоко в расщелине. До него труднее всего добраться. Как-то случилось, потерял Хасан опору под ногами и долго висел над пропастью, ухватившись за ветку дикого инжира. Чудом выбрался. С тех пор не рискует туда спускаться. Если бы ветка тогда обломилась – все, конец… Глубина обрыва такая, что хоть десять минаретов взгромозди один на другой – все мало будет.
Удивительный запах наполняет округу. Кажется, сами скалы источают этот терпкий, дурманящий запах. Хасан убежден: так пахнут только скалы Анаварзы. Пчелы, ящерицы, куропатки и их гнезда, орлята, гремучие змеи и рогатые гадюки – все пропиталось этим неистребимым запахом гор. Даже люди, что обитают среди анаварзийских скал, насквозь пропитаны их ароматом – солнечным, медвяным и немного хмельным. Даже дождь над Анаварзой пахнет по-особому – влажными скалами. И облако – по-особому…
Хасан часто вспоминает запах гор. И еще – ночь, ту самую ночь, что несла в себе запах пороха. Он ведь совсем по-разному пахнет, порох. На равнине – так, а среди гор, тем более ночью, – совсем по-другому. Тогда пахло ночным порохом. А в отдалении, во тьме, долгим-долгим-долгим эхом перекликались пули: вжи-вжи-вжи… Вжиииииив, откликалась темнота.
Вот она какова – Анаварза. Посвист пуль, и эхо, и запах. И еще громадные хищные птицы, что ходят кругами в синеве. Разве такое забудешь? Нет страшней воспоминания, чем ночное пение пуль и парение орлов по утрам.
В то утро Хасан в поле не пошел. Уже было знойно. Все деревенские на работе, только Хасан остался. До чего же тоскливо на сердце! И главное, понятия не имеешь, чем бы себя занять. На мать Хасан не смотрит. Было ему тогда девять лет. «Что может понимать мальчишка!» – говорили все. А он с ума сходил, если случалось ранним утром остаться наедине с матерью.
Еще до восхода мать приносила ему первый комок масла из маслобойки – нежного-пренежного, унизанного капельками айрана. Он мазал его на горячий хлеб из тандыра[6]6
Тандыр – вырытый в земле очаг.
[Закрыть] и забирался подальше в сад. Там усаживался под деревом и ел. На мать он давно уже старался не смотреть, ни на лицо ее, ни на походку.
Каждое утро одно и то же: не знает Хасан, чем заняться. До одурения бродит по опустевшей деревне. Когда Хасану исполнилось семь, ему подарили ружье, отделанное перламутром. И не осталось с тех пор твари живой, в которую он не прицелился бы и не выстрелил, будь то коза, орел, шакал, куропатка, воробьишка или человек. Да-да, в людей тоже метил Хасан.
Было у него трое дядьев, и ни один слова поперек мальчишке не скажет. Все они, деревенские, родня друг другу. Деревушка-то крошечная. Совсем недавно осели здесь, а до того – кочевали. Не успели еще толком обжиться на новом месте. Когда отцу Хасана тоже было девять лет, он с братьями пас овечьи гурты на склонах Бинбога́. Все в их роду пастухи. И жили они тогда в черных шатрах на семи подпорках. До сих пор любят прихвастнуть, что жили не в простых юртах, а в шатрах на семи шестах.
Сидя под гранатовым кустом, Хасан дожевал хлеб с маслом. Вот он и сыт. Взял было ружье в руки, но тут же положил на место. В свете зарождающегося дня то угасал, то вспыхивал перламутр на ложе. Долго сидел не шевелясь – руки бессильно брошены вдоль тела, голова – на правом плече. Сидит и глаз не сводит с ружья, с играющего узорами ложа.
А мать все хлопочет во дворе. Такой красавицы еще свет не видывал. И юная совсем. Как девочка. Отец, тот был почти старик – голова белая и борода в седине. Хасан отлично помнит своего отца. А у матери волосы длиннющие, ниже пояса. Все так прямо и говорят: не то что в Чукурове, во всем мире нет женщины красивей. Во всей их огромной Чукурове нет парня, который бы не мечтал о его матери. Но от нее всем отказ. Не может она разлучиться с единственным своим сыночком, с Хасаном. Решись она выйти замуж, сына пришлось бы оставить здесь, у мужниной родни. Дядья не позволят ей взять его с собой. Ни за что не позволят. Так что выбора у нее нет.
Как всегда в эту пору, воды в Джейхан-реке поубавилось. Но она вся лучится живым серебром. В горном ущелье Хасан отлавливает птиц пастушков. С утра до вечера, с вечера до утра не устает подстерегать их у норок. Разжился где-то тонкой сетью в мелкую ячею. Смастерил силки и наловчился прилаживать их. Выпархивая из своих похожих на змеиные норы гнезд, пастушки запутываются в силках. Хасан сажает их в долбленые тыквы. Потом вынимает и подолгу вглядывается в их удивительную голубизну. Никогда не видывал таких странных птиц, думает он. Чем дольше всматриваешься в их голубизну, тем больше она ширится, заполняет собою все вокруг и внутри, и душа от этого становится голубого цвета и разрастается, пьянея.
Ласточку поймать невозможно. Это знает любой в деревне. Одному только Хасану удастся. Уж как он умудряется – никто не понимает, а только что ни день – отлавливает пяток-другой ласточек. Привязывает к ним бечеву и пускает в небо. Ласточки кружатся, кружатся. Вечером отвязывает бечевку, а порой и прямо так, с нею, отпускает птиц на волю.
В одной из пещер Анаварзы Хасан выкармливает орлят. Из дому он выходит спозаранку, а возвращается после заката, когда ничего уже не видно и вся округа замирает. Он неразлучен со своим перламутровым ружьем. Для пчел, змей, птиц и прочей мелкой живности, что водится по склонам окрестных гор, Хасан – сущее бедствие.
Больше всего мальчишке хочется убежать из родной деревни. Раза два уже пытался: по другому берегу реки до отдаленных деревень доходил, но в конце концов поворачивал обратно – из страха, наверное. А однажды добрался почти до самого Фарсага, что близ горы Козан, – увязался за приятелем пастухом. Но и в тот раз вернулся.
Не знает Хасан, что ему предпринять. Одно только яснее ясного: нельзя ему оставаться в деревне. Или он, или мать должны отсюда уйти. Конечно, лучше, чтобы мать. Слишком много врагов окружает ее здесь. Невыносимо человеку жить среди такой вражды, задыхается он, погибает. И сам Хасан невольно заражается общей ненавистью. Бабушка, тетки, дядья, их жены, вся родня – никто не разговаривает с матерью. Почему же она не уходит! Ведь она такая красивая, красивей в целом свете не сыскать. Конечно, Хасану льстит, что ради него одного мать остается тут. Его чувства к ней самые противоречивые. Он знает, что один из отцовых братьев, средний, тоже не прочь взять ее в жены. Но и ему мать отказала…
Тревожно на душе мальчика. Только потому и занялся птицами да букашками. Ах, найти бы в этом мире душу живую, с которой можно было бы поделиться, деревцо такое, на которое можно было бы опереться. Но нет, никогда, никому не расскажет он о своих переживаниях. Хоть убейте – не расскажет. Живет в вечной осаде, головой бьется о стену, что его окружает, но она не поддается.
Лучше уж уходить в горы – к птицам, пчелам, орлам, змеям. Ни один мальчишка не хочет с ним водиться, да и сам он избегает их. Правда, есть один – Салих. Молчаливый, неразговорчивый. И слава богу! У каждого человека должен быть хоть один молчаливый друг. Чтобы можно было говорить, говорить с ним обо всем. А он только слушал бы, не уставая, не скучая.
Хасан изнывает от желания забыться, раствориться, исчезнуть в лазоревости пастушков, в орлах, парящих в небе, в скольжении тугих змеиных колец среди камней. И – в Салихе.
Какой-то шорох, непонятный шум донесся извне. Отец насторожился. Рука с ложкой застыла на полпути. Он бросил быстрый взгляд на мать. Та опустила голову. Хасан следил за ними обоими. Но вот рука отца ожила, поднесла ложку ко рту. Шум становился все отчетливей, И вдруг воцарилась тишина. Был поздний вечер. Семья – отец, мать и он, Хасан, – собралась вокруг расстеленной на полу скатерти, уставленной едою: тарханой[7]7
Тархана – суп, приготовляемый из простокваши и муки.
[Закрыть], жареной курятиной, пловом из пшеничной крупы. Запах того плова, жирного, лоснящегося, Хасан до сих пор не может забыть.
За окном сверкнул огонек и мгновенно исчез, опять сверкнул. Голоса пуль зазвучали значительно позже – так впоследствии казалось Хасану. Пули наполнили дом своими взвизгиваниями. Мать, отца, стол – все заволокло дымом. Отец застонал и – подавился стоном. Пронзительно вскрикнула мать. Неожиданно все смолкло, дым рассеялся, лишь где-то вдали все еще отскакивало от скал тонкое эхо: вжи-вжи-вжи. В домах по соседству послышался шум. И тут Хасан увидел кровь. Отец повалился головой на скатерть, в волосах запутались комочки плова. И кровь, очень много крови, хлестала из отцовой головы.
Какой-то человек ввалился в дом. Каков он был, Хасан не помнит. Только врезались в память черные, широко раскрытые в удивлении глаза. Он схватил мать за руку и поволок к двери. Хасан с места двинуться не мог, не мог отвести взгляд от пульсирующей струйки крови, что била и била из виска отца.
Потом дом заполнили мужчины и женщины. Все плакали и кричали. По тому, как причитала бабушка, Хасан понял, что отец мертв. И еще понял, что в случившемся повинна мать. До утра он просидел забившись в угол. Совсем не спал в ту ночь. Впервые в жизни не спал – изведал вкус бессонницы. Люди приходили и уходили, иные вбегали, крича и рыдая. Все смешалось – причитания людей и отдаленные выстрелы.
Едва посветлело небо на востоке, как на деревенскую площадь приволокли того черноглазого и бросили в пыль. В его мертвых глазах навеки застыло удивление. Хасан знал этого человека. Аббас его имя. Родом он из той же деревни, что и мать. Порой он приходил к ним в гости и непременно приносил замечательные подарки. А сейчас валяется посреди площади, весь в крови, облепленный жирными зелеными мухами. Таких мух прежде не видел Хасан нигде. Они впивались хоботками в раны убитого – так острое лезвие ножа вонзается в тело. А мальчик всегда боялся ножей. Стоит взглянуть на голубоватое лезвие, и тошнота подкатывает к горлу.
Мать привели на площадь. Дядья зверски били ее. Из распахнутых глаз рвался беззвучный крик, белое головное покрывало, волосы, щеки, лоб – все в крови. Женщины, мужчины, дети – каждый норовил ударить побольней, плевком попасть в лицо. Мгновенье-другое смотрел мальчик и, сам не знает, как это случилось, бросился на обидчиков. Вцепился зубами в занесенную для удара руку. Потом ему сказали, что он прокусил до кости дядину руку. С чужих слов узнал он и о том, как накидывался на людей, как бил тех, кто посмел поднять руку на мать, как плевал в тех, кто смел плюнуть в ее лицо. Старший дядя отшвырнул мальчика пинком ноги. И этого Хасан не помнил. Съежившаяся от боли и страха мать вдруг распрямилась и стрелой метнулась к сыну. «Не смейте трогать его!» – крикнула она. То были первые ее слова за всю минувшую ночь. Затем обернулась к притихшей толпе: «Не я убила Халиля. Не я повинна в смерти вашего брата. – И ткнула пальцем в сторону мертвеца: – Это он виноват, и он уже наказан». Медленно придвинулась она к мертвому, долго смотрела в его открытые черные глаза. Слабый стон вырвался из ее груди: «Эйвах, Аббас, не знала я, что ты такой…» И, ни на кого не глядя, побрела к дому.
Несколько домов в деревне охватил огонь. Они пылали так ярко, что ночь обратилась в день. Отсветы пламени плясали даже на далеких скалах Анаварзы.
Явились жандармы. Постукивая сапогом о сапог, офицер отдавал распоряжения. С ними был и доктор с глазами-ледяшками. В тени тутового дерева он надел белый халат. И там же под тутовым деревом раздели Аббаса, положили в каменное корыто, в которое собирали воду, и доктор раскромсал труп – словно расправился с бараньей тушей. Потом большой иголкой, вроде тех, какими сшивают мешки, зашил его. Хасана чуть не стошнило.
А дядька вцепился в мать и потащил ее к трупу. Она что было мочи упиралась.
– Иди-иди, потаскуха! – вопил он. – Полюбуйся на того, чьими руками ты убила моего брата! Посмотри, подлюка, на своего полюбовничка.
Жандармы и офицер не шевелясь смотрели на мать. Она молчала, только упиралась.
Отца похоронили под заупокойные плачи и песни. Бабушка не вынесла горя, слегла. Вконец обессиленная, она призвала троих своих сыновей и так сказала:
– Не кяфир Аббас наш смертный враг. Не он, а Эсме. Это она, гадина, убила сына моего Халиля. Мне, должно быть, уже не встать с постели. Вы должны отомстить за брата. Не сделаете этого – не знать вам моего благословения ни на этом, ни на том свете.
Мы познакомились с Хасаном в тюрьме. Привели его ночью. Разом сбежались все заключенные. Говорят ему слова добрые, а он молчит. Кто-то предложил воды, кто-то миску похлебки. Ни к чему не прикоснулся Хасан. Молчит – и только. На него все глазеют, а он вдруг уронил голову на грудь и уснул – сидя.
После всего случившегося Хасан убежал из деревни. Прятался в горах, в расщелинах Анаварзы. Три дня и три ночи его искали, всей деревней искали, но так и не нашли. Тогда по следу пустили его собаку, она и привела к одной из древнеримских гробниц. Хасан забрался в эту каменную гробницу и попытался закрыть за собой крышку. Три дня и три ночи прятался он, беззвучный и недвижимый. Только собака и смогла его разыскать.
Жандарм залепил ему оплеуху. В глазах односельчан он видел страх. Когда его везли через деревню, все – стар и млад – высыпали на улицу, и взгляды у них были настороженно-недоуменные – так смотрят на опасного диковинного зверя.
Да и в тюрьме смотрели точно так же. С первого дня заключения ни с кем ни словом не перемолвился он. А ведь поначалу многие лезли к нему с разговорами да советами, но Хасан сторонился всех.
Не скоро стал он принимать пищу. На исхудалом лице глаза казались огромными, уши – слишком большими, шея – чересчур длинной. И весь он походил на обтянутый кожей скелет. Одежда болталась на нем. Ни у кого ничего не просил он, никому ничего не рассказывал. На маленькой жаровне отдельно от всех варил себе суп и ел, отвернувшись к стенке, зажав в кулаке большущий ломоть хлеба. Почти каждый день его навещал кто-нибудь из односельчан. С ними он тоже не разговаривал, только, пригнув голову, внимательно вслушивался в их слова. Я несколько раз пытался заговорить с ним. И всякий раз повторялось одно и то же: сначала он смотрел мне в лицо вроде бы с интересом, потом, понурившись, отворачивался, отходил в сторону.
Тюрьму наводняли самые разнообразные слухи о нем, порой совершенно невероятные. Каждый, кто узнавал что-нибудь новенькое, спешил поделиться вестями с остальными, стараясь, чтобы и Хасан его слышал. Любые небылицы о себе Хасан выслушивал с каменным лицом, только ресницы его порой слегка дрожали, и нельзя было понять, о чем он думает. Взгляд прикован к земле, губы плотно сжаты. Из-за больших ушей голова его напоминала парусное суденышко. Изжелта-серый цвет лица изредка менялся в оттенках.
Чем больше избегал он общения с арестантами, тем больший интерес проявляли они к нему. Правда, старались быть неназойливыми, в немалой степени тому способствовали слухи о Хасане, а также строгое, неприступное выражение его лица и манера держаться.
Даже самые отчаянные, самые подлые среди арестантов, если случалось обращаться к Хасану, всячески подчеркивали свое почтение. Иногда все же кое-кто задевал его. Чаще всего – этот грязный тип Лютфи. В таких случаях самообладание не покидало Хасана, он упирал свой тяжелый взгляд прямо в глаза наглецу и не отводил до тех пор, пока тот не начинал путаться в словах и не умолкал.
Лютфи изощрялся больше других. Трудно представить себе человечишку более бесстыдного, начисто лишенного добрых чувств, благородства. Он лебезил и заискивал перед каждым, кого считал сильнее себя. Но стоило ему убедиться в чьей-либо слабости, как он тут же затевал драку.
Я наблюдал за тем, как развивались взаимоотношения Хасана и Лютфи. Ужасно хотелось узнать, как поведет себя Хасан. Несколько раз цеплялся к нему Лютфи, позволяя себе самые возмутительные выходки. Но Хасан словно не замечал его, стоял опустив глаза и думая о чем-то своем.
– Шушваль ты эдакая! Ублюдок, недоносок, убийца поганый… Любому здесь известно, что мать тебя нагуляла! Чего же можно ожидать от ублюдка?! Какой прок от тебя, недоноска? Укокошат тебя, пригульного, так и знай! Позорище-то какое, стыдоба-то какая, что ты еще топчешь землю, подонок, весь в крови замаранный!.. Сукин сын! Свиные уши! Вонючка… Боюсь только, что мне срок накинут, а то порешил бы тебя сам, своими руками. Выпустил бы кишки из тебя вон, глотку вспорол бы, буркалы выколол. Кончил бы тебя, а кости – собакам, через забор! Пусть жрут, радуются… Дерьмо собачье! Дерьмо собачье… Смотрите-ка, ребята, как он форсит. Мол, я не какой-нибудь воришка, а убийца! Ах ты, сын потаскухи! Чтоб ты подох!
Беленится Лютфи, слюной брызгает, как припадочный какой. Арестанты обступили их, оторопело слушают брань непотребную. Наконец терпение Хасана лопнуло, он резко повернулся, собираясь уйти. Не тут-то было. Лютфи заступил ему путь и снова давай лаяться. Хасан молчит, слушает, а сам потом обливается. Долго так продолжалось, пока наконец парень не глянул в глаза Лютфи – и в тот же миг молниеносным движением выхватил из кармана складной нож на пружине.
Чудом увернулся Лютфи, ловкий, гад, ничего не скажешь, – и наутек. Хасан – за ним, а нож не выпускает. Носится Лютфи по всему тюремному двору, а Хасан – следом. Не помню точно, сколько длилась погоня, в общем, долго. Лютфи орет во все горло, пощады просит, а Хасан за ним – и ни звука. Несколько раз едва не настиг обидчика, несколько раз полоснул по спине Лютфи, но не причинил ему никакого вреда, только заплатанный пиджачишко порезал. Во все горло орет Лютфи: «Спасите! Спасите!», умоляет парня не убивать его. Наконец ворвался в какую-то камеру и захлопнул за собой дверь. Как только оказался в безопасности, снова за свое: осыпает Хасана грязной руганью, будто не он только что умолял, унижался. Хасан немного потоптался перед запертой дверью, потом медленно побрел в самый дальний угол тюремного двора и там, у самой стенки, присел на корточки. Нож все еще зажат в руке, а в глазах ярость.
С того дня Лютфи и близко не подходил к Хасану.
Но вскоре так случилось, что коноводы уголовников начали науськивать Лютфи на меня. Прежде-то он пресмыкался передо мной. И вот подходит он ко мне, вроде бы с просьбой какой-то, так мне показалось сначала.
– Слушаю тебя, Лютфи, – сказал я и предложил ему сигарету.
– Принять от тебя сигарету может только такой же ублюдок, как ты сам, – вдруг выпалил он.
Я опешил. Вокруг нас притихли: ожидали, что, как только пройдет мое замешательство, я вздрючу Лютфи как следует. Будет на что поглазеть! И тут вдруг Хасан метнулся в нашу сторону.
– Стой, ага! – крикнул он. – Я уж тысячу раз жалел, что связался в тот раз с этой паршивой собакой. И тебе не след! Не обращай внимания на эту тварь.
Так Хасан впервые заговорил.
С этого началась наша дружба. Точно не помню, сколько месяцев провели мы в одной тюрьме. Все это время Хасан ни с кем, кроме меня, не говорил. Он неплохо относился к своему тезке Хасану по кличке Джамусчу[8]8
Джамусчу – погонщик буйволов.
[Закрыть]. Этот самый Хасан Джамусчу сидел уже давно. Он умел предсказывать судьбу. Хасану он тоже гадал. Свои предсказания передавал через меня. По лицу Хасана никак нельзя было угадать, доволен он или нет этими предсказаниями, но только к Джамусчу он относился с симпатией. Даже имя его произносил с какой-то особой теплотой.
Обычно мы с ним держались особняком: Хасан рассказывал, я слушал. И всегда он бывал настороже: не посмеиваюсь ли я над ним, не чувствую ли к нему презрение. Как напряженно следил он за каждым моим движением! Но я не испытывал ничего подобного, прекрасно понимал, что у него на душе. От природы Хасан был словоохотлив, но со временем приучил себя к молчанию. Поистине великим молчальником стал. Но когда ему встречался человек, способный его понять, он говорил без умолку.
Хасан никогда ничего не боялся. Смерть представлялась ему желанной, как райский сад. У него почему-то не отобрали складного ножа. Не всякий решался подойти к такому отчаянному смельчаку, как Хасан, – не каждый жандарм, разбойник или убийца, если даже они были далеко не из трусливого десятка. Да что там, Хасан – человек не простой. Он заглядывал в глаза самой смерти, жил, можно сказать, в ее владениях, столько всего перенес, что другим и не снилось. Рядом с ним могли встать только такие же, как он: повидавшие изнанку жизни – смерть.
Благодаря дружескому расположению Хасана ко мне никто больше не приставал. А если все же кто-нибудь и осмеливался, то в ту же минуту ловил на себе угрожающий взгляд моего друга и, смешавшись, спешил отойти подальше. Если бы Хасан только пожелал, он, несмотря на свою тщедушность, мог бы стать «хозяином» в этой тюрьме, наполненной самыми отпетыми головорезами.
И после того, как кончился наш срок – а выпустили нас с ним в один день, – я продолжал встречаться с Хасаном. Через месяц поехал к нему в деревню и прогостил две недели. Меня поразило, что и там, среди односельчан, он так же молчалив, как и в тюрьме. Никому слова не скажет – ни бабушке, ни дядьям своим, ни братьям двоюродным, ни прочей родне. Казалось, он дал зарок ни с кем не говорить. «Если б не ты, – признался он, – я, пожалуй, забыл бы человеческую речь».
Мы еще долго с ним дружили, но в конце концов потеряли друг друга из виду.
Траур по отцу длился недолго. Мать занялась хозяйством, как будто случившееся не имело к ней никакого отношения. У отца было много земли и, кроме того, два трактора, небольшой грузовичок, несколько телег с конской упряжью, сеялки. По всей Чукурове на много дёнюмов[9]9
Дёнюм – мера площади, равная 319 м2.
[Закрыть] раскинулись его хлопковые, кунжутные, рисовые, пшеничные угодья. После убийства мужа Эсме сама стала вести все это большое хозяйство. И великолепно справлялась. Она была обучена и письму, и счету: у себя в деревне окончила начальную школу. Сразу же взяла все в свои руки и недвусмысленно дала понять, что ни в чьей помощи не нуждается. Не нуждается и не будет нуждаться впредь.
Несколько месяцев спустя бабушка призвала к себе Хасана:
– Иди сюда, несчастный ты мой сиротинушка.
Она привлекла его к себе и, обливаясь слезами, запричитала. Голос у нее был низкий, томный. Наконец она успокоилась и протянула внуку пару сверкающих башмаков, которые в то утро привез из Козана Мустафа – младший из дядьев. Он больше всех был привязан к Халилю и к своему маленькому племяннику. Следом за башмаками бабка вытащила из пестрого бумажного пакета новую одежду. Очень уж хотелось ей полюбоваться внуком в обновах. Хасан тут же переоделся.





