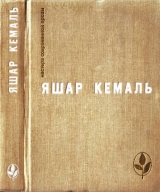
Текст книги "Легенда Горы. Если убить змею. Разбойник. Рассказы. Очерки"
Автор книги: Яшар Кемаль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 33 страниц)
Белые брюки
Перевод А. Ибрагимова
Ну и жарища! Мустафа взмок от пота. Рваный башмак, с которым он возился, так и остался недошитым. Бог весть о чем размечтался парнишка. А снаружи солнце во всю мочь палит разбитую мостовую уездного городишка. В густой тени старого инжира с мясистой листвой, у грязного дувала, вывалив длиннющий язык, дремлет собака. Мустафа безучастно из-под отяжелевших век уставился на дрыхнущего пса. И такое равнодушие охватило парнишку, что вот-вот башмак из рук выпадет. Но краешком глаза Мустафа нет-нет да и покосится на мастера: не заметил бы, что он бездельничает. Но тот, как всегда, погружен в работу.
Мустафа надевает башмак на сапожную лапу, кое-как вколачивает гвоздь и принимается за рваный задник. Но на душе так тошно, что все валится из рук.
С тех пор как он начал сапожничать, впервые приходится ему возиться с этакой рванью. Живого места нет, сплошные дыры. Ума не приложит парень, с какой стороны приняться за дело. Наконец он не выдерживает:
– Не справиться мне, хозяин, с этими башмаками.
Мастер поднял голову и смотрит на ученика так, словно видит его впервые.
– Как это – не справиться? – говорит. – Ты мне эти разговоры брось!
– Не получается у меня, хозяин. Расползается все.
– А ты постарайся. Должно получиться.
До самого вечера провозился парень с парой стоптанных башмаков. Шил, порол, опять шил, опять порол. Так ничего и не вышло. Только употел весь.
Густая тень инжира протянулась прямо на восток. Солнце с ленцой ползло по западному склону холма. В этот час в мастерскую заглянул приятель сапожника – богач Хасан-бей. В знак приветствия перекинулся с сапожником парой шуток и деловито ощупал взглядом парнишку, занятого работой. Потом обратился к мастеру:
– Не уступишь ли мне его на три дня? Пусть поработает у печи для обжига кирпича.
– Будешь работать, Мустафа? – спросил хозяин. – Хасан-амджа[39]39
Амджа – дядюшка, почтительное обращение.
[Закрыть] печь для кирпича сложил.
– На трое суток, – уточнил Хасан-бей. – Плачу поденно – полторы лиры в день. Старшим будет Джумали из махалле[40]40
Махалле – городской квартал.
[Закрыть]Саврун. Человек он хороший, не обидит тебя.
Мустафа рад-радехонек.
– Хорошо, Хасан-амджа. Только вот у мамы отпрошусь.
– Отпросись-отпросись, – снисходительно роняет Хасан-бей. – А завтра приходи в наш сад. После полудня приступишь к работе. Меня там не будет. Сам обо всем договоришься с Джумали.
Сапожник платит Мустафе двадцать пять курушей в неделю. За месяц работы – одна лира. А летние туфли стоят две лиры. Белые брюки – три лиры. Всего – пять лир. Сейчас уже июль. Значит, за июль, август, сентябрь наберется всего три лиры. Не обзавестись ему летними туфлями и белыми брюками!
Спасибо Хасану-бею! Второго такого замечательного человека нет во всем городе. Шутка ли – полторы лиры в день! За три дня – четыре с половиной.
И вот как оно все будет. Сначала он вымоет руки – как следует, с мылом. Потом тихо-о-онечко развернет бумагу и вытащит белоснежные парусиновые туфли. Потом вымоет ноги, тоже с мылом. Носки белые аккуратненько натянет, сунет ноги в белые, хрустящие, новехонькие туфли. А вот брюк даже касаться нельзя. Каждый дурак знает, что белое нельзя хватать руками – сразу запачкается. Точно так же и белые брюки.
А у самого моста гуляют девушки. Ветер раздувает им юбки, прилепляет к ногам белые шароварчики.
Мустафа кинулся к матери:
– Мамулечка! Родненькая! Я с Джумали буду кирпичи обжигать для Хасана-бея.
– Нет!
Мустафа опешил:
– Почему?
– Ты когда-нибудь кирпич обжигал? Знаешь, что это такое? Три дня, три ночи не спать – выдержишь?
– Выдержу!
– Одна я только и знаю, чего стоит добудиться тебя по утрам. Выдержишь, как же!
– По утрам – это другое дело. Мам, ну пожалуйста.
– И не проси.
– Увидишь, я совсем спать не захочу.
– Уснешь как миленький. Не выдержишь.
– Ма-а-ам! Хорошая моя! Вот ведь Сами, сын Тевфика-бея…
– Э-э-э, – тянет раздраженно мать.
Мустафа знает, чем можно донять мать.
– Да, а вот Сами носит брюки белые-пребелые. Как молоко. И туфли на резине…
– Э-э-э…
– Ох, до чего ж красивые! Белые, как молоко. Нет, как снег. А у меня есть шелковый минтан. Думаешь, не подойдет он к белым брюкам? Еще как подойдет!
Мать склонила голову, побледнела.
– Что ж не отвечаешь? – настаивает сын. – Не пойдет мне такой наряд? Ты не бойся, я его не испачкаю… Три дня и три ночи всего придется попотеть! Зато, как только деньги получу, пойду к Вайысу-уста, портному. А у Хаджи Мехмеда куплю белые туфли на резине. Шелковый минтан – в сундуке.
Мать подняла голову. В глазах – непролитые слезы. Медленно приблизилась к сыну.
– Мальчик мой дорогой. Разве я говорю, что не к лицу тебе такая одежда?
– Вайыс-уста – замечательный портной. Шьет прочно и хорошо. Мамочка, родненькая, так можно я пойду?
Мать невольно улыбнулась:
– Делай что хочешь, сынок. Мое дело сторона.
Едва она произнесла эти слова, как Мустафа подпрыгнул чуть не до потолка и колесом прошелся из угла в угол. Бросился к матери, расцеловал ее.
– Мамочка, когда я вырасту…
– Когда ты вырастешь, будешь много-много работать.
– Ну да, а еще?
– Еще разобьешь сад на участке возле речки. Закажешь темно-синий костюм в Адане. Заведешь лошадь. Сядешь верхом…
– А потом?
– Покроешь крышу черепицей, чтобы больше не протекала.
– А потом?
– Станешь как отец.
– А если бы отец был жив?
– Ты пошел бы учиться и стал большим человеком. Если бы только твой отец был жив…
– Послушай, – перебил ее Мустафа. – У меня будут золотые часы, когда я вырасту. Правда ведь?
Мустафа проснулся еще до рассвета и отправился в путь. Из-под его башмаков фонтанчиками взметывалась пыль.
Из-за холма на востоке неудержимо нарастающим селем хлынул влажный солнечный свет. Когда мальчишка добрался до печи, солнце уже, ярко пылая, расселось на вершине холма. Роса высохла.
Мустафа пригнулся, заглянул в распахнутую пасть печи. Там, внутри, темным-темно. Рядом с печью – гора сушняка. До полудня бродил мальчик вокруг. Предвкушение великого счастья – обладания белыми штанами – омрачал только страх перед тремя бессонными ночами.
Ровно в полдень, весь в пыли, заявился Джумали. Здоровенный детина, он всякий раз, прежде чем сделать шаг, словно бы выбирал место, куда поставить ножищу. Невдалеке от печи остановился. При виде этакого великана мальчик вовсе оторопел. Джумали, все так же грузно ступая, приблизился к печному зеву, с трудом наклонился. Лицо у него было злобное, на своего напарника он даже и не взглянул. Долго стоял, согнувшись в три погибели, сунув голову в печь. Потом выпрямился, сделал в сторону мальчика пару шагов и, не глядя ему в лицо, спросил:
– Чего это ты здесь околачиваешься?
– Ничего, – пролепетал в ответ Мустафа.
А внутри так все и зашлось от ужаса: беги, беги, пока не поздно!.. Но он совладал с собой, поднял лицо.
– Нечего тебе тут делать. Катись отсюда.
– Мне Хасан-бей велел прийти. Вам в помощь, дяденька.
Джумали аж подскочил.
– Да он совсем рехнулся, этот Хасан-бей! Доверить обжиг кирпичей заморышу с мою руку ростом! – И, повернувшись к Мустафе, добавил: – Эй ты, недоносок, кирпич-то знаешь как обжигают?
– Знаю.
– Три дня и три ночи, сукин сын…
– Знаю…
– Где ж ты этому научился? У матери в утробе, что ли? Выдержишь три ночи без сна?
Мустафа молчит.
– Вот что я тебе скажу, парень, эта работенка не про тебя. И меня под беду не подводи. Видишь эту топку? Трое суток в ней должен пылать огонь. А тебе придется трое суток, глаз не смыкая, хворост таскать. Два часа я, два часа ты, два часа я… Иди лучше к мамаше своей, а Хасану-бею скажи, что не сможешь работать на обжиге. Пусть вместо тебя кого другого пришлет.
Мустафа потоптался на месте, против воли сделал несколько шагов в сторону касаба. Ноги не слушались его. И тут перед его мысленным взором возникли белоснежные брюки – а, будь что будет, лишь бы иметь это чудо! Облака – белые, белье после стирки – белое, хлопковые кипы – белые. Белизна обступила мальчишку, заполнила все пространство. Горло словно жгутом перехватило от слез. Если б не удержался, так и хлынули бы потоком. Мягким, заискивающим голосом он принялся увещевать верзилу.
– Дяденька Джумали, я умею не хуже любого взрослого работать. И могу не спать сколько угодно. – И добавил, пустившись на отчаянную хитрость: – Хасан-бей все равно отошлет меня обратно, он ведь мне уже отдал деньги. Я купил себе туфли на резине и белые брюки. Дяденька Джумали…
Здоровяк свирипеет:
– У-у-уходи, сопляк! Не навлекай беду на мою голову!
Но и Мустафа начинает сердиться:
– Ты почему не даешь мне на хлеб заработать? Ребенок, говоришь? Я что, меньше других работаю? И деньги я уже получил вперед. Если я сейчас приду к Хасану-бею, он меня все равно обратно пошлет.
– Вот как?
– Да. Он со мной уже расплатился.
– Тогда начнем. Но смотри, если уснешь…
Мустафа подбежал к Джумали, весь светясь от радости, ухватил его за правую ручищу:
– Я так буду стараться! Так стараться! Увидите. Я уже заказал себе белые штаны у Вайыса-уста. Он мне обещал красиво пошить… А с вами тоже уже расплатились? Увидите, увидите, как я буду работать!
– Ну, это мы посмотрим, – вкрадчиво, почти ласково отозвался Джумали. – Ей-богу, ты, парень, какой-то ненормальный.
Джумали с помощью Мустафы притащил кусок соснового корневища, запалил его и бросил в топку. Немного погодя сушняк стал потрескивать. Неожиданно занялось сильное пламя. Из распахнутой печной пасти величиной с окно полезли наружу длинные светло-морковного цвета языки.
Джумали ругнулся:
– Болван! Кто столько хвороста запихивает в топку поначалу!
Он поставил мальчишку перед собой. Долго и обстоятельно растолковывал, как, когда и сколько хвороста надо класть в печь. Объяснения перемежал с отборной бранью. Постепенно огненные языки стали укорачиваться. Они уже не обдавали жаром и как бы втянулись в печную пасть. Вскоре там опять стало темно, как в пещере. Мустафа, не спрашивая Джумали, приволок охапку сушняка и сунул в печь. Потом еще одну охапку приволок. А полдень плескал потоками зноя на пыльный проселок, на большие смоковницы с мясистой листвой, с узорной тяжелой тенью, на реку, отливающую расплавленным золотом, на небо цвета стылого пепла, на привязанный невидимой бечевой к холму огрызок белесого облака, на птиц, иногда пролетающих в дрожащем мареве, на припудренные пылью травы и поникшие головками желтые цветы среди выгоревшего выгона, на белую кашку, на груду сушняка. Липучий жар выдавливал пот из всего живого и неживого.
Когда подступаешь близко-близко к горнилу печи, чтобы швырнуть туда хворост, – это сущая смерть. Сверху – солнце, спереди – пламя. Глаза Мустафы словно черные угольки. Оскалены в улыбке белоснежные зубы. Лоб, скулы, подбородок опаляет пламя, окрашивает в алый цвет. А рубаха мокра, хоть выжимай.
На юге, там, где плещется в дальней дали Средиземное море, стали кучиться облака. Значит, вскоре повеет прохладный морской ветерок. Скоро он оботрет влажным полотенцем пропеченные на солнце человеческие тела.
Первый порыв ветра колыхнул пыль на проселке. Мустафу стала бить дрожь – от усталости и холода. А Джумали развалился в тени смоковницы, знай себе цигаркой попыхивает. Наконец с ленцой приподнялся. Вроде бы нехотя бросил:
– Поди отдохни.
Мустафа метнул в топку последнее корневище.
День, примостившийся на вершинах тополей, неспешно спустился. Лесок стоял как сплошная темная завеса.
– Давай, парень, поедим, – пригласил Мустафу Джумали.
Они развязали узелок, который прислал им Хасан-бей. Сыр, зеленый лук, тонкие пласты чурека. Ели молча. Мустафа спустился к реке, зачерпнул полный кувшин теплой, как кровь, воды. Поев, долго-долго пили. Джумали тыльной стороной ладони прошелся по вислым усам. Мустафа тотчас встал, принялся за работу, а Джумали враскачку потопал к реке. Вернулся, едва передвигая ноги.
– Мустафа, – сказал, – я вздремну чуток. Устанешь – разбуди меня.
– Хорошо, дяденька.
Было уже за полночь. Месяц свалился за тополя и оттуда тускло, золоченым хлебным ломтем светится.
Пламенные языки озаряют лицо Мустафы – тощие скулы, обтянутые обожженной кожей. На ней – светлые капельки пота. В печной утробе беленятся, враждуют, сцепляются не на жизнь, а на смерть огненные волны. Вот справа набегает одна, а от задней стенки навстречу ей другая, такая же огромная, катится. В середине они сталкиваются, сцепляются, сплавляются. И, слившись, бросаются в ночь. Ночь их безжалостно кромсает, коверкает, и они, напоследок отчаянно сверкнув, угасают.
У Мустафы гудит в ушах, он устал от свиста, воя, стонов, треска, плача, криков, воплей. Там, в печной утробе, словно рыдают истязаемые дети.
– Вот, – шепчет мальчик, – и ветки плачут!
Послышался сонный голос Джумали.
– Что вы сказали, дяденька? – спросил мальчик.
Джумали повторил:
– Устал, малец? Может, подсобить?
Словно ледяной водой окатило с головы до ног Мустафу. Задрожал, бедный. Схватил чуть не вдвое больше обычного охапку хвороста, разом сунул ее в печь.
– Что вы, дяденька! Разве я могу устать? Вы спите, спите.
Джумали не ответил.
Мустафа устал, изжарился, употел! Хорошо, догадался не приближаться к топке вплотную, а забрасывать хворост в огненную пасть длинной рогатиной – иначе б стал совсем как пьяный. Приволочет охапку и сбросит на землю у самого горнила. Затем рогатиной зашвыривает внутрь. Стоит приблизиться к печи чуть ближе, его обдает таким жаром, что нет мочи терпеть. Тогда он бежит на бугорок, подставляет обожженную грудь холодному ветру.
Потоки воздуха тяжелые, как вода, удушающие.
Вдали за холмом широкой сверкающей лентой тянется лунный свет. Мальчишка почти в беспамятстве, нет у него уже сил бежать на бугорок. Лохмотьями повисли старенькие штанишки, рубашку сам не помнит когда сорвал с себя.
На рассвете запела какая-то птица. Сама махонькая, а голос протяжный и резкий. Джумали опять проснулся.
– Устал, парень? – спрашивает.
– Нет, дяденька, ни капельки не устал.
Едва выговорил эти слова, дыхание прервалось. В горле комом встали невыплаканные слезы. И тогда Джумали, потягиваясь, встал, протер глаза. Потом долго мочился за кустом.
Мустафа стиснул зубы. Его качало из стороны в сторону. Обхватил дрожащими руками очередную охапку хвороста, дотащил до печи, бросил.
– Иди ложись, – сказал Джумали.
Мустафа еще спал, когда пришел Хасан-бей. Спросил:
– Ну как мальчишка, работает?
– Спит вот, – поджав губы, процедил Джумали. – Что с такого возьмешь – молоко на губах не обсохло.
– Ну-ну, ты уж заправляй делом как надо. Потом рассчитаемся, – сказал хозяин и удалился.
В полдень проснулся мальчик. Зной опять залил округу. Упершись руками в землю, с трудом поднялся. Как раскаленное железо – земля. Хотел потянуться – ничего не вышло, все кости ломило. Каждую частицу тела пропитала боль. Зверски устал. Но заставил себя собрать все силы, бодро вскочил на ноги.
– Джумали-амджа, не сердитесь, я проспал.
Чуть ли не с яростью набросился на кучу хвороста, стал охапками зашвыривать в топку. Ветки корчились в пламени, пели, как птицы. Горький, влажный, удушливый запах заполнял все вокруг.
– Я ведь предупреждал тебя, что не сможешь без сна, – набросился на мальчика Джумали.
Мустафа делает вид, что не слышит. Окончательно он пришел в себя, лишь немного поработав.
– Ну вот, – сказал. – Первый день и миновал.
Представил себе два огромных, жарких, липких, адских дня впереди. Представил душные ночи. И испугался. Целых два дня! И две ночи в придачу. Хлопковое волокно не так уж и бело. Не иначе как отбеливают его химикатами. Не может быть, чтобы без них. Под вечер – проселок у холма Сюлеймана, поблизости речка Саврун. На мосту веселые пухлые девушки со смуглыми ногами. Воды в Саврун-реке светлые-светлые. Видно рыб, плывущих вверх по течению. Камешки на дне в солнечных бликах. Хочешь, можешь их пересчитать.
Мустафа все работает и работает, а Джумали, развалясь неуклюже в тени, дрыхнет, свинья. Наконец приоткрыл глаза:
– Устал, парень?
Мальчик, обугленный немилосердным зноем, голову пригнул, едва губами шевелит в ответ.
Нынешний вечер – последний. Месяц серебрится над тополями. Ноги подламываются. Осталась всего одна ночь. Одна-единственная.
Джумали обычным своим суровым тоном:
– Что ты там мельтешишь? Иди сюда.
– Пришел, дяденька, вот я пришел.
– Разбуди меня, когда устанешь.
Нельзя огню затихать. Тогда кирпич не испечется. Вся работа насмарку пойдет. Ни на миг нельзя топку без хвороста оставлять. Такое сильное должно быть пламя, чтобы языки наружу выбивались и ночь озаряли багряным светом.
Руки не слушаются. Как он ненавидел эти длинные хищные языки огня, что высовывались из злобной пасти! Совсем не оставалось сил, чтобы отойти подальше от печи, где воздух не так сух и зноен, чтобы добежать до бугорка. Теперь он вот что делает. Притащит охапку хвороста, покидает ее в печь и валится прямо на землю, тут же, у самой топки. Ночная земля – мягкая. Стоит лечь – уже не встанешь. Голову не поднимешь. Дремота наваливается. И тогда Мустафа собирает остаток сил, опять кидается на печь. Алые языки норовят облизать его, колышутся, переливаются, постепенно бледнеют, становятся оранжевыми, желтыми, бессильно лакают темноту над его головой, скользят, невесомые, летят. Еще одно усилие, еще одно. Скосил глаза на восток. Не видать еще светлой кромки над горизонтом. Обернулся к Джумали.
– Вай, – слабо позвал, – вай, Джумали, чтоб тебе!.. Джумали!..
Швырнул охапку в пламя. Грудь, руки – в ссадинах, горят, болят. Кровь только выступит – и сразу же засыхает. А светлой кромки на востоке все нет и нет. Черным пологом колышутся тополя, бугорок, языки огня, хворост, печь, холм, храпящий Джумали. Все перемешалось. Кружится земля. Укачало парня, мутит его.
– Джумали-и-и! Джумали-и-и-и-амджа!
Вскоре мастер проснулся, потянулся со смаком. Не поворачиваясь к мальчику, привычно кричит:
– Устал, Мустафа?
Ответа не последовало. Повторил вопрос. Тишина. Тогда сердито поднялся. Глянул – зияет черная печная пасть. Побелел весь, затрясся. На бегу что есть мочи пнул мальчишку ногой.
– Ах ты паршивец, недоносок окаянный! Загубил меня, нечестивец! Теперь мне платить придется за все.
Заглянул в печную утробу – немного от сердца отлегло: не совсем огонь погас, хилые язычки пламени еще лижут стенки.
Мустафа очнулся лишь на заре. Огляделся со страхом. Видит, Джумали, в распахнутой на волосатой груди рубашке, взмокшей от пота, безостановочно швыряет одну за другой охапки хвороста в печь.
– Джумали-амджа! Джумали-амджа! – робко позвал мальчик.
Мастер бросил на него злобный взгляд:
– Катись отсюда, чтоб тебя наказал Аллах! Дрыхнуть иди куда хочешь, хоть в адово пекло.
– Дя-я-я-яденька! – Не выкрик – скорее стон.
Пока солнце не вкатилось на привычное место – на вершину дальнего холма, Мустафа все сидел и сидел, выставив голову вперед, словно его за шею привязали. Не шелохнулся ни разу. Но вот солнце оторвалось от вершины холма, стало медленно взбираться выше по небосклону. Разморило паренька, голову уронил на грудь, уснул.
Печь для обжига кирпича широкая, большая, словно колодец, вывернутый наружу. Сверху купол, землей присыпанный. Кирпич при обжиге сперва свинцового цвета делается. На второй день – черным и до утра третьего дня таким остается. И вдруг пунцоветь начинает.
Только что за полдень перевалило, когда Мустафа в страхе проснулся. Попытался сразу вскочить на ноги, но не смог. С трудом приподняв тяжелые веки, глянул на печь. Хасан-бей уже пришел. С трудом поплелся к нему. Обогнув печь, заглянул внутрь. Кирпичи были как хрусталь. Как алый хрусталь. Мальчик, будто зачарованный, смотрел на это чудо, не до Хасана-бея ему было.
Хозяин приблизился к мальчику, перехватил его восторженный взгляд и улыбнулся.
– Мустафа, разве мы тебя для того сюда послали, чтобы ты отсыпался?
– Ой, да я ведь каждую ночь!..
Джумали исподлобья поглядел на мальчика.
Было жарко. В печной утробе клокотало удесятеренное полуденное пекло. Специальной заслонкой прикрыли зияющую пасть.
Мустафа побежал к речке. От воды шел нежный, ласкающий свет. Мальчик неспешно вошел в воду, провел руками по усталому, в глубоких ссадинах телу. Вышел на берег освеженный, легкий. Домой бежал – как на крыльях несся. Еще издали закричал:
– Мама! Мама-а-а-а!
Мать выскочила ему навстречу. При виде своего мальчика не смогла удержаться – запричитала, хлопает себя по коленям и все твердит:
– О-о-ой, мой малыш! Мой маленький! На кого ты стал похож!
Мустафа замер. Шагу не мог больше сделать, словно кровь в нем застыла. Лицо высохшее, худое, ободранное. Глаза ввалились.
– Мой малыш! Что они с тобой сделали?!
Обняла и увела в дом.
Наутро сын, еще теплый со сна, прильнул к матери.
– Белые брюки, мам…
– Пропади они пропадом.
– Разве мне не к лицу такая одежда?
Молча обняла сына мать, поцеловала.
Потом Мустафа отправился к Хаджи Мехмеду, присмотрел белые туфли на резине, белые носки. Потом – к Вайысу-уста.
– Мустафа, – сказал мастер, – я сошью тебе самые красивые брюки.
Лишь после этого Мустафа пошел в сапожную мастерскую. Хозяин, видимо, рано принялся за дело: шил, порол, стучал молотком. Брови у сапожника бахромой нависают над темными глазницами, длинноволосый он, сутулый. Мастерская пыльная, полуразвалившаяся, вся затянута мохнатой паутиной, пропитана запахом кожи и сыромяти.
– Хозяин, – сказал мальчик, – Вайыс-уста обещал мне пошить самые красивые брюки…
– Раз обещал, значит, сделает. Он хороший человек.
Прошло три дня, четыре, неделя. Хасан-бей не давал о себе знать. Вроде бы и не помнил о Мустафе.
– Когда ж ты расплатишься с нашим мальчиком, а? – окликнул его сапожник.
Хасан-бей приостановился, задумался. Покачал головой и говорит:
– Расплачусь.
Вытащил из кармана бумажную лиру, две монеты по двадцать пять курушей и положил на стол.
Сапожник посмотрел на деньги и говорит:
– Столько, Хасан-бей, за один день работы причитается, а мальчик работал три дня.
– Да я как ни приду, он спит, вот я и отдал его долю Джумали. А то, что сейчас дал, так это только ради нашей с тобой дружбы. Вот так.
Сказал и ушел.
– Неправда, я каждую ночь… – не договорил Мустафа, слезы помешали. Уронил голову на грудь.
Долго-долго молчали мастер и подмастерье. Наконец старший нарушил тишину:
– Послушай, Мустафа, ты хорошо преуспел в нашем деле. Замечательно подошвы тачаешь. Отныне я буду тебе платить лиру в неделю.
Мальчик с недоверием поднял голову. В мокрых глазах появилось сияние. Он широко улыбнулся. И сапожник ответил ему улыбкой.
«Сегодня десятое июля, – подумал Мустафа. – Одна неделя, две недели, три недели – и все».
– Вот возьми, отнеси Вайысу-уста, – сказал мастер. – И передай от меня поклон. Пусть выберет тебе лучшую материю. А на сдачу купишь ботинки. Эти полторы лиры я забираю себе. Значит, ты мне остаешься должен три с половиной лиры – три с половиной недели работы. Понял?
По голубому полю, высунув язык, несется волк. Такой рисунок был в те времена на пятилировых бумажках.





