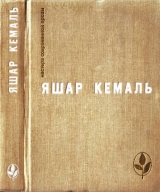
Текст книги "Легенда Горы. Если убить змею. Разбойник. Рассказы. Очерки"
Автор книги: Яшар Кемаль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
РАССКАЗЫ

Дитя
Перевод Т. Меликова и М. Пастер
Солнце уже скатывалось по склону холма, но еще продолжало нещадно палить. Исмаил весь взмок в своем полосатом минтане[37]37
Минтан – национальная одежда, жакет без рукавов.
[Закрыть]. Он покачивался от изнеможения, но шел быстро, поднимая густую пыль, которая запорошила его с ног до головы, набилась в дыры старых башмаков. Пыль была горячая, как уголья.
Исмаил все шел и шел, невнятно бормоча что-то под нос. Он прижимал к груди новорожденного младенца, запеленатого в пеструю тряпицу. Голова ребенка покачивалась на сгибе его правой руки. Пунцово-синюшное личико едва проглядывало сквозь слой пыли. Глаза были закрыты. Временами головка запрокидывалась, и тогда становилась видна тонкая шейка.
В окрестных полях работали крестьяне, журчали жатки, тарахтели комбайны.
Исмаил свернул к полю, где группа мужчин и женщин вязала снопы и укладывала их в копны. Он опустил ребенка на прохладную землю в тени большой арбы, рядом с рыжей псиной, а сам взобрался на арбу. Зачерпнул полную плошку воды из бочонка и вылил себе на голову и обнаженную волосатую грудь. Потом сел рядом с младенцем. Большой палец левой ноги высунулся из дырявого башмака. Ноготь был весь обломанный.
Одна из женщин, что вязали снопы, приблизилась к арбе, чтобы напиться. При виде Исмаила она переменилась в лице, рот у нее приоткрылся, глаза округлились.
– Эй, Исмаил, ты откуда взялся?
Она заметила ребенка, лежащего на земле.
– Вай-вай! Что ж это делается?! Зала, бедненькая, красавица наша!
Не переставая причитать, она взяла ребенка на руки.
– Дохленький-то какой! Ой не жилец он, не жилец! Что ж она наделала, Зала наша, красавица! Несравненная наша!
Женщина вынула грудь, ребенок жадно приник к соску.
– Это ж надо! Ты глянь только, Исмаил, как он грудь берет! Изголодался, видать. От голода да жары захирел. Я кликну Хюрю, пусть покормит. У нее-то груди полные. Своего дома оставляет, а молоко на землю сцеживает.
Женщина попыталась вытащить сосок изо рта младенца.
– Ишь какой, даже пустую грудь не отпускает… Хюрю, Хюрю! Иди сюда!
Одна из женщин подняла голову.
– Хюрю, да иди же скорей! Тут ребеночек Залы. Покорми его.
Хюрю торопливо подбежала, приняла младенца в свои руки и, повернувшись спиной к Исмаилу, вытащила набухшую грудь.
– Вай-вай, горе-то какое! Никому своей судьбы не миновать. С меня не убудет, покормлю маленького. Вон как грудь разнесло. Я уж было собралась сцедить молоко.
А та, что ее позвала, задумчиво добавила:
– Помнишь, Хюрю, как мы вместе с Залой, еще в девках, мотыжить ходили. До чего ж она пригожая была и веселая! Все время улыбалась. А волосы какие были! Густые, черные, аж в синеву. Всем взяла, вот только не могла босиком по стерне ходить. Больно нежная была…
Хюрю отстранила ребенка. Его глаза были по-прежнему закрыты, тонкие губки слабо причмокивали, а по щеке и подбородку расплылось белесое молочное пятно.
Женщина тяжело вздохнула.
– Хорошо, что не успела сцедить. Горе-то какое! Вай, Зала, Зала! Кто бы мог подумать, что оставит младенчика на чужих людей?!
Хюрю заглянула Исмаилу в лицо:
– Как умерла Зала, брат?
К ним приближались еще несколько женщин – они заметили на руках Хюрю младенца и побросали работу. Среди них была матушка Хава, совсем старенькая и седая. Она едва поспевала за остальными, на ходу прикрывая голову ветхим покрывалом. Подойдя почти вплотную к Хюрю с ребенком, матушка Хава прослезилась:
– Неужто младенчик Залы? О горе, горе! Красавица распрекрасная наша, бросила-покинула нас, горемычная. Как же это случилось, сынок Исмаил?
И прочие подхватили:
– Как это случилось, Исмаил? Расскажи.
Исмаил сидел безучастно. Губы его безостановочно шевелились, отсутствующий взгляд устремлен в землю. Он вроде бы и не слышал обращенных к нему слов. Но, видимо, они наконец проникли в его сознание, и тогда он стремительно выхватил ребенка из рук Хюрю и обронил хрипло:
– Не знаю. Нет ее больше. К доктору возил – все равно умерла. Укол ей сделали – умерла.
И зашагал прочь. Его широкие черные шаровары развевались на ходу, и сквозь прорехи виднелось нижнее белье. Женщины долго глядели ему вслед. Матушка Ана прошамкала:
– Ой, бедолага! Ой, бездольный! Жену сгубил, сердечный! А теперь убивается. И в лицо-то людям посмотреть стыдно!
Та, что первой подошла к Исмаилу, подхватила:
– Не углядел за женой, проклятый. Мается теперь с ребенком, поедом себя ест. Двадцать дней болела, а он повез ее к доктору, когда уже поздно было. Ну и поделом душегубу! Пусть-ка теперь умоется кровавыми слезами. Дитятко только жалко. Если б старая Эмине не померла, разве бы допустила, чтобы дочка досталась этакому убивцу!
Хюрю робко возразила:
– Так ведь он не нарочно. Против судьбы не пойдешь, милая.
– Иншаллах! Найдет какую-нибудь сердобольную душу, что за малышом присмотрит, – добавила матушка Хава.
– Где ж такую найти? – возразили ей. – Собственные дети без присмотра бегают, кто ж чужого возьмет? Вот, к примеру, Хюрю. У самой ребеночек некормленый дома остался, а она здесь, молоко земле отдает. Разве вырастет дитя здоровым, ежели его не кормить, не поить, а молоко земле отдавать? Горит у ней молоко. Кормить ребенка горелым молоком – все равно что травить.
Хюрю поднялась, тяжело опершись на руки.
– По своей охоте разве бросаю его? Нищета одолела. Сколько ни есть, а подработаю здесь. Может, и не помрем с голоду. Не по своей охоте… Просить у судьбы милости – пустое дело.
– Да, уж лучше умереть, – отозвалась старая Хава.
– Старуха-то твоя совсем слепая, Хюрю. Как же ты можешь доверить ей дитя? – спросила женщина, что первой увидела Исмаила.
– Она хоть и слепая у меня совсем, но деток любит, – ответила Хюрю. – Птицей вьется над дитем и заплакать не даст. Рядом с ней любое дитя утишается. Пошепчет ему что-то, песенку напоет, и, глядишь, дитя уже спит.
– Да, славная она старуха, – подтвердила Чернушка Элиф. – Саму ее мухи облепят – она и не замечает, лишь бы ребенок спокоен был. Даром что глаз нет. Говорят, она пузырек с молоком вместо рта в глазки младенцу сует. Ничего не видит. – Потом, глядя на удаляющуюся фигуру Исмаила, сокрушенно добавила: – Что же он, сердечный, теперь делать станет? Куда дитя денет? Самое тяжелое время сейчас – жатва…
Матушка Хава задумчиво произнесла:
– Есть у него вроде какая-то родня по матери. Может, выручат?
– Ой, сестрицы, нет страшнее горя, как остаться грудному младенчику без матери.
– Уж лучше б он вместе с матерью помер. Зачем Аллах ему жизнь продлил? Кому он без матери нужен? Ах, Аллах, для чего ты плодишь сироток! Вай, Зала! Время сейчас трудное – страда.
Знойный полдень застлал округу пыльной пеленою. Вдали, над крышами селения, колыхался дымок. Он тянулся к блеклой синеве неба и незаметно истаивал где-то в вышине. Жнивье мерцало, будто оловянная чаша под солнцем.
Опаленные зноем глаза Исмаила не видели ничего, кроме пронзительного сверканья работавших в отдалении комбайнов. Он направил шаги к жидкой, почти не отбрасывающей тени, шелковице у обочины. Голова младенца безжизненно свесилась с его руки и мерно покачивалась при каждом шаге на тонкой, как ниточка, шее.
Он опустил ребенка на землю, а сам стянул мокрый от пота минтан и рубашку и развесил на пыльном кусте ежевики, попытался стряхнуть пыль с шаровар.
Ребенок тоненько заверещал, несколько жирных мух село на его личико. Исмаил отогнал мух, но плач не прекратился. Он попытался укачать ребенка.
– Что, маленький, что? Не плачь, горюшко ты мое, не плачь.
Ребенок не унимался.
Исмаил натянул на себя не успевшую просохнуть одежду и опять зашагал по пыльному большаку. Крохотная головенка болталась на тонкой шее. Уже не плач, а слабый стон срывался с посинелых губок.
Мимо промчался грузовик, обдав Исмаила и ребенка густой пылью. Когда пыль наконец осела, в нос Исмаилу ударил запах застойной воды. Справа до самой деревни простиралось огромное рисовое поле, над которым недвижно повисли испарения.
Исмаил поравнялся со стариком водоношей, скрюченным, как коряга, седобородым и тощим. Старик тяжело опирался на лопату, глаза его подслеповато щурились.
– Эй, парень, смотри-ка, шею свернешь ребенку! – крикнул он.
Исмаил даже не замедлил шага. Вроде как и не слышал.
– Да падет горе этого несчастного на голову его врага, – вздохнул старик. – Вот уж где горе-горемычное!
Вскоре Исмаил торопливо вошел в деревню, узкие улочки которой были сплошь завалены буйволиными лепешками, а плетеные стены хибарок облеплены землей и кизяком. Кое-где в пыли лениво копошились куры и, вывалив алые языки, спали разморенные собаки. И ни одного дерева на всю деревню, лишь вдоль обочин изредка попадались худосочные кусты.
Родственники Исмаила ютились в покосившейся лачуге из тростника, крытой жухлой соломой. У входа притулилась некрашеная, вся потрескавшаяся арба с ржавыми ободьями. В ее тени пряталось несколько кур и собаки, а в глубине двора куда-то деловито катились за мамой-уткой желтые клубочки-утята.
Исмаил подошел к дому и увидел женщину, которая спала, привалившись к дверному косяку и поджав под себя ноги. Это была еще крепкая старуха, рослая и сильная. Исмаил остановился перед ней на пороге, не решаясь потревожить ее сон. Ребенок по-прежнему верещал. Наконец женщина с видимым усилием подняла голову, протерла глаза и, явно не узнавая Исмаила, тихим голосом спросила:
– Кто ты? Войди в дом, чего на солнце стоишь?
Исмаил не шелохнулся. Его короткая, в полроста, тень падала на кучу навоза, наваленного перед дверью. Женщина поднялась и вдруг вскрикнула:
– Господи! Ты ли это, Исмаил?
Она выхватила ребенка из его рук и сокрушенно заговорила:
– Не плачь, не плачь, голубочек. Чего ты стоишь, Исмаил? Входи в дом. Вон как весь употел, горемычный.
Она положила ребенка на ветхую циновку и притронулась к руке Исмаила:
– Входи, мой милый, входи.
Исмаил глядел на нее остекленевшими глазами, потом переступил порог и обессиленно повалился на глиняный пол.
– Не казнись так, милый. Чего в жизни не случается. Зала была хорошая жена. Покинула она нас, живых, а нам пока что не дано за ней последовать. Возьми себя в руки, пересиль свое горе. У кого умирает жена, у кого – муж. Так уж заведено на свете. Не казнись, о себе подумай. Нам уж и так твой дядя уши прожужжал: мол, Исмаил совсем как полоумный сделался, день и ночь дитя с рук не спускает.
Исмаил от этих слов еще больше лицом потемнел. Искоса глянул на ребенка, который не переставал плакать, лежа на сыром полу.
– Тетя, сделай что-нибудь. Прошу тебя. Сделай, чтобы он замолчал.
Женщина прижала ребенка к груди и заходила из угла в угол.
– Не плачь, маленький, не плачь, сиротка. Чем же тебя покормить?
Тетя Дженнет – так звали женщину – была уже совсем старая. Ее седые волосы местами пожелтели. Все еще тонкую талию перетягивал пестрый бахромчатый кушак. Из-под седых бровей поблескивали крохотные глазки. Сильный мужской подбородок придавал ее лицу выражение непримиримой строгости.
– Говорят, Исмаил, ты плохо смотрел за женой. Оттого она и померла. Ведь крепкая женщина была, здоровая. Как же ты допустил, чтобы она после родов двадцать дней больная на конюшне валялась? И некому было присмотреть за ней, воды подать, накормить. Как же так, Исмаил? Большой грех на себя взял.
Чья-то тень мелькнула у порога, и в дом робко, бочком, протиснулась Дондю, девушка-соседка, узкоплечая, но с широкими полными бедрами, обтянутыми черными шароварами. Пухлые губы приоткрылись в улыбке, и сверкнули белоснежные, один к одному, зубы. Густые ресницы роняли веселую тень на смуглые щеки. Она не удержалась и бросила кокетливый взгляд на Исмаила, но тут же смущенно потупилась. Тетя Дженнет протянула ей ребенка. Дондю тотчас повернулась спиной к Исмаилу, расстегнула рубашку и сунула в рот младенцу розовый сосок. Тот замолчал.
Двое голопузых, облепленных высохшей грязью малышей заглянули в дверь, но войти не решились. Они переминались на тонких кривоватых ногах, прижимая пучки ободранных хворостин к раздутым, рахитичным животам.
– Гляди-ка, – шепнул один другому, – шея у маленького во-от такусенькая. – И он поднял средний палец.
– Ага, – отозвался другой, – совсем как соломинка. А тетя Дондю его грудью кормит. Да она ему пустую грудь сунула, чтобы не плакал. Ведь у незамужних девушек молока не бывает, так говорит мать. А он все-таки не плачет. Сосет.
Дети ушли.
Тем временем тетя Дженнет продолжала:
– Да, Исмаил, людям рот не заткнешь. Не зря, видать, говорят, что ты запирал жену на замок, а сам в поле уходил. Даже воды не оставлял. Все в один голос так говорят. А на чужой роток не накинешь платок. Не зря, видать, говорят, что ты уморил жену. Слышали, как она выла от боли, как металась по запертой конюшне-то голая, в чем мать родила, с младенчиком на руках. Так ли, Исмаил?
Поначалу Исмаил вроде бы и не замечал суровых укоров Дженнет, но вдруг вспылил:
– Да что ты говоришь, тетя? Мог ли я обидеть Залу? Мог ли дурное ей причинить? Она свет жизни моей была. Не видишь разве, как я весь пылаю, словно угольев горячих наглотался? После смерти Залы мне свет божий не мил. Да хоть весь мир обойди, разве найдешь вторую такую, как моя Зала? Ты не людей – меня спроси: какая она была, моя Зала. Душу мою спроси.
У Дженнет слезы навернулись на глаза.
– Ты прав, милый. Второй такой, как Зала, нет во всем свете. Единственная была, и вот не стало ее…
Исмаил больше не мог держать в себе свою боль, слова сами собой исторгались – не из уст, а словно бы из волос, рук, плеч, из всего его тела, из стены, о которую он опирался, из земли, на которой сидел, из полузакрытых глаз.
– Нет на мне вины, тетя, нет вины! Готов в том жизнью поклясться. Когда ей совсем уже мало оставалось ждать, я так сказал: «Зала, свет мой, не ходи больше в поле. Я сам управлюсь. Дома побудь». Не послушалась меня. «Я, – говорит, – всю жизнь гнула спину на чужих людей, так неужто теперь, когда на себя работать могу, я дома усижу? Ничего со мной не сделается. Впервой не на поденщине, а на собственном поле работаю». Так она мне перечила. Ой, глупая! Бедная, батрачила весь век, вот и посчитала за неслыханное счастье напополам с хозяином урожай делить. «Я, – говорит, – крепкая, выдюжу, даром что на сносях». Ох и упрямая была! Ее разве переспоришь. Пошла-таки в поле. Я, глядя на нее, обмирал от страху: пузо-то во-о-от какое, ноги как колоды разнесло, а все туда же. «Отец мой и мать, – говорит, – так и померли батраками, своим углом не обзавелись. А я тут почти что хозяйка. Половина – наша. Как подумаю, что больше мне не надо клянчить у чужого порога, так горы готова перевернуть, не то что снопы вязать».
А тот день уж до того жарким выдался, что и не упомню такого. Птицы падали с неба, спеченные на лету. Зала попыталась взвалить себе на спину здоровенный сноп, впору двоим мужикам тащить. А только попробуй скажи ей, чтоб бросила. Сердится, плачет. Вдруг вижу, осела моя милая, глаза зажмурила, но не пикнет. «Что с тобой?» – кричу. «Ничего, – говорит, – прихватило малость. У меня ведь еще с утра нет-нет да схватит, но так сильно, как сейчас, еще не было. Ой, словно нож вонзили. Пойду домой, пожалуй. Не ровен час, в поле разрожусь». Я кинулся к ней, проводить хотел. Какое там! «Ты что, хочешь, чтоб наше зерно осыпалось? – кричит. – И в мыслях не держи! Не хватало, чтобы наш хлеб муравьям да птицам достался. Я сама как-нибудь». И ведь пошла. Обхватила живот, согнулась в три погибели, но идет. Вдруг, вижу, упала. Я – к ней, помочь хочу. Рассердилась, прогнала меня. Насилу поднялась – и ушла.
Вечером прихожу домой, а она тихонько так лежит, к боку дитя прижимает. Одна-одинешенька рожала, сама пуповину ножницами обрезала, сама ребенка обмыла, запеленала. Ни единой женщины поблизости не оказалось, чтобы пособить ей. И первое, что сказала мне, когда я домой вернулся: «Не давай, Исмаил, зерну осыпаться».
Они как сговорились – хозяин и моя Зала. В один голос твердят: «Быстрей жни, быстрей. Зерно осыпается. Гляди, чтоб урожай муравьям да птицам не достался». Хозяин кричит: «Горит зерно, торопиться надо!» А Зала плачет потихоньку: «В кои-то веки на себя работаем, а ты медлишь. Ты за меня не беспокойся, я сама за собой присмотрю».
Вот как оно вышло, что я оставлял ее одну, а сам в поле с утра до ночи проводил. Не по своей воле.
Дженнет тихо вздохнула:
– Она, бедняжка, выросла на чужих хлебах, на сиротских, горьких. Сладок, видать, показался ей собственный кусок. Вай, Зала.
– Смотрю, неделя миновала, а она с кровати не встает, – продолжал Исмаил. – «Зала, свет мой, – говорю, – так больше нельзя. Взгляни, на кого ты похожа стала: лицо желтое как воск, кости выпирают. Так и помереть недолго. Как хочешь, а я еще день-другой подожду, и, ежели не полегчает тебе, к доктору поедем». Она в ответ разрыдалась. «Утром здоровая стану, увидишь». И в поле велела идти. Так она и лежала дома – без еды, без питья, без глаза. А что за дом у нас, сама знаешь, тетя: старая конюшня Зеки-бея.
Если бы не хозяин, я бы сумел ее уговорить. Но с ним – никакого сладу. «Я тебя, – говорит, – испольщиком взял, именно тебя, а не кого другого. А ты в такое горячее время вздумал с бабой сидеть. Пропадет мое добро – ты виноват будешь». А ей день ото дня все хуже делалось. Уж как я ее умолял к доктору поехать, а она знай Аллахом клянется, что чувствует себя лучше, что назавтра здоровехонька с постели встанет. Какое там! Отощала совсем, глаза ввалились. А работы, будь она неладна, не убавляется. Вижу, жена совсем плохая стала, умирает, бедная. Двадцать дней прошло, как занемогла.
Губы Исмаила задрожали, насилу совладал с собой.
– Отправился я прямиком к хозяину. «Умирает жена, – говорю. – Надо ее к доктору везти». А он, стервец, смеется. «Чего паникуешь? – говорит. – Бабы – народ двужильный, ничего с ними не делается. Полежит малость и оклемается. Ты свое дело не бросай». Но я настоял на своем. «Бери все мое имущество, ага, – говорю. – Мне ничего не жалко, пусть тебе во благо будет мое добро: и хлопок, и пшеница, и кунжут. Все бери, только дай двадцать пять лир». Дал все-таки. Уложил я Залу на арбу и повез к доктору. Привез, а доктора дома нет, куда-то уехал. Я весь город облазил, пока фельдшера нашел, который уколы делает. Хороший фельдшер, из тех, что хину прописывают. Пришел он, осмотрел Залу, языком зацокал. «Плоха, – говорит, – не жилица. – И на ухо мне шепчет: – Кончается твоя жена, парень, прощайся». Тут уж я взъерепенился. «Делай укол, – говорю. – Спасай!» – «Да она почти мертвая, – отвечает. – Я мертвым уколы не делаю». – «Заплачу сколько скажешь. Мне денег не жалко». А он плечами пожимает. «Ей делать укол – все равно что дереву или лошади». – «Сделай, ради Аллаха, брат. Чтобы люди меня не прокляли, чтобы никто не сказал, будто я денег пожалел на укол и поэтому жена померла». Сжалился, видать. Добрый был человек. Сделал укол. «Еще один сделай, – попросил я. – Она мне дороже жизни». Он еще сделал.
А как она исхудала, моя красавица! Узнать невозможно было. Кожа да кости. Повез я ее обратно. Уж как лошадей гнал, как гнал! Если ей суждено умереть, думаю, то пусть лучше дома. Жарынь, на беду, неслыханная стояла. Проехали с полпути, смотрю, Зала голову приподымает, что-то силится сказать. Я ничего не разобрал, только «…в тысячу лет раз… мой ребеночек…». И все. И затихла.
Старая Дженнет заплакала:
– В тысячу лет раз… Да она ж сказать хотела, что в тысячу лет раз выпадает человеку счастье иметь свое поле, а судьба отбирает его. Вай, бедная! Вай, несчастная!
– Глаза у нее закатились, – продолжал Исмаил. – Дыхание остановилось. Солнце так пекло, что в глазах у меня потемнело. Не знаю, что со мной сделалось, только, когда очнулся, вижу: я на земле валяюсь, ни арбы, ни коней, ни Залы моей с ребеночком – ничего… Бросился я бежать. Пуще всего боялся, что кони понесли и опрокинули арбу. Как я бежал! Как сумасшедший! Боялся, что Зала и ребеночек, еще живой, зверью дикому достанутся. Каким словом тогда люди меня назовут? Лучше б и он умер вместе с матерью. Все равно не жилец. Где это видано, чтобы грудное дитя без материнского молока выжило? У живых-то матерей умирают дети, а уж сироты и подавно. Бегу, а сам высматриваю, не валяется ли где в пыли младенчик.
Наконец вбежал я в какую-то деревню. Вижу, посреди улицы моя арба стоит, а вокруг люди толпятся. Спросишь, какая деревня была, – не знаю. Народу собралось столько, что иголке некуда упасть. Гляжу, в арбе лежит моя Зала и ребеночка к себе прижимает. Женщины голосят… Что за деревня – не знаю.
Сел я в арбу и поехал. Никто меня ни о чем не спросил. Кто мне эта покойница с младенцем – не спросили. Откуда я и куда путь держу – не спросили. Слова не обронили, словно окаменели. Так мы и уехали.
Ребенка я в верхнюю деревню отнес, к одной женщине по имени Сары Кыз, у нее у самой грудное дитя было. Думал, выкормит. Через два дня приносит назад. «У меня молока совсем мало, – говорит. – Кто же собственное дитя будет голодом морить ради чужого?» Что делать? Других кормящих не было в наших краях. Я и так, и этак маялся. Сунешь ему пузырек с молоком, он не берет, соску не сосет. И не жилец он, и не покойник. Я так рассудил: ежели не помирает, значит, суждено ему жить. Надо что-то делать. Помоги, тетя Дженнет.
Исмаил поднялся. Он был так высок, что упирался головой в травяную крышу.
– Помоги, тетя. Никого у меня нет, кроме тебя. Пристрой дитятко, пока страда не кончится. Я уже с ног валюсь.
Старая Дженнет слушала его понурившись.
– Исмаил… – с трудом выдавила она из себя. – Исмаил…
– Как скажешь, тетя, так и будет.
– В кои-то веки вы на себя работать стали. Первый год, как перестали батрачить. Так тебе Зала говорила?
– До чего ж ей хотелось на своем поле поработать, а не на чужих людей. Батрацкая доля из нее все соки выпила. Света божьего не видела… Помоги сироте, тетя.
Девушка Дондю, не отнимая младенца от груди, приблизилась к Дженнет. Щеки у нее пылали, как обожженные.
– Тетушка, – горячо зашептала она на ухо старухе, – когда ребенок сосет мою грудь, со мною что-то странное делается. Мне так сладко и страшно! У меня вся спина в мурашках. Отчего это, тетушка? Век бы его не отнимала от груди. – И она в истоме потянулась.
– Ненормальная! – рассердилась старуха. – Никуда это от тебя не уйдет!
К вечеру пришел домой дядя. Был он мужчина рослый, сильный. Обветренное лицо облепили соломинки, пшеничные ости, пыль.
– Исмаил, – сказал он, – говорят, ты днем и ночью дитя с рук не спускаешь. Работу забросил. С ума, что ли, сошел?
Младенец, лежа на тощей дерюжке у опорного столба, тихонько верещал. Старая Дженнет сделала знак мужу, чтоб сменил разговор.
– Значит, так, племянник, – продолжал дядя, – слышали мы о твоей беде. Душа ноет, на тебя глядючи. Уж и не знаю, как тебе пособить.
– Давайте позовем Мусдулу, – предложила Дженнет. – У него жена недавно разрешилась от бремени. Хорошая женщина, чистоплотная, и молока у нее много. Я попрошу Мусдулу, чтобы позволил жене ребеночка выкормить. Есть еще кормящая – Хромоножка Эмине, и Хюрю тоже, но она, бедняжка, собственное дитя бросает некормленым.
Послали мальчишку за Мусдулу. Вскоре тот пришел. Был он невысокого роста, аккуратно причесанный, в новых шароварах и кепке. Из нагрудного кармана темно-синего пиджака выбивался огромный ярко-красный носовой платок. Обут он был в городские штиблеты со стоптанными задниками.
Дядя взял Мусдулу за руку, усадил рядом с собой.
– Сынок, – начал он, – милый наш Мусдулу, взгляни-ка. – И дядя указал на плачущего ребенка. – Видишь? Да упасет Аллах любого от подобного горя. Чего не бывает на свете! Как говорится, на все воля Всевышнего. У твоей жены, слыхал, молока много. Мой племянник Исмаил ничего не пожалеет, пусть выкормит младенца. Что скажешь на это, сынок? Аллах завещал помогать друг другу в беде. Сделай доброе дело, он тебя за это вознаградит.
Мусдулу склонил голову, плотно сжал тонкие губы. Сидит и молчит.
– Время сейчас тяжелое – страда, – продолжал дядя. – У Исмаила никого нет, совсем он одинокий. Сердце кровью обливается на него смотреть. Вот какая с ним беда приключилась. В кои-то веки из батраков выбился, а теперь пропадает из-за ребенка. Почему молчишь?
Мусдулу по-прежнему сидел неподвижно, опустив голову.
– Тебе, сынок, можно сказать, испытание бог послал. Спасешь живое существо – ворота в рай себе откроешь. Жизнь даруешь человеку – Аллах воздаст тебе за это. Послушай, как он плачет. Каменное сердце надо иметь, чтобы выдержать такое.
Мусдулу поднялся, направился к выходу. И, уже переступив порог, резко обронил:
– С чего это вы взяли, что мою жену можно в кормилицы нанимать?
И зашагал прочь.
Исмаил кинулся было ему вдогонку, руки протянул.
– Брат! – закричал со слезами в голосе. – Не бери греха на душу!
Дядя схватил его за руку.
– Не унижайся, Исмаил! Не проси ни о чем этого мерзавца. Ты уже совсем мужскую гордость потерял. Ну и сукин сын! Пусть лучше дитя помрет, но ты не унижайся. Моя жена шестнадцать похоронила, и не таких заморышей, как твой, – крепких, как бычки, йигитов. Похоронила – и ничего.
– Исмаил, миленький, ты совсем рассудок потерял, – сказала старая Дженнет. – Он же еще и не человек вовсе. Подумаешь, месяца нет от роду. У тебя еще дети будут. Вот оправишься малость, женишься, других народишь. Я шестнадцать похоронила. Как душа вынесла такое несчастье – ты не меня спрашивай. Шестнадцать в землю положила. Горе мне очи выело. А ты еще молодой, снова женишься. Аллах тебе других деток пошлет. Не казнись, милый. Долго ли самому заболеть?
Исмаил побледнел как стена. Дженнет притихла, задумалась.
– Подожди, дай подумать. Кто же еще есть? Хромоножка Эмине – раз, Хюрю – два… Эмине да Хюрю. Никого больше, – рассуждала она сама с собой. – У Хромоножки молоко ядовитое. Сколько помню ее, она в год по младенцу рожает, и ни один не выжил. Что ни год хоронит ребенка. Как и я, горемыка. Неделю-две поживут, и Аллах их к себе забирает. Она уж и сама со счету сбилась, сколько схоронила. И твой помрет, если ей отдать. А Хюрю, бедняжка, за своим родным не смотрит, день-деньской в поле да в поле. У нее молоко в грудях горит. Дети животами исходят от горелого молока. Хюрю своего младенчика на слепую свекровь оставляет. Какой уж там присмотр может дать слепая?
– Жена, – прервал ее дядя, – ну что ты зарядила: ядовитое молоко, неядовитое. Нет у Исмаила другого пути, как отдать Хромоножке.
– Да ведь это ж все равно что загубить младенца.
Исмаил вмешался в спор:
– Тетушка, нет у меня выбора. Если так суждено, лучше пусть помрет от дурного молока, чем от голода. Пусть, как другие дети, помрет от болезни, но только не от голода, не на моих руках.
Делать нечего, послали мальчонку за Хромоножкой. Долго ждать не пришлось. Эмине приковыляла, с трудом волоча покалеченную ногу. Была она тощая, низкорослая, корявая. Глядя на нее, люди диву давались, как она только на ногах держится, совсем на бок не завалится. Одета она была в старые-престарые, заплата на заплате черные шаровары и рубаху, насквозь пропыленную, засаленную, всю в пятнах засохшего теста. В распахнутом вороте виднелись обвислые смуглые груди. На глаза упали пряди немытых, давно не чесанных волос, темное лицо все усеяно крупными, как соски́, бородавками.
– Зачем звал, Вели-ага? – обратилась Эмине к дяде.
– Тут вот какое дело, доченька. Видишь это дитя? Исмаил сделает для тебя все, что пожелаешь, только выкорми его ребенка. Ничего для тебя не пожалеет. Сделай доброе дело, спаси дитя от неминучей смерти. Аллах зачтет тебе благодеяние. К тому же в накладе не останешься, Исмаил все оплатит сполна. Что скажешь на это, дочка?
Исмаил не утерпел, добавил:
– Сестра Эмине, пожалей дитя. Я для тебя что хочешь достану, хоть птичье молоко.
Хромоножка помрачнела.
– Вели-ага, как можешь просить меня об этом, зная, что родным детям у меня молока не хватает. Ведь как питаться надо, чтобы молоко прибывало. А какая у меня еда?
Исмаил выпрямился:
– Послушай, Эмине, у тебя все будет. Соглашайся.
– Не могу я такой вопрос без мужа решать. Вот он вечером придет, посоветуемся. А пока я ничего сказать не могу.
Так и ушла, не покормив плачущего ребенка.
Прибежала Дондю, взяла ребенка на руки, дала ему грудь. Плач прекратился.
– Меня мать не пускает к вам, – зашептала Дондю. – Такой шум подняла – страсть! Я на минуточку выскочила.
Ночь опустилась на землю. По всей округе надрывно заголосили лягушки. Давно утих западный ветер, недвижный воздух наполнился густыми влажными испарениями, запахами болота, свежего навоза. Сверкающие звезды облепили черное небо, как жирные мухи.
В отдаленье, на краю большой луговины, возвышалась старая чинара. На ее ветвях находили приют белоснежные аисты. Их было так много, что и не сосчитать. Несколько раз в ночи они поднимали возню, хлопали крыльями, щелкали длинными клювами.
Перед домиком дяди Вели тянулась высокая, в рост человека, решетка для виноградной лозы. Под ней лежали коровы, жевали жвачку. Дженнет примостилась под навесом, уложив ребенка в старую колыбель. Малыш не умолкал ни на миг. Дженнет раскачивала колыбель, и от этого качался весь навес. Дядя Вели, сморенный усталостью, задремал. И Дженнет вскоре затихла, перестала качать колыбель – тоже, видать, заснула. Тучи москитов вились над ними.
Перевалило за полночь. Ребенок все еще плакал. Исмаил заворочался, потом тихо позвал:
– Тетушка Дженнет.
Тетушка проснулась.
– Отнеси его Хромоножке. Он меня в гроб загонит своим плачем. Отнеси!
Дженнет вынула дитя из колыбели.
Деревенские бабы без конца судачили об Эмине. Встретятся ли на улице, соберутся ли за тканьем, гонят ли телят в стадо – везде и всюду разговоры об одной Эмине.
Перед домом Чернушки Элиф собралась небольшая толпа.
– Вот оно как случается, сестра. Вот как бывает. Несчастье одних удачей другим оборачивается. Зала померла, а грязнуля Хромоножка как сыр в масле катается.
– То-то, сестрица. У этой Эмине, видать, не сердце – камень. Дитя с утра до вечера ревет, а ей хоть бы что. Жрет как богатый бей. Исмаил ее завалил добром до отвала. Говорят, на базаре все подчистую скупает: и сахар, и масло, и виноград. Совсем одурел.
– Не жалко, если б она за дитем присматривала.
– Не могу мимо ее дома ходить. Верещит с утра до ночи мальчишка, скулит, как щенок. Кто ж такое выдержит?
– Не выживет малютка.
– Видели б вы Исмаила!
– Больно на него смотреть.
– Ни кровинки в лице.
– Все, что имеет, тащит Хромоножке. Так недолго опять в батраки податься.
– Как пес бездомный стал.
– Не выживет дитя-то, не выживет.
– Как пить дать, не выживет.
– Какая из Хромоножки кормилица?
– Лучше б оставил дитя на съедение орлам.
– Лучше б в воду бросил.





