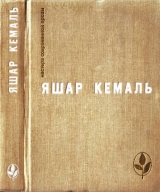
Текст книги "Легенда Горы. Если убить змею. Разбойник. Рассказы. Очерки"
Автор книги: Яшар Кемаль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
Арбузы – дыни
Перевод Т. Меликова и М. Пастер
Все вокруг было охвачено зноем. Ребята вышли из реки и забрались под ежевичные кусты, где было темно и сыро, вроде как в пещере. Они лежали на влажной земле, думали, мечтали, каждый о своем. Так они нежились часами в ленивой дремоте, втроем, вчетвером или вшестером.
– Ш-ш-ш-ш, ребята, – обронил вдруг Белобрысый Али. – Не шевелитесь!
Они замерли. В двух шагах от них беззвучно катила свои воды река, лишь изредка раздавался всплеск волны. Река серпантином вилась до самой деревни, поблескивая на плоской равнине оловянной лентой.
– Как только заснет Мурат… – радостно продолжал Белобрысый Али. – Как только он крепко заснет…
– Как только заснет… – шепотом, словно заклинание, повторили ребята.
А одиннадцатилетний Дурмуш добавил:
– Спит он так крепко, что, хоть догола его раздень, не почувствует…
Белобрысый ковырял землю большим пальцем ноги. Был он таким тощим, что хоть ребра пересчитывай. Рос без отца и потому слыл самым отпетым из всей деревенской ребятни.
– Ох, не заснет он, нет, не заснет, – заключил Али.
Один из мальчишек лежал с самого краю и неотрывно наблюдал в просвет между ветвями за бахчой. Земля на ней пересохла и потрескалась, кое-где лишь выделялись островки густой, припорошенной пылью зелени, в основном же бахча была вся увита пожухлыми длинными плетьми, да местами торчали на ней виноградные черенки. Арбузы – дыни, арбузы – дыни лежали рядами. Огромные, необъятные арбузы и овальные дыни с шафранной коркой. Дыни источали вязкий, теплый, сладостно-густой аромат.
Но вот появился Мурат, подпоясанный ярко-красным кушаком. Он был здоровенный, широкоплечий. Лицо злобное. Длинные желтые усы угрюмо обвисли.
У Мурата не было ничего, кроме этой бахчи. Ни поля, ни сада, ни лошади, ни ишака. Ничегошеньки. Зато такой бахчи, как у Мурата, не было ни у кого в их местах. Она протянулась по песчаному берегу реки.
Мурат, как всегда, сердито расхаживал под навесом, рядом с которым валялись кучей арбузные и дынные корки, а также перезревшие и подгнившие арбузы и дыни. От них шел запах как от забродившего вина. Легкие пчелы и огрузшие шмели и шершни вились над этой кучей. Их крылья искрились зеленью и голубизной.
Он впрямь видел все это – тот мальчишка, что лежал с самого краю, – или ему привиделось? Как знать… Это был Дурмуш. Он лежал и смотрел на шершней, и ему казалось, что он даже различает тонкие красные полоски у них на брюшках, красные, как бекмез[43]43
Бекмез – вываренный виноградный сок.
[Закрыть]. А крылья у шершней голубые. Соты у желтых пчел совсем белые. Как много там пчел. Жара и пчелы…
Дурмуш, волнуясь, почти выкрикнул:
– Сейчас, сейчас заснет!
Он тут же раскаялся в этом, но не успел и слова сказать в свое оправдание, как Белобрысый Али, сердито скрипнув зубами, уже набросился на него:
– Ах ты сукин сын! Не хватало еще, чтобы он услышал.
Дурмуш виновато промолчал. А Белобрысый повторил свой приказ:
– Смотри в оба и не зевай! Как только заснет, подай знак.
Дурмуш был мастак определять, спит ли Мурат, борется ли с дремотой или просто лежит, размышляя о чем-то. У Дурмуша так здорово это получалось, что никто из ребят не удивился, если б он сказал, что угадывает мысли Мурата на расстоянии.
Бывало, Дурмуш не приходил сюда с ребятами, и тогда им не удавалось ничего украсть с бахчи. Никто из них не умел определять, спит Мурат или бодрствует. Без Дурмуша они часто нарывались на хозяина бахчи, и им доставалось горяченьких.
Белобрысый подтолкнул Дурмуша:
– Ну, как он там?
– Сидит, шевелит мозгами, – невесело отозвался Дурмуш.
Это было самое неприятное – когда Мурат просто так сидит, даже не опираясь на стойку навеса. Значит, каким бы усталым он ни был, ни за что не уснет.
– Так и будет сидеть? – спросил Али.
– Откуда я знаю?
Дурмуш был не в духе, и Али не стал с ним пререкаться.
Некоторое время они помолчали. Слышались только всплески волн и равномерный пчелиный гуд. Белобрысый Али задремал и потому не сразу понял, что это там Дурмуш горячо шепчет.
– Уснул…
– А? – встрепенулся Али.
– Уснул, говорю, – дрожащим от волнения голосом повторил Дурмуш.
Трое голых мальчишек выбрались из прохлады ежевичных кустов и метнулись в сторону бахчи. Горячая земля обжигала им ноги. Они торопливо заполняли прихваченные с собой торбы арбузами и дынями. Потом сбежали к реке и поплыли вниз по течению со своей добычей.
А когда были уже далеко от бахчи, услышали у себя за спиной грохот ружейного выстрела. А потом… потом долгий громкий хохот.
Так повторялось из раза в раз. Ребята, искупавшись, прятались под кустами ежевики, Дурмуш наблюдал за Муратом. Когда тот наконец засыпал, они устраивали набег на бахчу. Потом – вниз по течению с мешками, набитыми арбузами и дынями. И всегда им вслед раздавался ружейный выстрел и протяжный звонкий смех. Этот смех катился по всей Чукурове – радостный, светлый, озорной.
Каждое лето одно и то же. Пока мальчишки не выросли, не возмужали, не обзавелись своими домами, семьями. Теперь у каждого из них росли свои собственные сорванцы. Сами они давно уже перестали таскать с бахчи Мурата арбузы и дыни. Но им на смену пришли их сыновья, а тем в свой черед новая поросль мальчишек. Всегда находилось кому обчищать бахчу Мурата.
Сам Мурат сильно переменился: его желтые усы побелели, он весь как-то усох, съежился, спину его согнула старость. Только бахча оставалась прежней.
Каждое лето деревенские мальчишки таскали с нее арбузы-дыни, и всякий раз им вслед раздавался холостой ружейный выстрел. Единственное, что переменилось, – это смех Мурата. Он больше не был раскатистым и веселым. После выстрела раздавалось тонкое хихиканье и… наступала тишина. Это пугало мальчишек и их отцов. Но что они могли поделать? Не могли же они отказаться от такой забавы!
И опять полуденный зной разливался над равниной. И пятеро голых мальцов мчались по берегу реки.
Они с плачем ворвались в деревню, а вскоре к реке бежали все жители деревни. Женщины и дети громко плакали. Парни вытащили из воды худенькое тельце мертвого мальчугана. В его левом боку зияла огромная, величиной с ладонь, рваная рана.
Люди сразу все поняли.
– Вай, что натворил этот зверь! Он зарядил ружье пулей дум-дум.
Под вечер Мурата в наручниках вели по деревне. Он шел понурясь, в лице – ни кровинки. Спина его совсем согнулась, ноги заплетались. Крестьяне бросали в него камни и комья навоза. Мурат ни разу не поднял голову, не огляделся. Он покорно брел меж жандармов, и одежда его была вся в грязи и навозе.
Чакыр[44]44
Чакыр – букв.: серо-голубой.
[Закрыть]
Перевод Т. Меликова и М. Пастер
Не первый год мы с ним приятели. Здесь у нас в Менекше, в районе Флорья, все его знают и любят. Не было случая, чтобы он кого-нибудь обидел. Как его настоящее имя, откуда он родом – никто не знает. У него не все в порядке с речью – картавит, как маленький, и фразы складывает незатейливые, короткие. Только взглянешь на него, и сразу ясно: такой и муравья не обидит. Для всех он просто Чакыр. Вот я, к примеру, давно с ним дружу, но тоже имени настоящего не знаю. Чакыр да Чакыр… И как-то так получалось, что я ни разу не мог спросить его, из каких мест он родом. Что-то есть в нем такое, что мешает задавать лишние вопросы.
Чакыр не из болтунов. Все наши ребята рыбаки – зубоскалы, задиры, драчуны, но только не в его присутствии. Не то чтобы боялись его или недолюбливали. Напротив. А вот поди ж ты, не удаются шуточки да подначки, когда Чакыр рядом. Чистюля он какой-то, блаженный.
Вот я с чего начал? С того, что мы с ним давние приятели. А ведь, коли призадуматься, неточно я выразился. У меня, если хотите знать, во всем мире не найдется и пяти человек, к которым я был бы по-настоящему привязан. Один из них – Чакыр. А почему? Бог знает. Уж во всяком случае, не потому, что мы часто с ним встречаемся и болтаем о том о сем. Может, характерами сходимся? Или общие мысли имеем? Эх, если бы я мог с уверенностью сказать, о чем думает Чакыр! Только ведь никому не дано читать чужие мысли. Отчего ж я так сильно привязался к этому человеку? Спросите у Чакыра, и он тоже не сможет ответить. Наверняка начнет бормотать что-то вроде: «А, это вы о нем спрашиваете?.. Да-а-а, мы с ним друзья». И поспешит отойти в сторонку.
Не упомню случая, чтобы он попросил меня о чем-нибудь. А вздумай я ему что подарить, уверен, взять не захочет. Хоть расшибись, не возьмет. «Я, – скажет, – ни в подарок, ни в долг брать у тебя ничего не могу. И не хочу. Ты мне друг. Может, я чудак, но не хочу, чтобы на нашу дружбу пала тень». Вот так-то… Бывало, я из кожи вон лезу, чтобы уломать его. «У врага стыдно брать, – говорю, – но друга нельзя обижать отказом». А он знай лишь посмеивается. Красивый у него смех. Он словно бы молодеет, когда смеется. Кстати, сколько ему лет? Понятия не имею. Даже приблизительно сказать трудно. То он выглядит за сорок, то и тридцати не дашь. День на день не приходится. А спросишь напрямую, так он замолчит, призадумается, а то и вовсе отойдет подальше и долго слоняется по берегу моря, погруженный в невеселые думы.
Как-то раз он пришел ко мне радостный, сияющий, словно отыскал давно потерянную вещь. Помалкивает, как обычно, а у самого на лице написаны лукавство и гордость. Никогда прежде не видел я у него такого выражения. «Свершилось! – вдруг выпалил он. Но в тот же миг, очевидно, раскаялся в сказанном, поник, слинял как-то. Потом торопливо добавил: – Разве на земле нет людей, кроме друзей и врагов? И я веду с ними дела…»
Нет, он неисправим! Мучается, ищет, страдает и наконец вроде бы прозревает: есть на земле не только друзья и враги…
Волосы у Чакыра рыжие, густые, блестящие, плечи – широченные, сильные, и поступь могучая, будто не человек, а каменный монумент шагает. Частенько у его губ пролегает горестная морщинка, даже когда он смеется. А в карих глазах то и дело вспыхивает ярко-зеленая искорка. Брюки, рубашка, пиджак выглядят на нем как с чужого плеча, но, как ни странно, это лишь красит его.
От Чакыра исходит аромат чистого, безбрежного, сверкающего моря. Так пахнут водоросли – солью, йодом, свежей рыбой, южным ветром. Пройдет он рядом с вами в жару, и сразу пахнет на вас морской прохладой, свежим туманом. Над ним вроде бы всегда стоят белопенистые облака. Ручищи у него тяжелые, натруженные, кулаки как кувалды.
Сидим мы с ним, бывало, на прибрежных скалах и часами молчим. Над морем вьются легкие чайки, носятся стремительно бакланы. Порой море причудливо меняет свой цвет. То вдруг заискрится, вспыхнет яростно, а поодаль – вода черная и стоячая, как в омуте. А потом вскипит, вздыбится черная вода и залучится красновато-сиреневым цветом. Голубые, бирюзовые полосы постепенно переливаются в зеленые и оранжевые. А то вдруг солнечный столб гигантским кинжалом рассечет морскую ширь надвое. В такие минуты Чакыр не может сдержаться и восторженно вскрикивает: «Вот оно, море-то, какое!» И при этом глаза его улыбаются.
Потом мы поднимаемся и уходим. Что мы говорили друг другу, прощаясь? Ей-богу, не помню. Скорее всего, ничего. Днем ли, вечером ли расставались? Тоже не помню.
Как-то раз я повстречал его, когда он только-только вернулся с рыбной ловли. Руки его по самый локоть были в рыбьей чешуе. Увидев меня, улыбнулся. Еще издали протянул огромную живую рыбину. «На, твое счастье! Как только вытащил ее из воды, так сразу решил, что она твоя». Он был беспечен, как ребенок. Сияющим взглядом смотрел то на меня, то на пойманную рыбу, то на море. В какой-то миг мне показалось, что его рука с зажатой рыбой, и лицо, и плечи стали голубыми. Заходило солнце. А Чакыр продолжал на моих глазах покрываться голубизной. «Ну что, увидел?» Я мотнул головой. «То-то же! – засмеялся он. – Лови!» И, не доходя несколько шагов до меня, кинул рыбу. Я поймал ее. «Ешь на здоровье». – «Спасибо», – смущенно пробормотал я.
Рыбаки, что сидели в лодках у него за спиной, тихонько посмеивались. За весь день ему удалось выловить одну-единственную рыбу, и он долго мучился, раздумывая, как мне ее отдать.
Они ведь великие хитрецы, наши рыбаки. И прозорливы, как джинны. Лишь взглянут на человека – и тут же прочтут, что у него на сердце. Спустя пару дней они мне сказали: «Видел бы ты, братец, в тот день Чакыра. Видел бы, как дрожали его руки, как радовался. Чуть с ума не сошел».
Ежедневно Чакыр раскладывал свой улов на расписном деревянном лотке. Он любовался рыбой, как дитя, и не выкрикивал, а пел: «Рыба! Све́жа рыба! По-о-о-окупай!» Он торговал во Флорье, Басынкёе, Ешилькёе[45]45
Районы Стамбула.
[Закрыть]. Деньги, не считая, совал в правый карман брюк. Распродав улов, бывало, оглянется по сторонам, потом притопнет по мостовой и, запустив руку в карман и позвякивая мелочью, торопится домой.
Мы опять сидели на скалах. Чайки с пронзительным криком носились над морем. Я впервые видел Чакыра таким злым.
– Ну чего разорались, подлые твари?! Заткните свои поганые глотки! – ругался он.
Несколько раз он поворачивался в мою сторону, явно намереваясь что-то сказать, у него даже растягивались губы и вроде бы удлинялся нос. Но так и не решался, лишь опять обрушивал брань на ни в чем не повинных чаек, так, словно это были не птицы, а оскорбившие его люди. Его, казалось, окончательно выводило из себя то, что чайки не обращали на него внимания.
– Эй вы, гнусные твари! Ослы, свиньи! Песьи морды! Попадите только мне в руки! Уж я поквитаюсь с вами! Схвачу за грязные клювы и не спеша сверну вам шеи!
Неспроста все это было, неспроста. Я чувствовал, что ему невтерпеж поделиться со мной. Наконец я не выдержал:
– Чего ты прицепился к несчастным птицам! Чем они виноваты? Мучает тебя что-то – скажи. Нечего злобствовать впустую.
Он затих, потупился. А когда поднял лицо, я увидел, что щеки у него порозовели, а в глазах появился неестественный блеск.
– Не обращай на меня внимания, – попросил он.
– Да ну тебя в самом деле, горе ты горькое…
Миновало несколько дней. Чакыр как будто избегал встреч со мной. Тогда я решил выследить его. Конечно, так, чтобы он меня не заметил. Оказывается, он перестал выходить в море с рыбаками. Часами крутился у моста, под которым валялась старая лодка, узкая, длинная, какая-то несуразная, краска на ней давно облупилась, доски рассохлись и почернели, фальшборт поломан.
Стараясь не привлекать ничьего внимания, Чакыр то и дело подбегал к лодке, ощупывал ее, заглядывал под днище. Поймав на себе чей-нибудь взгляд, торопливо отходил в сторону, отворачивался, но вскоре опять крадучись подбирался к лодке и опять ощупывал, разглядывал, что-то прикидывал. Порой он, вздрогнув, бросал по сторонам испуганные взгляды, но, убедившись, что никому нет до него дела, продолжал осмотр. Самые противоречивые чувства отражались на его лице: огорчение и надежда, радость и досада. О чем он мечтал, какие строил планы?
Я наблюдал за ним из окна угловой кофейни. Чакыр не мог видеть меня. Он никогда не заходил в эту кофейню. Даже под страхом смерти невозможно было загнать его туда. Почему? Кто знает… Хозяин кофейни, во всяком случае, не знал. Но это факт – никогда он сюда не заглянет.
Примерно с неделю Чакыр крутился вокруг старой посудины, любовался ею, нежно поглаживал потрескавшиеся борта. А потом вдруг сам отыскал меня на морском берегу у той самой скалы, где мы прежде любили с ним сидеть. Он уже не сердился на чаек, не злобствовал и не ругался. С детски озорным простодушием неожиданно попросил:
– Можешь передать Нусрету-бею, что я хочу покрасить лодку, которую он бросил на берегу?
– Пожалуйста, передам. Ты ведь знаешь, Чакыр, что Нусрет-бей мой старый приятель.
– Знаю, знаю, – все так же простодушно сказал Чакыр.
– И это все? – спросил я.
– А что еще? – Он призадумался. Похоже, собирался еще что-то сказать, но так и не решился. – Да, все, – обронил он. – Просто хочу покрасить лодку. – Он облизнул губы. – Я хорошо покрашу.
Еще солнце не взошло, как Чакыр принялся за дело, а к полудню закончил. Он выкрасил лодку в небесно-голубой цвет. Отполировал нос и корму. Два дня потратил на то, чтобы по обе стороны от носа вывести белой краской слово «Голубь». Странная надпись. Ее видно было издалека. А под словом «голубь» нарисовал голубку. Что это был за рисунок, я вам передать не могу. Ничего подобного не выходило из-под кисти ни одного художника во всем мире от древних времен до наших дней. Описать это невозможно. Надо видеть. Видеть лодку с голубкой, распростершей крыла в луче света, стремящейся в неведомую даль безбрежного океана.
С тех пор Чакыр забросил и работу и дом. Он сутки напролет проводил возле красавицы лодки, не сводил с нее влюбленного взора. Порой отступал на шаг и, причмокнув, восхищенно восклицал: «Хороша! Эх, до чего ж хороша!»
Он приобрел нейлоновый парус, голубой с желтым. Наладил тонкую сеть, тросы. Где-то раздобыл старинный якорь. Нусрет-бей не узнал свою развалюху. Когда ему сказали, что это и есть его лодка, он просто отказался поверить.
Дело было сделано, и Чакыр опять стал искать встреч со мной. Он больше не сердился на чаек, но видно было, что его что-то гложет, что он места не может себе найти. И вдруг однажды совсем неожиданно он произнес:
– Хоть бы единый разок выйти в море на этой лодке половить рыбу.
Слова эти вырвались у него непроизвольно, и, очевидно, он в тот же миг пожалел о них.
– Нет-нет, не надо! Еще, чего доброго, хозяин подумает черт знает что. Я и так ему благодарен, что позволил покрасить лодку. Мне и этого достаточно.
Он поспешил прочь от меня, я кинулся следом.
– Погоди, Чакыр! Я скажу Нусрету-бею. Право же, ничего плохого в том нет, если ты разок половишь рыбу в этой лодке.
– Нет! – отрезал он. – Не говори. Он может подумать, будто я только ради этого возился с лодкой. С меня и так довольно.
Я все-таки поговорил с Нусретом-беем. Он лишь удивленно бросил:
– Чудак какой-то, ей-богу.
Чакыр тянул лодку к морю с таким видом, будто священнодействовал. Все жители рыбацкого квартала высыпали на берег, чтобы полюбоваться невиданным зрелищем. Чакыр птицей метнулся в своего «Голубя» и вскоре оказался в открытом море. Лодка стремглав уносилась вдаль и вскоре растаяла в морском сиянье.
Вернулся он после захода солнца. С головы до пят был мокрым. В голубой сети билась живая рыба. Там же, на берегу, на глазах у собравшихся разделил рыбу на две части, одну отдал мне, другую опять завернул в сеть и опрометью бросился куда-то. Вечером Нусрет-бей пришел ко мне.
– Отменная была рыба, – сказал он.
И опять лодка стояла на берегу, а Чакыр кругами ходил возле нее.
Не знаю почему, но Чакыр никогда не приходил ко мне домой. Поэтому я едва язык не проглотил от удивления, когда в один из дней, открыв дверь на чей-то робкий стук, я вдруг узрел перед собой Чакыра. Он стоял понурившись. Я пригласил его войти. Он переступил порог, но глаз так и не поднял. До самого вечера просидел на диване, упорно не желая оторвать взгляд от собственных башмаков. Вдруг резко поднялся.
– Тут вот какое дело… – выдавил он из себя. – Я хочу эту лодку… Передай Нусрету-бею, что я готов ее купить. Все равно же гниет. Два года провалялась на берегу, ни разу Нусрет-бей не выходил на ней в море. Какую цену назначит – такую и дам. Все деньги от продажу рыбы буду отдавать ему. Ты знаешь, я не из тех, что не возвращают долги.
Рыбацкий квартал переживал великое событие. Голубая лодка, нарядная, разукрашенная, кокетливо спускалась в море. Чакыр и сам принарядился: костюм новехонький, туфли сверкают, даже галстук повязал. Кто ж надевает белоснежную рубашку, выходя на ловлю в море? Какие-то болваны стали отпускать шуточки вслед Чакыру. Куда им было понять, что в этот великий миг осуществлялась заветнейшая мечта Чакыра. Может быть, он с раннего детства мечтал именно о такой лодке… Иначе ни за что на свете не решился бы явиться ко мне с просьбой, которая казалась ему унизительной. Ничего-то люди не поняли!
Раз в три дня Чакыр проходил мимо нашего дома с меч-рыбой, дорадами, луфарями, камбалой, барабульками, султанками. Рыба еще трепыхалась и сверкала.
Примерно с год продолжалось так. Чакыр был счастлив. Улыбка почти не сходила с его лица, временами он даже шутил.
И вдруг все переменилось. Лодка очутилась на старом месте, под мостом, а Чакыр стал избегать встреч со мной. И одежда его стала неряшливой. С удивлением я узнал, что он перестал наведываться и к Нусрету-бею. В последний свой приход он так сказал ему: «Не смог я с тобой расплатиться, Нусрет-бей. Не идет почему-то рыба в сети. Не удалось мне поймать удачу за хвост. Прости, Нусрет-бей, если можешь…»
А спустя несколько дней Чакыр бесследно пропал. Я заходил к нему домой. На двери висел огромный замок. Ни его самого, ни жены, ни детей – никого не было видно.
Нусрет-бей как-то сказал мне:
– Ночью, когда шел дождь, в темноте меня кто-то два раза хватал за горло и пытался душить. Слава богу, удалось отбиться. Он оба раза поскальзывался. И знаешь, мне показалось, что руки его похожи на руки Чакыра.
– Этого не может быть! Должно быть, ты обознался, Нусрет-бей. Чакыр оставил свой дом и уехал из наших мест потому только, что стыдился в глаза тебе посмотреть. Если б он мог долг вернуть, разве уехал бы?
– Это точно, не уехал бы… – согласился Нусрет-бей.
Прошло еще какое-то время. Нусрет-бей и думать забыл об истории с лодкой, а если и вспоминал, то со смехом.
– До чего ж славной рыбой кормил нас Чакыр! – приговаривал он. – Ах, какая была рыба!.. Лодку он давно уже отработал, да будет она ему во благо.
Как-то поздним вечером мне передали, что меня разыскивает Нусрет-бей. Я поспешил к нему. Войдя в дом, я увидел, что перед Нусретом-беем лежит тысячелировый банкнот.
– У меня только что был Чакыр, – растерянно произнес он. – Ни слова не обронил, не поздоровался, даже глаз не поднял. Руки у него были разбиты в кровь, и из ушей текли струйки крови. Ноги по колено в грязи. Он так похудел, что его и узнать-то трудно. Пришел и протянул мне вот этот тысячелировый банкнот. И тотчас ушел. Во дворе задержался на миг. «Спасибо тебе, Нусрет-бей, – говорит. – Много добра ты мне сделал». Ну что ты на это скажешь?
– Что я могу сказать? Только одно: больше никто не будет пытаться задушить тебя.
Нусрет-бей облегченно перевел дух:
– Вот и слава богу…
Трудно было поверить во всю эту историю. Я имею в виду нападение на Нусрета-бея. Чакыр не способен на такое. Кто угодно, только не Чакыр.
Ну что вам сказать? Нелегко мне продолжать свой рассказ. Пару дней спустя газеты сообщили, что по обвинению в грабеже задержан рыбак Чакыр. Случилось это именно в тот вечер, когда он наведывался к Нусрету-бею. Должно быть, его арестовали на обратном пути. Я пошел в тюрьму. Чакыр отказался от свидания со мной. Я передал ему немного денег и сигареты. Больше я туда не заходил, не мог…
И вот недавно я стал замечать, что, лишь только наступят сумерки, какой-то человек крутится у моего дома. При моем приближении он торопливо отбегает в сторону. Поначалу я не придал этому никакого значения. Наверное, полицейский, как всегда, что-нибудь вынюхивает и не хочет лишний раз на глаза попадаться, решил я. Но как-то раз, когда я за полночь возвращался домой, кто-то преградил мне дорогу.
– Что надо? – спросил я тихонько.
– Это я. Не узнал? – Голос был замученный, сломленный, подавленный и в то же время самую малость счастливый. – Это я. Я расплатился сполна с Нусретом-беем.
Последние слова прозвучали торжественным гимном. И он исчез в темноте.
Утром другого дня я увидел его у моста. Он перекрашивал «Голубя» темно-голубой краской. На носу лодки парила голубка. Увидев меня, Чакыр засмеялся.
– Э-гей! Привет! – крикнул я.
– Привет! – отозвался он.
Этот гордый, счастливый человек улыбался лукаво и простодушно.
– Привет, Чакыр! Э-э-э-эй, э-ге-гей, привет!





