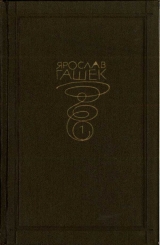
Текст книги "Собрание сочинений. Том первый"
Автор книги: Ярослав Гашек
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 39 страниц)
Гей, Марка!
На скалы, над долиной святого Яна, опустилась вечерняя тишина. Перестали посвистывать сурки, которых в этих местах водилось больше, чем по всей Дюмбьерской гряде; задремали над пропастями хищные горные птицы, угнездившиеся в расщелинах белых скал; несколько коз, только что пасшихся здесь, заслышав лай сторожевого пса, стремглав попрыгали со склонов на плато и помчались к загону бачи Гронека.
Валахи загнали овец и прибежавших коз за ограду и вошли в колибу.
В низкой деревянной колибе пылал и трещал огонь, на котором в котле варилась простокваша.
Быстро темнело. Тепло летнего дня сменилось ночной прохладой, и, когда в хижину вдруг ворвался поток холодного воздуха, все подобрались поближе к очагу.
Бача Гронек лежал на овечьем кожухе и время от времени подбрасывал в огонь подсохшие сосновые чурки. Их едкий дым заполнил чадом всю колибу, так что нельзя было даже разглядеть развешанные по стенам широкополые праздничные шляпы, окованные пояса, чепраки и вырезанную из дерева всевозможную утварь.
Простокваша в котле закипела. Пастухи разлили ее по черпакам, подали один Гронеку и начали пить, пока еще не остыла.
Наевшись, они достали из-за поясов короткие трубки, набили их табаком и сунули в горячий пепел, чтобы запеклись. Как только из обитого латунным железом мундштука пошел дым, они их вытащили, осторожно продули, закурили и по примеру бачи растянулись на овечьих кожухах.
– Мало уж осталось снегу на Дюмбьере, – сказал бача Гронек, попыхивая своей «запекачкой».
– Мало, – ответил младший валах Яно.
– На Дерете он еще маленько держится, – отозвался старший валах Юрчик.
– Трава гляди как быстро начала расти, – продолжал бача.
– Уж и мох зацвел, – заметил Юрчик.
– Подкинь-ка в огонь, – распорядился бача. – А ты, Яно, давай спи с божьего благословения. Утром пойдешь вниз, в Валаску, за солью. У овец уж почитай ничего не осталось.
Не было особой необходимости советовать Яно заснуть. Он и так уже клевал носом. Совсем умаялся сегодня. Дважды забирался он нынче на Большой Дюмбьер, чтобы взглянуть оттуда на деревню Валаску. Но утром вся долина Грона была покрыта туманом, и ему пришлось спуститься ни с чем. Тогда после полудня он влез снова на вершину и наконец-то глубоко внизу, под лесами, увидел Валаску. А когда около четырех часов туман окончательно рассеялся, его зоркий глаз разглядел на краю деревни, у реки, маленький домик. На этот-то домик он и смотрел почти целых два часа: в нем жила его Марка.
Яно уснул на своем кожухе так крепко, что бача должен был отодвинуть его ноги от огня, а то бы у него и опанки сгорели.
Вскоре на высоте почти полутора тысяч метров спокойно спали три человека. Тихой ночью лишь изредка раздавалось в горах блеяние овец да лай сторожевых псов.
Рано утром бача начал будить Яно. Длилось это довольно долго. Но стоило только ему сказать, что пора идти в Валаску за солью, как Яно сразу вскочил.
– Купишь двадцать фунтов, – наказывал бача Яно, – да передашь поклон старому Мише. Скажи, что, мол, все здоровы. Да гляди у меня, чтобы не напиться… И у Марки долго не задерживайся.
Яно быстро съел кусок черствого хлеба, взял свою валашку и тронулся в путь.
Было еще темно. Все окутывал утренний туман. Он покрыл и все острые контуры скал, которые могли служить ориентиром. Но Яно это нисколько не тревожило: он знал дорогу так хорошо, что мог бы спуститься вниз, в долину, даже с завязанными глазами и при любом ненастье.
Кругом расползлась седая мгла. Но когда Яно вскарабкался на Прегибу, темноту уже начали робко прокалывать первые лучи восходящего солнца. Они были фиолетовые. А как только утренний ветер чуть разогнал туман, из-за скал появился красный солнечный шар. Чудилось, он так близко, что можно рукой достать.
– Гей, божье солнце! – воскликнул Яно в честь восходящего светила и высоко подбросил вверх свою валашку.
Туман быстро рассеивался. Казалось, он течет – бежит к долине и хвойным лесам.
Солнце поднималось все выше и выше, постепенно уменьшаясь в размерах. Ясное утро сразу вступило в свои права.
Только что в двух шагах ничего не было видно, а сейчас открылось все: и поле, и скалы – и все так ясно и отчетливо. Хорошо были видны и Малый и Большой Дюмбьер, подальше Прегиба, Лесковец… Все эти вершины и скалы появились так неожиданно, словно вдруг вынырнули из этого седого влажного тумана.
Со всех сторон блестели ветви стелющейся сосны, а остатки снега в расщелинах Дереша сверкали так нестерпимо, что у Яно даже глаза заслезились.
Яно спускался с Прегибы тропинкой посреди ползучих сосновых ветвей и смеялся.
«Ну и удивишься ты, Марка, – думал он переполненный радостью. – Не видал тебя с самого начала лета, как только мы перебрались в горы на пастбище…»
Несколько пугливых сурков, потревоженные его шагами, засвистели и поспешно скрылись в норках.
Яно запел, и леса отвечали эхом на его песню.
Он перестал петь и крикнул в тишину лесов: «Гей, Марка!» И леса ответили: «Гей, Марка!» «Гей, Яно!» – крикнул он снова. И снова лес зашумел в ответ: «Гей, Яно!»
Ползучие сосны постепенно уступили место низкорослым елям и пихтам. А Яно все смеялся, радуясь, что увидит свою Марку, и спускался все ниже и ниже.
Всюду журчали летние воды. Холодный утренний ветер сменился теплым, летним. Лес становился все выше и гуще, тут и там попадались полуистлевшие стволы упавших деревьев, из которых выбивались молодые побеги.
«Через три часа буду у Марки», – прикинул Яно, взглянув на солнце, и снова крикнул в глубину леса: «Гей, Марка!»
Бача Гронек любил порядок, поэтому, когда Яно не вернулся к вечеру из Валаски, он сказал Юрчику:
– Я всегда говорил, что из Яно никогда не выйдет порядочного югаса. Вот пошли его за солью, а он нейдет, и овцам лизать нечего.
Когда же Яно не возвратился и на другой день, бача поделился со старшим валахом своей тревогой:
– Не иначе как с Яно какое несчастье приключилось!..
Нет, с Яно не случилось никакого несчастья. Когда он в то чудесное утро спустился в Валаску, он прежде всего направился к Марке.
У отца Марки, старого Миши, неделю тому назад утонул в разлившемся Гроне батрак. А попробуй-ка в нынешних условиях найти в Погронье хорошего работника. И остался Яно у старого Миши, совершенно забыв, что должен был купить для бачи двадцать фунтов соли.
Седой Дереш и вся Дюмбьерская гряда и по сей день напрасно ждут, что вот-вот появится валах Яно с солью для овец…
А чтобы не повторялось подобных случаев, стал бача Гронек уже сам ходить в Валаску за солью.
Гей, Марка!
Старая дорога
За три дня до окончания прокладки нового шоссе старый Бабажич говорил старику Частичу:
– А славно, что теперь не будем через горы ездить. Да и сама дорога была никудышная. Одни тебе камни – всю душу вытрясет, пока доедешь. А еще, вспомни: как дожди-то взялись, по колеям прямо ручьи текли. Про езду и сказать нечего: с бугра да на бугор, по камням, по колодам. И с боков один лес. Ветер подул – назавтра лучше не езжай. Там, смотришь, поперек дороги ель свалило, там сосну.
Частич, соглашаясь, кивал и убежденно поддакивал:
– Не говори. Лошади в мыле, запарились, а управляющий – на тебя же ругаться! Дорога новая – она как скатерть. Пускай ты на час дольше едешь, да зато равниной. Любой холмик она тебе обойдет.
За окнами людской смеркалось.
Старики, с молодых лет в числе господской дворни исполнявшие обязанности конюхов, привыкли к темноте и не испытывали потребности зажигать свет. Да и к чему тут свет? Капусту в миске, что стояла на скамье, не надо было видеть. Довольно было чувствовать ее терпковатый вкус и горечь пригоревшей муки, которой заправляли подливку. Они привыкли получать подобные отходы из кухни управляющего и радовались, что от разогретой капусты по жилам их пойдет немножечко тепла, которого год от году все более недоставало высохшему стариковскому телу.
Теперь они сидели на скамье и, со стуком опуская в миску деревянные ложки, неспешно поглощали куски плохо вымытой капусты. Разом зачерпывали и, словно в такт, жевали. Капуста налипала на беззубые десны, ели не торопясь, следя, чтобы нисколько не упало на воскресные штаны, белесые от времени и вытертые на коленях.
В людской кроме них никого не было. Уже который год проводили они воскресные вечера в одиночестве. Более молодые дворовые уходили в деревню.
– Н-да, теперь дорога будет легче, – сказал Бабажич, зачерпывая капусту.
– Легче, – односложно подтвердил Частич, заглатывая длинный кусок капустного листа, прожевать который был не в состоянии.
– Поехать по такой дороге – красота! – начал опять Бабажич. – Кони ржут…
Он отложил в сторону ложку.
– Крикнешь: «Ге-ей!» – горячо продолжал он, – и покатили с ветерком. Никакой тебе тряски. Вот это езда!
– Ты ешь, простынет, – резонно заметил Частич.
Они всегда зачерпывали пищу одновременно, и потому он тоже отложил теперь свою ложку.
Бабажич зачерпнул капусты. То же сделал и Частич. Некоторое время оба только глотали и причмокивали, потом Бабажич снова повел разговор:
– И долго же мы ездили по той дороге – не сосчитать сколько лет…
– Поболее пятидесяти, – сказал Частич, – еще мы молодые были, когда начинали.
– Мне двадцать первый шел, – сказал Бабажич очень тихо.
– А мне двадцатый, – отозвался Частич, – поехал по весне первый раз в город, за железом.
– Ну а я летом, этак что-нибудь в июне! Собрался по дрова на вырубку, – сказал Бабажич и снова отложил свою ложку.
– И хорошо же в тот раз было ехать, – задумчиво произнес Частич. – Деревья не просохли после дождика, воздух душистый. Где съезд с горы – возле креста, знаешь, – нагнал я молодуху Залку. «Подвез бы, – просит, – на телеге». – «Садись», – говорю. И поехали мы вместе. Жаль ее было. Повенчали тогда с этим Малишкой, а он, что ни день, бил ее.
– Давай-ка есть, – предложил Бабажич, – а то капуста будет уж простылая.
Ложки застучали, и оба старика принялись за еду, пока Бабажич не прервал ее словами:
– По старой дороге ехали мы с покойной женой в костел венчаться. Тому уж сорок лет. Что снегу-то было вокруг! На земле, на деревьях, на взгорках… Одиннадцатый год она в сырой земле, бедняжка.
Бабажич смолк и стал глядеть в окно на двор.
– А весело было на старой-то дороге, – прервал скорбную тишину Частич. – С утра до ночи ездили телеги. Однажды у меня там пала лошадь. Споткнулась – и прямо о камень головой, – добавил он, желая вспомнить что-нибудь печальное. – Понятливый был конь, весь серой масти, и шерсть на боках кудрявилась.
– Тот самый, что нас вез венчаться, – не сразу отозвался Бабажич. – Как он ржал тогда всю дорогу!..
Старик Бабажич устремил взгляд в темноту нетопленой избы и прикрыл веки. Он видел старую дорогу всю в снегу, яркое утро, ныряющую по ухабам телегу. На телеге видел себя, молодого, рядом – жену, а серый конь, с кудрявящейся шерстью, весело ржал и нетерпеливо похрапывал.
– Жаль старой-то дороги, – проговорил он вдруг, широко открывая веки, – там хорошо было. Теперь позарастет травой и запустеет.
Частич поднял на него водянистые глаза и чуть слышно сказал:
– Твоя правда. И для чего прокладывали новую?..
От миски, что стояла на скамье, тянуло горьким запахом капусты.
Благодарность
У него было большое поместье недалеко от тюрьмы. Во время прогулок он часто видел заключенных, которые лениво копались в земле под строгим взглядом надсмотрщика.
Он относился к ним с любопытством. Дело в том, что у него в библиотеке была книга итальянского ученого Ломброзо, которую он знал почти наизусть. И самым любимым его занятием стало искать в лицах заключенных черты преступников.
Однажды его внимание привлек заключенный, которого он раньше не видел. Небольшой, плечистый, он, согнувшись, окучивал свеклу. Услышав шаги, арестант выпрямился. Пан Мотычка – так звали нашего помещика – вытаращил на него глаза, с изумлением открыл рот и воскликнул: «Прямо из Ломброзо!» И зашептал: низкий лоб, взъерошенные волосы, выступающие скулы, могучая челюсть, оттопыренные уши. Он чуть не вскрикнул от радости.
Заключенный решил, что этот человек сошел с ума.
– Что это вы на меня вылупились? Дали бы лучше бычка!
Пан Мотычка машинально бросил ему сигару, которую тот ловко поймал.
– Хороша, – сказал арестант, сделав несколько затяжек, – а теперь можете глядеть сколько влезет!
И снова принялся за работу.
«Прямо из Ломброзо», бормотал по дороге домой довольный пан Мотычка. Он нашел то, что так долго искал. Ему никогда еще не приходилось встречаться с таким прекрасным образчиком преступника. С тех пор заключенный стал его любимцем. Пан Мотычка разыскивал его повсюду. Радость его увеличилась, когда он узнал от надзирателя, что арестант неисправимый разбойник и вор. Мотычка носил ему сигары, еду, разные лакомства, вел задушевные беседы, как с дорогим другом. Надзиратель закрывал на это глаза, но никак не мог взять в толк: отчего это пан Мотычка так симпатизирует преступнику. Он даже сомневался, в своем ли тот уме.
Сам заключенный принимал приношения пана Мотычки с выражением благосклонности, как нечто само собой разумеющееся.
– Хороший мужик, да, видать, с приветом, – говорил он своим приятелям. В этом он полностью сходился с надзирателем.
Чудачество пана Мотычки шло арестанту на пользу. Он на глазах поправлялся, так что даже скулы уже не так выпирали.
– Хороший вы человек, век вам буду благодарен, – сказал он пану Мотычке, когда тот принес ему большущий кусок печенки. И подтвердил свои слова выразительным взглядом.
«Смотрите-ка, преступник, а ведь сердце у него доброе», – подумал про себя пан Мотычка и чуть было не разуверился в теории Ломброзо. – «Должно быть, он исключение», – решил наконец пан Мотычка, успокоив свои сомнения.
– Знаете, ваш-то сбежал вчера вечером, – коротко бросил как-то раз надзиратель пану Мотычке.
– Сбежал?! – в ужасе проговорил пан Мотычка. – Как он мог так со мной поступить? – добавил он грустным голосом.
– Ну, свобода есть свобода, – сказал надзиратель, – тут уж ничего не поделаешь, надоело ему. Того надзирателя, что с ним шел, чуть до смерти не убил. А когда тот уже почти без сознания лежал, сказал, что, мол, всем привет, а особливо вам. Вот бандитская рожа!
Пан Мотычка был потрясен. Он уже так привык к заключенному, что, перестав его видеть, почувствовал в душе какую-то пустоту.
– Такое выразительное лицо – жаль, право, жаль, – повторял он про себя, – хоть бы еще разок с ним встретиться.
И они встретились. Был теплый весенний вечер, пан Мотычка возвращался домой с прогулки. Он с удовольствием вдыхал освежающий лесной воздух. И удовольствие было еще большим от сознания, что этот лес был его собственностью. Было уже довольно поздно.
Вдруг он услышал за собой шаги. Пан Мотычка даже не успел повернуть головы, как один схватил его сзади за руки, а другой заткнул рукой рот. Из кустов вылез кто-то третий и встал перед ним.
– Господин наверняка при деньгах, он должен нам помочь, ничего не поделаешь, времена нынче плохие.
Говоря это, преступник вытащил из кармана пана Мотычки бумажник и снял с жилета часы на золотой цепочке.
Пан Мотычка не сопротивлялся. Вдруг он посмотрел в лицо вора и чуть не расплылся в улыбке. Он узнал старого знакомого – арестанта. Тот тоже узнал пана Мотычку.
– А это вы, очень рад, – благосклонно сказал он. – Ребята, отпустите этого господина, он сопротивляться не будет.
Бродяги отпустили пана Мотычку, тот с облегчением вздохнул и проговорил:
– Спасибо, спасибо вам.
– И нечего меня благодарить, не за что. Садитесь-ка лучше на это бревно да раздевайтесь. Вон у вас костюмчик-то какой: как раз то, что нам нужно.
Пан Мотычка остолбенел.
– Да вы не стесняйтесь, рубашку мы вам оставим, вы ведь ко мне всегда хорошо относились.
Пан Мотычка сделал, как было велено. А когда остался на лесной дорожке один, тяжело вздохнул.
– Да, странная благодарность, – подумал он. – Зато теория Ломброзо получила еще одно подтверждение, – добавил он с удовлетворением и медленно зашагал по тропинке к дому.
Невезение пана Бенды
Каждый день, входя в канцелярию, чиновник Бенда просил одолжить ему газету.
– Видите ли, – говаривал он, – газеты мне ни к чему, а все-таки хочется знать иногда, что там в мире происходит. Времена что ни день меняются, и мир тоже. А покупать газету или выписывать – это мне не по карману.
– Как это не по карману, – возражал официал Барта, сидевший напротив, – это вам-то, после стольких лет службы? И на попечении у вас никого, кроме дочери, нет. Просто вы жмот, вот и все.
– Эх, дорогой коллега, – защищался Бенда, – вы же знаете, я коплю деньги, чтобы дачку себе купить; и в газетах я только одни объявления и читаю. Как выйду на пенсию, переберусь на дачу и стану хозяйствовать. Дача у меня непременно будет с огородом, чтобы можно было в земле копаться. Прейскурант семян я уже приобрел.
В канцелярии раздался взрыв смеха.
– И что тут смешного? – возмущался Бенда. – Человек должен всем заранее запасаться. Так вот, окучу я, стало быть, грядки – и обедать, а после обеда пойду в хлев, загляну в кормушки…
Слушатели покатывались со смеху.
– Да ведь обед у вас уже был, – замечал младший чиновник Малый.
– Тоже мне умник нашелся, – сердился Бенда, – я затем в кормушки загляну, чтобы проверить, есть ли корм у коров. У меня ведь будут две коровы. И все тогда будет свое: масло, сыр и прочее. Я теперь по вечерам книги по сельскому хозяйству штудирую. Да, не забыть бы: после хлева пойду взглянуть на гусей и кур. Потом полдник – и на прогулку. Вот будет жизнь!
– Что ж вы до сих пор не купили дачу с хозяйством?
– Ишь вы какие шустрые! Дачи-то нынче кусаются! Уж где только не искал, все места вокруг Праги исходил – цены везде безбожные.
– Добрые люди говорят, что в Шарку вас не пускают, да и в Ржичаны с Мукаржовом вам тоже дорога заказана. Стоит, дескать, увидеть такого грошового покупателя, как людей просто в жар бросает, – отозвался официал.
– Вам бы все шутки шутить, – разозлился Бенда, – лучше бы дали газету просмотреть: нет ли чего насчет продажи?
– Есть там кое-что, будто специально для вас. Да вот – сами прочтите.
– Неужели? И не дорого?
– Еще бы! Вот, пожалуйста.
Официал Карта достал из ящика стола газету и ткнул пальцем в объявление:
« Продается домв Свойшицах под Брно, с земельным участком площадью 435 мер, в том числе 135 мер строевого леса, с богатым живым и мертвым инвентарем, в живописной местности. Подробности – у владельца Карела Сервуса. Ближайшая станция Свойшице. Цена 560 золотых».
Близорукий пак Бенда прочел объявление раз, другой, потом опустил руки на колени и, не замечая хитрых усмешек, воскликнул:
– Бог мой, до чего дешево, даже не верится!
– Да почему же не верится, – загорячился официал Карта, – сами знаете, Бенда, бывают на свете благодетели, которые спят и видят, как бы каждому да собственным хозяйством обзавестись. На такое, знаете ли, только благодетель способен. Вы только подумайте, 135 мер леса, 435 мер земли и дом – и всего за 560 золотых!
Практикант Лоуда за противоположным столом так смеялся, что с носа у него свалилось пенсне.
– Что тут смешного, если мне захотелось купить этот участок? – горячился Бенда. – Захочу и куплю. 560 золотых у меня найдется, может, и со скидкой уступит, раз уж он такой благотворитель. Для начала предложу 400 золотых.
– Но ехать нужно прямо сегодня же, – продолжал официал Карта, жестом утихомиривая смеющихся коллег, – по случаю такой дешевки там начнется столпотворение, я бы на вашем месте поспешил. Сейчас полдевятого, сходите к начальнику и попросите двухдневный отпуск, потом – сразу за деньгами, а в полдвенадцатого – на скорый до Брно. Через пять часов вы уже в Свойшицах.
– Это же расход какой! – ужаснулся Бенда.
– Да идите же, не то опоздаете, – торопил его официал, – каких-то 560 золотых – и сегодня вечером вы уже помещик. Господи, да ведь это почти даром, так и подмывает самому туда поехать.
Старый бухгалтер Бенда еще раз взглянул на объявление и пошел просить двухдневный отпуск.
– Жаль мне его, Карта, – сказал после его ухода официал Балота. – Приедет он туда, а его возьмут еще да посадят. Напрасно ты так, не нужно было стирать два нуля на конце!
– И поделом ему, скупердяю. У него дочка такая славная, а он никуда ее, бедняжку, не пускает, никуда ей нельзя: в театр – никоим образом, на танцы – ни-ни, все ведь больших денег стоит, пусть лучше дома сидит. Добро бы у него денег не было – так ведь он же выгодно женился, да еще от отца деньги достались, и теперь каждый год пару сотен откладывает – так пусть хоть раз за свою скупость поплатится. Вот будет потеха, когда он вернется из поездки!
– Только бы он из-за этих издержек с ума не спятил, – заметил практикант Лоуда.
– Так я поехал, – сообщил, просунув в двери голову, бухгалтер Бенда. – Начальник тоже советует ехать.
– Ну, желаем удачи, и не забывайте нас, когда станете большим барином, – напутствовал его официал Карта, – и смотрите, не забудьте: скорый на Брно отправляется в полдвенадцатого.
* * *
Помещик Карел Сервус, отдыхая после полдника, попыхивал сигарой.
– Странно, Йозефина, – обратился он к своей супруге, читавшей газету у окна, – в сегодняшней почте – ни одного предложения от покупателей. Может, 56 000 золотых кажутся им слишком высокой ценой? Если бы хоть кто-нибудь приехал, я бы, пожалуй, немного сбавил.
Раздался стук в дверь.
– Войдите!
В комнату вошел пан Бенда с чемоданчиком в руке.
– Мое почтение, – обратился он к помещику. – Я имею честь говорить с паном Карелом Сервусом?
– К вашим услугам.
– Я прочел сегодня ваше объявление, – продолжал Бенда, утирая потное худое лицо большим синим платком. – Так как ваше предложение меня устраивает, я приехал, чтобы увидеть предмет купли своими глазами. Разрешите представиться: старший бухгалтер Бенда из Праги.
– Весьма рад; я сейчас же велю заложить коляску, чтобы вы могли объехать все угодья и лес; а пока осмотрим жилые строения.
Всю дорогу бухгалтер Бенда издавал возгласы удивления и восторга.
Вернулись они только под вечер.
Помещик отправился в людскую отдать распоряжения на завтра, а пан Бенда остался с пани Сервусовой наедине.
– Ну как, вы довольны? – спросила его пани помещица.
– О да, милостивая пани.
– И цена ведь не чрезмерна, не так ли?
– Милостивая пани, – сказал Бенда просительным голосом, – я бы с радостью заплатил за все 400 золотых.
Пани Сервусова расхохоталась:
– О, да вы шутник!
– Ну хорошо, даю 500 золотых, – продолжал торговаться Бенда.
Взглянув на серьезное, осунувшееся лицо пана Бенды, пани Сервусова перестала смеяться. При свете лампы пан Бенда выглядел устрашающе. Он был совершенно лысый, со впалых щек свисали, как у турка, черные лоснящиеся усы, а, открывая рот, он всякий раз щелкал деснами.
И в довершение всего предлагает 400 или 500 золотых за поместье, которое они собираются продать за 56 000.
«Это сумасшедший, – подумала пани Йозефина. – Я не останусь рядом с ним ни секунды».
– Простите, – сказала она пану Бенде, – мне нужно посмотреть, где мой муж.
Поспешно выйдя, она разыскала пана Сервуса.
– Послушай, Карел, – сказала она, побледнев и с трудом переводя дух, – ну и покупатель к нам пожаловал! Он же сумасшедший. Представь себе, сперва он предложил за все четыреста золотых, а потом заговорил о пятистах. А вид у него! Глазами вращает и все время бренчит деньгами в кармане.
– Хорошенькая история! – вздохнул пан Сервус. – Я ведь тоже кое-что подметил, пока мы с ним ехали. Он и со мной заговаривал о четырехстах золотых, только я не мог его толком понять. Трижды меня «благодетелем» называл. Потом что-то бормотал про окучивание грядок и про кормушки.
У супругов вырвался сдавленный крик, потому что в людской появился пан Бенда:
– Даю 520 золотых за все – и по рукам! – произнес он, вращая глазами.
– Хорошо, хорошо, – сказал побледневший пан Сервус, снимая с гвоздя связку ключей. Вы еще не осмотрели подвалы. Возьмите с собой этот фонарь.
– Что ж, поглядим. Я хочу увидеть все.
Как только они спустились в подвал, пан Сервус схватил пана Бенду за горло, живо задул фонарь, швырнул Бенду на груду картофеля и бросился прочь, поспешно запирая за собой все двери.
– Я этого сумасшедшего запер. Утром его отвезут в Брно, – с довольным видом сообщил Сервус своей жене, поднявшись наверх. – Слышишь, как он там буйствует?
* * *
Через три дня пан Бенда вернулся в канцелярию, еще более осунувшийся и худой, чем всегда. На вопрос, как прошла поездка, он ответил с вымученной улыбкой:
– Не очень удачно; мне не повезло.
Больше из него не удалось вытянуть ни слова.








