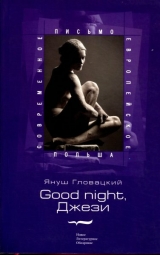
Текст книги "Good night, Джези"
Автор книги: Януш Гловацкий
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
New York crowd and highly protected party
Несколько лет я таскался по разным приемам на Манхэттене. Один опытный венгерский писатель, который занимался этим лет двадцать, а фильм по его сценарию был снят только один, убеждал меня, что это совершенно необходимо. «Ты можешь встретить знаменитость, которая тебе поможет. Никогда неизвестно: пойдешь отлить, а рядом отливает Стивен Спилберг. Или входишь в сортире в кабинку, а в соседней сидит Джордж Лукас. Ты снизу просовываешь ему сценарий, он его отправляет обратно, тогда ты перебрасываешь рукопись через перегородку. Непременно – всегда! – носи с собой один экземпляр своей пьесы или сценария и помни: ты сюда пришел не ради удовольствия, будь чертовски обаятелен, не надирайся мрачно в углу, заразительно смейся и рассказывай анекдоты. Если не удерживаются в памяти, заготовь шпаргалку», – и показал мне густо исписанный листок.
Большие приемы на Манхэттене, грубо говоря, делятся на highly protected parties, то есть элитарные, и обыкновенные, куда валом валит нью-йоркская мелюзга. Это – авторы плохо продающихся романов, второразрядные журналисты, которые даже если и получили когда-то Пулитцеровскую премию, то этому сто лет в обед, критики, на чье мнение всем плевать, художники из Европы, которым здесь не удалось пробиться, начинающие трансвеститы, безденежные продюсеры и модели, теряющие популярность или пока еще не востребованные. Последние вносят свои имена в списки, вывешенные у входа, – цветным фломастером и огромными буквами, в надежде, что их заметит нужный человек. Приемы такие чаще всего устраиваются в лофтах, то есть в превращенных в мастерские бывших фабричных цехах, которых полным-полно на нижнем Манхэттене, особенно между Хьюстон-стрит и Кэнел-стрит, потому что за Кэнел-стрит уже начинается Чайна-таун.
Иногда в толпе мелькнут светские хроникеры – мелькнут и исчезнут, удостоверившись, что тут не на кого тратить время. На Манхэттене, как известно, на двенадцать женщин приходится один мужчина, поэтому и на таких приемах преобладают женщины, часто еще красивые, но уже озлобленные, страдающие от горького нью-йоркского одиночества. Некоторые работают в издательствах или в рекламном бизнесе и, если бы постарались, могли бы даже чем-то помочь кому-нибудь из молодых неудачников. Но никто им особо не верит, да и сами они уже во всем разуверились и мрачно надираются. На следующий день идут на йогу, а потом в церковь, где обмениваются с себе подобными приветствием мира [11]11
Приветствие мира – обряд, совершаемый во время евхаристической литургии: после молитвы «Отче наш» и перед причащением прихожане, глядя друг другу в глаза, обмениваются рукопожатием в знак мира и любви.
[Закрыть].
На этих приемах не наешься, вечная толчея, изрядно спиртного и наркотиков и обязательно шумное веселье, приправленное печалью и настороженностью: как бы не пропустить свой шанс (которого, скорее всего, нет) – по собственной глупости или из-за того, что в разговоре ляпнешь лишнего либо не с тем, с кем надо, переспишь. Я знаю, о чем говорю, потому что ошивался на таких приемах добрых пару-тройку лет.
A highly protected party – совсем другое дело. У входа полицейские в мундирах, внутри охранники в штатском, блюда изысканные, напитки дорогие, все уже достигли всего, что только можно, или, во всяком случае, очень многого.
Собравшиеся не нуждаются в снотворном, не волнуются по пустякам, их страсти под контролем адвокатов, так что женщины не боятся разводов, а мужчины знают, что их женам невыгодно заводить серьезные романы. Даже старики здоровы, загорелы и молоды, иногда только на диво быстро устают, поднимаясь по лестнице, или ударяются в воспоминания о давно минувших временах; об их психическом здоровье пекутся самые дорогие психиатры, и самоубийством они кончают лишь после предварительного обсуждения.
Однажды я попал на такой суперэлитарный прием – меня пригласил женатый на польке знаменитый американский журналист, только-только награжденный Пулитцеровской премией. Прием устраивало французское посольство в великолепном особняке на Пятой авеню близ Семьдесят девятой улицы. Дресс-код обязывал явиться в белом, но, поскольку дело происходило летом, с костюмом проблем не возникло, а вот белых туфель у меня, к сожалению, не было; впрочем, ежу понятно, что я и не подумал таковые покупать на один раз в угоду нескольким буржуям. Это неэтично и неэкологично. Короче, я надел черные туфли, которые при моем белом наряде звучали, увы, диссонансом. Но в толчее сошло.
В качестве украшения и чтоб гости не скучали, были приглашены несколько звезд, а на лестнице пела чернокожая певица с Бродвея, свежеиспеченная обладательница премии «Тони». Яства по цвету соответствовали туалетам, разве что чуть желтоватую белизну шампанского нарушали утопленные в нем персики. Зато официанты превосходно играли роль официантов.
А теперь пора объяснить, зачем я все это рассказываю… Штука в том, что Кристина, жена знаменитого журналиста, обожает фотографировать, то есть не расстается с фотоаппаратом. Так что мы перемещались в толпе под неумолчное щелканье ее крохотного аппаратика. Внезапно в бельэтаже, недалеко от единственной в Нью-Йорке скульптуры Микеланджело, сразу за мраморной колоннадой, Кристина углядела абсолютно профессионально сымпровизированную мини-студию, где на фоне гобеленов времен Австро-Венгерской империи молоденький фотограф, потрясая гривой обесцвеченных волос, снимал выстроившихся в очередь белоснежных гостей. Кристина, таща меня за собой, устремилась в ту сторону; минуту спустя мне вручили черную табличку, на которой я белым мелком вывел каллиграфическим почерком свое имя, – тем дело и кончилось.
И вот пожалуйста: Деннис положил передо мной роскошный журнал. Открыл его на заложенной шестнадцатой странице. И я увидел, как стою, весь в белом (туфли отретушированы), неуверенно улыбаясь, и держу перед собой табличку, на которой написано мое имя – JANUSZ! А называется журнал «Gay and Lesbian in New York». Деннис повторил: «Почему ты никогда об этом не говорил?»
И потрепал меня по щеке – кажется, я покраснел, а он довольно заулыбался. Потом мы сидели за письменным столом и пили, чашку за чашкой, кофе. Деннис показал мне свою фотографию, на которой он, юный и счастливый, прижимается к Теннеси Уильямсу, тонко намекнул, что герой «Стеклянного зверинца», которого в фильме играл Джон Малкович, в значительной степени списан с него, и тут же спросил, не захочу ли я написать сценарий для фильма о Джези: он как раз только что встречался с немецким предпринимателем, у которого, похоже, серьезные намерения. Немец ищет писателя. Лучше кого-нибудь с Востока и чтобы был лично знаком с Джези. «Так что я сразу подумал про тебя, милый».
Меня окатило жаром. Давай, Янек, такой случай нельзя упустить. Моя страховка (дешевле не бывает) не включала лечение зубов. Я отпил глоток кофе и поспешно сообщил Деннису, что, конечно же, я хорошо знал Джези. Он был моим близким другом, мы встречались, и не раз. Сейчас, сейчас… я пососал ложечку. Первый раз в 1975 году; на стипендию госдепартамента я ездил по Америке и попросил, чтобы мне организовали с ним встречу; Джези согласился. Он тогда был на гребне успеха: его роман «Ступени» получил National Book Award, это не хухры-мухры, а самая престижная литературная награда в Соединенных Штатах. И в Польше он, естественно, был известен, но только по дико злобным разгромным статьям о «Раскрашенной птице» – книги его запрещено было издавать. Решив блеснуть эрудицией, я добавил, что ситуация почти как в «Мастере и Маргарите» Булгакова, где критики громят запрещенную книгу Мастера за «пилатизм», а народ московский не понимает, о чем вообще речь. Кстати, я заметил, что Деннис тоже не понимает, о чем я говорю, но тем не менее не умолкал. У нас писали, будто бы Джези строит карьеру на том, что оплевывает и порочит Польшу и поляков, изображая их психопатами и нутряными антисемитами, а единственный положительный герой у него – эсэсовец. Для пущего эффекта я добавил, что, говорят, было даже специальное заседание Политбюро, посвященное стратегии борьбы с Джези. А поскольку никто или почти никто коммунистической пропаганде не верил, это вызывало обратную реакцию, то есть восхищение.
Ну и именно тогда, в семьдесят пятом, мы с ним пообедали в ресторане «Европа» около Центрального парка, где Джези принимали как короля, а расплачиваться пришлось мне. К счастью, он ел только салат, поэтому я тоже взял себе салат, хотя терпеть его не могу. Тогда он меня предостерег, чтобы я берегся проволоки.
– Колючей? – заинтересовался Деннис.
Я замотал головой – Джези имел в виду цензуру. Он сказал, что писатели на берегах Вислы живут под стеклянным колпаком, через который проходит проволока под током; можно спокойно себе порхать, пока не коснешься проволоки, то есть правды. Тут писатель, как мотылек, муха или комар, затрещав, сгорает и падает вниз. А другие радуются, потому что им остается больше места.
– В точности как в Нью-Йорке, – усмехнулся Деннис. – Только у нас это все из-за денег.
В дверь просунул голову секретарь, потом вошел и подлил нам кофе.
– Помню, Джези мне рассказал, что в Польше предпочитал фотографировать.
По его словам, запечатленную на снимках нищету, уныние или старость цензура предпочитала не замечать. И еще он рассказал, что когда-то фотографировал то ли в психушке, то ли в доме престарелых, и там была хорошенькая молодая медсестра, к которой он подкатывался, а она ноль внимания. Ну и однажды он не выдержал и ночью прокрался в ее комнатку. А она у себя на кровати совокуплялась с каким-то заросшим шерстью дебилом, получеловеком, который убежал, подвывая.
Признания агента Денниса Б
– В этом весь Джези, – обрадовался Деннис. – Дом престарелых или психушка… я знаю двух-трех писателей, которые этим бы ограничились, Билли Фолкнеру, к примеру, ничего больше и не понадобилось бы. Но Джези обязательно должен был втыкать эту свою правду о человеческой натуре, какое-нибудь извращение – пустяшное или посерьезнее. И критики очень долго подобные штучки ему прощали, сваливая вину за пристрастие к садомазохизму на Гитлера. Не сделай Джези такой бешеной карьеры, его не прикончили бы. Человек так уж устроен: не может смириться с успехом ближнего. Начинает вынюхивать, не попахивает ли чем, или, как в покере, требует открыть карты, а у Джези как раз было, что проверять.
Поначалу я ему немножко помогал… видишь ли, я покупаю души, а потом их перепродаю. В Нью-Йорке все готовы и душу, и задницу продать задешево, лишь бы побыстрее. Тебя мне всучили практически задаром, да и его я получил за гроши. А продал в подходящий момент, с прибылью.
Деннис поговорил по телефону с Филипом Ротом, Джоном Гуаре и Дарио Фо. Мы выпили еще кофе, и Деннис задумался.
– Понимаешь, я не так чтобы очень люблю свою работу… надоело… нет времени почитать что-нибудь стоящее, сплошь сценарии или пьесы, вариант за вариантом, но иногда удается получить удовольствие. Попадется, скажем, полное ничтожество, а я сделаю из дерьма конфетку, вознесу выше крыши и рад безмерно: мое тщеславие удовлетворено. Такое чувство испытывают женщины, подсовывая обществу кумиров, сотворенных из своих любовников. Это под стать шуточкам Всевышнего. Согласись, что у Бога адское чувство юмора, иначе он бы не сотворил, например, Гитлера. Гитлер, конечно, лузер – гляди, сколько евреев уцелело.
Деннис опять ответил на несколько телефонных звонков, кому-то помог, кому-то перечеркнул пару лет работы и поломал жизнь. Потом продолжал, еще больше расчувствовавшись:
– Нет, таких, как Джези, еще поискать надо. Дьявольски уродлив и безумно красив, дико жаден и абсолютно бескорыстен, очень хитер и ужасно глуп. Постоянно кем-то прикидывался, кого-то изображал, у него был незаурядный актерский талант. Я говорю не о роли в «Красных» Уоррена Битти [12]12
«Красные» (1981) – осыпанный наградами фильм актера и режиссера Уоррена Битти (р. 1937) о жизни американского писателя, журналиста и коммуниста Джона Рида; Ежи Косинский сыграл в нем Григория Зиновьева.
[Закрыть], а в жизни… Будь он только актером, его бы, возможно, не затравили – актерам многое прощают, собственно, не очень понятно почему… Может, в общем и целом от них меньше вреда… Я чувствовал, что он чего-то боится, но боялся он осторожно, а бояться осторожно значит быть агрессивным, он и был агрессивным. Согласись, Джанус, мы, геи, гораздо мягче… А предпринимателя этого зовут Клаус Вернер. Джанус, солнышко, неужели я сумею на тебе заработать?
Кафе «Провинция»
Снег шел несколько дней. Крупные тяжелые хлопья засыпали тротуары и мостовые. Людей и машин на Бродвее почти не было. Автобусы и такси осторожно ползли по скользкой ледяной корке.
– Ты веришь в сны? – спросил Клаус Вернер.
Я пробормотал довольно невразумительно: смотря какой сон… Конечно, в снах всегда есть что-нибудь интересное, что-то они означают… и так далее, в том же духе.
– А лучше бы верил. Ведь, в сущности, все началось с Машиного сна, который приснился ей в Москве, в маленькой арбатской квартирке. Ну и с того, что у меня сломался третий верхний зуб. Я ел сырокопченую колбасу, такую, знаешь, пахнущую костром, дымом и полем. Это было лет тридцать назад, кажется, в тысяча девятьсот восемьдесят первом, в самом начале. Я тогда много проектировал. Поехал в Москву. По делам. И заодно решил посмотреть коллекцию одного молодого дизайнера, его уже нет в живых, то ли застрелили, то ли умер от СПИДа. Не помню.
Мы с Клаусом уже второй час сидели в крохотном кафе на Бродвее, между Девяносто девятой и Сотой улицами. Местечко это называлось «Провинция», там пахло кофе, свежей выпечкой и пылью. Всего два столика у окна и несколько стульев перед висящим на стене длинным зеркалом. Сзади шумел большой холодильник, за стойкой стоял кофейный аппарат – когда-то, вероятно, сверкающий. На Верхнем Манхэттене таких мест теперь уже немного. В стеклянной витрине лежали французские песочные пирожные и круассаны, а из деревянной корзинки торчали свежие багеты. Хозяин, кажется, ирландец, приносил нам кофе и скрывался где-то в подсобке. На противоположной стороне улицы, почти невидимые в снежной мгле, высились два островерхих тридцатидвухэтажных дома. Мы, собственно, все уже обсудили, но тепло, кофе и снегопад за окном удерживали нас в этом маленьком уютном дупле.
– Тебе нравится мой пиджак?
Пиджак был из тонкого кашемира, черный, приталенный, на одной пуговице. Из левого кармана выглядывала обложка «Портрета художника в юности».
– Любишь Джойса?
– Нет. Почему ты спрашиваешь? – удивился Клаус Вернер. – Я и снег не люблю.
У него было усталое серое лицо и печальные круглые, посаженные чуть слишком близко к острому носу глаза; светлые длинные волосы тщательно зачесаны назад. Наверное, он их красил, потому что брови у него были черные. По-английски говорил почти без акцента, гораздо лучше меня. Мы в третий раз заказали два двойных эспрессо. Чашечки, украшенные японскими рисунками, были маленькие, кофе – на донышке.
– Не люблю я снег, – повторил он. – Тогда тоже всю Москву завалило. Я пошел с этим зубом к Соломону Павловичу. Он работал в правительственной клинике, но в квартире у него был нелегальный частный кабинет, очень неплохо оборудованный. Принимал Соломон Павлович только избранных. Я к нему попал по протекции солиста Большого театра, мы познакомились в Париже, он танцевал в «Лебедином озере» принца Зигфрида, кстати, блестяще. На банкет после спектакля пришел в тоненькой льняной рубашке, типа косоворотки. Я не удержался и спросил, сколько она стоит, – оказалось, такую прелесть в Москве можно купить меньше чем за две западных марки. В Мюнхене за нее содрали бы все пятьдесят.
Я не раздумывая предложил танцору стать моим партнером. В Москве он был богом, поэтому все переговоры с властями и фабрикой взял на себя. Бизнес шел отлично… Впрочем, вернемся к Соломону Павловичу. Ну и тип был! – Клаус неожиданно улыбнулся, почти не разжимая губ. – Маленький, толстенький, щеки, когда надо мной нагибался, тряслись как желе. Волосы черные, кудрявые, на макушке розовая лысинка. Латая мой зуб, мурлыкал шлягеры конца сороковых и заигрывал с молоденькой ассистенткой, у нее были нечеловечески длинные ноги. Он все делал очень быстро, а она с ленцой, белый халат едва прикрывал бедра, сапожки – выше колен. Помню, от нее замечательно пахло; добавь к этому бесстыжие глаза и безмятежную уверенность в будущем.
Дантист этот попеременно пломбировал зуб и отпускал игривые шуточки, напевал и благодарил Бога. Благодарил в основном за то, что Всевышний не стал создавать человека, к примеру, трехметрового роста и с огромными клыками, а, не питая иллюзий относительно человеческой природы, но заботясь о сохранении вида и вообще жизни на Земле, подарил людям зубы мелкие и хрупкие, требующие постоянной починки, такие, что жевать можно, а загрызть уже довольно трудно. Правда, человек не сплоховал и изобрел «Калашникова».
Клаус Вернер погладил лацканы.
– Тебе не кажется, что Джойс подходит к этому пиджаку? Когда-то я много проектировал, – повторил он. – Но сейчас идеи иссякли. В Мюнхене у меня пара фабрик по пошиву белья. В семье ко мне не относятся всерьез. Вот у моего брата большая адвокатская контора и акции судоверфей в Гамбурге, экспорт-импорт, понимаешь ли.
Я утешил его, сказав, что идея с Джойсом очень недурна. Он махнул рукой.
– Соломон Павлович, шлифуя мой обновленный зуб, заявил, что он не слепой. Он видит, что жестокость стала нормой, а справедливости в мире как не было, так и не будет. Но все равно прав был Лебедев-Кумач, написавший: «Как хорошо на свете жить!»
И тут, когда я, уже прополоскав рот, рассматривал в зеркальце свой новый зуб, вошла Маша. Боже, как она была хороша – хотя об этом не подозревала. На ней были мешковатые индийские джинсы и черный свитер, похоже, самодельной вязки. Высокая, тоненькая, для модели, пожалуй, низковата, но у нее был изумительный рот. Верхняя губа – будто чуть припухшая… раскосые, как у китаянок, глаза. Но не черные, нет, холодного синего цвета – и длинные светлые волосы. Сказала, что бабушка заболела и послала ее отнести яйца, и спросила, может ли рассказать свой сон. Соломон Павлович к снам относился очень серьезно. Мы все удобно уселись, он сказал: прошу, – и она начала рассказывать.
Сон Маши
Мне снилось что я попросила Бога чтобы дал мне почувствовать какой он и добавила что сердце у меня слабое а душа слишком маленькая чтобы выдержать его свет но я прошу пусть позволит хоть немножечко себя почувствовать я долго ждала в темноте вдруг стало светло-светло и я увидела цыплят они висели вверх лапками без голов и без перьев ровными рядами я почуяла запах свежего мяса такой гадкий что меня чуть не стошнило и увидела синеватое свечение они висели в таком бесконечно длинном зале вроде операционной в больнице зазвонил звонок раз и потом еще раз доски пола разъехались и эти цыплята вместе с чугунной решеткой на которой висели упали в кипящее масло да это же цыплячий ад подумала я где-то за дверью птицы сопротивлялись и верещали ну и что подумала я все равно быть им изжаренными в России есть пословица кому суждено утонуть того не повесят а тут пожалуйста ощипали зарезали повесили утопили и еще изжарили такая вот судьба
– Что-то вроде барбекю? – спросил я.
– Ну да… «Чикен Хауз».
– И что?
– Она проснулась.
– А что с Богом?
– То же самое спросил у Маши Соломон Павлович. – Кажется, так и не показался.
Вниз по Бродвею проехали две снегоуборочные машины с огромными плугами, наваливая сугробы на припаркованные у тротуаров автомобили.
– Не клади столько сахару, – сказал Клаус. – Это ад. Маше я не мог этого объяснить, а ты как думаешь, Джези спал со своей матерью?
За окном прошли двое чернокожих мужчин с лопатами. За откапывание машины они брали 30 долларов. Желающих я пока не видел.
– Я об этом не думал.
– А ты подумай. Он говорил, что хотел бы в благодарность матери за то, что его родила, подарить ей наслаждение. В одной книге у него есть сцена: секс с матерью. Когда же этот снег прекратится!
– Я подумаю. Пару лет назад столько нападало, что народ ездил по Бродвею на лыжах.
– Не люблю Бродвей. – Он тряхнул головой. – Напоминает мне грязную беззубую бабу, пропахшую мочой и забивающую запах духами… позолоченную, правда, но краска облезает. Только и толку от этого снега, что чуть-чуть ее прикрыл.
Клаус встал и расплатился.
– Через четыре часа у меня самолет. Если он вообще вылетит. В понедельник позвоню Деннису и скажу, что мы договорились, пусть отправит моим юристам в Мюнхен проект контракта. Я пришлю тебе Машины записки. Те, которые Джези у нее украл. Наверняка хотел опубликовать под своим именем. Но не мог вспомнить, куда спрятал. Ты знаешь русский?
– Учил в школе, читать могу.
– А я знаю довольно хорошо… они любопытные. Первая часть по-русски, потом она начала писать по-английски. У нее это неплохо получалась, она быстро схватывала языки. По-английски писала лучше, чем он, когда опубликовал «Раскрашенную птицу». Записки Машины он спрятал в какой-то чемодан, а код забыл. У него весь шкаф был забит чемоданами, которые он не мог открыть. Терял память. А было-то ему всего пятьдесят с небольшим. Когда уже все было кончено, жена эти чемоданы вскрыла.
– И отдала записки тебе.
– Скажем. – Он улыбнулся, как и раньше, почти не разжимая губ. Но в его круглых глазах улыбки не было.
– Дорого заплатил?
– Она держалась в рамках приличия. Через две недели я снова приеду и расскажу кое о чем – как это выглядело с моей стороны. Если мы с Деннисом договоримся, я тебе еще кое-что пришлю.
– Мне бы хотелось увидеть Машу…
С минуту мы оба молча глядели на улицу.
– Хорошо, – наконец кивнул он. – Если она согласится. Но вряд ли это будет приятно.
Он что-то написал на салфетке. Это был номер телефона и имя: Джоди.
– Джоди?
– Джоди, – подтвердил он. – А Джези мой пиджак понравился.
И сразу потянулся за плащом. Вроде бы плащ как плащ, серый поплиновый, но подбитый норковым мехом. И еще надел то, чего в Нью-Йорке никто не носит, – шляпу.
– Кажется, за несколько часов до того, как это сделать, он попросил таксиста закрыть окно, боялся простудиться, берег горло. Я пришлю тебе пару страничек о том, как у него побывал. Довольно унизительно, но я записал. А ты сразу приступай, не откладывая. Мне б хотелось, чтобы съемки начались осенью, пока я не решил, что это дурацкая затея.
Он тщательно завязал шарф. На улице снег мигом облепил нас мокрой ватой. Только теперь я заметил, что он немного прихрамывает.
– Еще одно, – сказал он, озираясь в поисках такси. – С чего ты хочешь начать?
– Пожалуй, с ногтей – длинных, накрашенных кроваво-красном лаком – и ванны.








