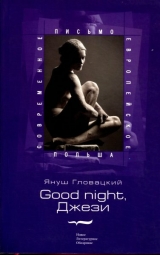
Текст книги "Good night, Джези"
Автор книги: Януш Гловацкий
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Правда и ложь о Джези
Предисловие
История возникновения этой книги почти так же сложна, как и ее тема: жизнь польско-американо-еврейского писателя Ежи Косинского, автора мирового бестселлера «Раскрашенная птица», который покончил с собой в своей нью-йоркской квартире в 1991 году. Гловацкий начал писать о Косинском много лет назад: сначала это должна была быть пьеса, потом киносценарий (звучало даже имя предполагаемого исполнителя главной роли – Шон Пенн), но планы так и не осуществились. Отчасти даже понятно, почему не удалась попытка доступно рассказать американскому зрителю историю Косинского с театральной сцены или экрана. Его биография только на первый взгляд готовый сценарий о чудом спасшемся во время Холокоста еврейском мальчике, который завоевал мир романом о своих мытарствах в годы войны, чтобы закончить жизненный путь в ванне, с пластиковым мешком на голове и барбитуратами в крови. Чем глубже влезаешь в детали, тем труднее охватить целое, правда о Косинском не дается в руки, и попытки превратить биографию в логичное повествование с причинно-следственными связями заканчиваются ничем.
Происходит так потому, что Косинский, которого мы знаем, плод вымысла, притом вымысла непоследовательного: так бывает, когда лгут о себе. Потянешь за одну ниточку (скажем, это будет его склонность к садомазохизму), рассчитывая, что она приведет к клубочку и тут-то откроется подлинная сущность писателя, но тебя ждет сюрприз: нить обрывается, и приходится начинать все сначала. Кажется, что ты уже почти разгадал загадку его придуманных военных переживаний, как вдруг обнаруживается подлинная травма мальчика, преследуемого ровесниками со всей жестокостью, на какую способны дети по отношению к другим детям, и карточный домик рассыпается.
Косинского удалось поймать только в густую сеть прозы, хотя цена этому – аморфность и фрагментарность композиции. Гловацкий объединяет сценарий (а скорее, новеллу, которая могла бы стать основой киносценария) с рассказом о том, как он создавался, вводя между героем и читателем свой порт-пароль: фигуру польского писателя, который пишет сценарий о Косинском по заказу немецкого бизнесмена. В общий котел попадают его личные воспоминания (схожие с вошедшими в автобиографическую книгу «Из головы» [1]1
См.: Гловацкий Я.Из головы / Перев. И. Подчищаевой. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
[Закрыть]), а также сны некоторых персонажей, письма продюсера к сценаристу, тема русской художницы, из-за которой соперничают Косинский и этот самый немецкий бизнесмен-продюсер. И, будто этого мало, Гловацкий посвящает целые страницы описаниям топографии и социальной атмосферы Нью-Йорка, в частности русского анклава на Брайтон-Бич, где на берегу океана разыгрываются сцены родом из «Брата-2» Алексея Балабанова. В этом скопище сюжетных линий, явных и скрытых цитат и само-цитат нетрудно заблудиться… /…/
Так чего же хотел автор «Good night, Джези»? Наверняка он не стремился раскрыть всю правду о Косинском, к тому же многие мистификации уже развенчаны. /…/ Может быть, Гловацкий старался реабилитировать Косинского, которого пропаганда ПНР обвиняла в полонофобии? Тоже нет: автор сохраняет дистанцию по отношению как к критикам писателя, усматривавшим в его мистификациях следы еврейского заговора с целью исказить незапятнанный образ Польши, так и к его апологетам (одним из которых был Эли Визель). В книге есть эпизод с поляком-вымогателем, шантажирующим родителей маленького Ежи, но в другом эпизоде, на приеме для нью-йоркской элиты, Косинский защищает польских Праведников мира: «Нельзя без конца смотреть в глаза смерти и жить Освенцимом. В конце концов, я и мои родители выжили только благодаря великодушию польских крестьян», говорит он.
Что же остается? Литература. /…/ По сути, это книга не столько о Косинском, сколько о самом Гловацком – писателе из Восточной Европы, который пытается заинтересовать собой и своим творчеством Нью-Йорк. Неслучайно он уделяет много места литературной кухне, описывает беседы с продюсерами и агентами, торгующими писателями, как гоголевскими мертвыми душами, весь этот огромный механизм, который может в мгновение ока вознести на самый верх или сбросить в пропасть. Кем является писатель? Свидетелем истории? Жертвой большой политики? Совестью? Гловацкий отвечает: в сегодняшнем мире это просто человек, который придумывает истории, чтобы другие их читали; он зависит от своих читателей, в определенной степени он – наемный работник. Как же это далеко от польского мифа о писателе вдохновенном пророке, совести народа и лидере! У Гловацкого писатель обслуживает общество и рынок, зависим от моды и конъюнктуры. /…/
И тут приоткрывается тайна Косинского. Ад, через который он прошел во время войны, оказался недостаточно кошмарным, чтобы затронуть душу американского читателя. И писатель, пойдя навстречу пожеланиям читателей, сделал этот ад еще более адским и бесчеловечным. Не отрицая, что это выдумки… Гловацкий показывает, что лучшая книга, написанная Косинским, – он сам. Джези понял, что с биографией можно обращаться так же, как с художественным вымыслом. Проблема в том, что признаваться в этом нельзя, иначе писатель может потерять все, в том числе жизнь, что и произошло в случае Косинского.
Следует ли считать это оскорблением литературы? А читателей – эриниями, преследующими уцелевшего в пекле Холокоста еврейского Эдипа? Возможно ли, что человек, сочиняющий вымышлено-правдивые истории, сам накликает на себя беду? Гловацкий задает больше вопросов, чем предлагает на них ответов. «Good night, Джези», безусловно, одна из лучших его книг, личная и выстраданная. И совсем не жалко, что с фильмом пока ничего не вышло.
Роман Павловский
GOOD NIGHT, ДЖЕЗИ
Олёне
Дорогой Янек, сказала женщина, которую я любил и которая желала мне добра. Умоляю, напиши эту историю без шуточек, всерьез. Это твой последний шанс. Людям надоел твой цинизм. Если ты этого не сделаешь – тебя затравят. А я с затравленным жить не буду.
Я пообещал сделать все, что смогу, поскольку не хотел, чтобы и она от меня ушла.
Год назад, до того как все раскрутилось
Роджер и Рауль – известные бродвейские продюсеры. Я посетил их в пентхаусе на западной стороне Верхнего Манхэттена. Особняк на крыше двадцатиэтажного небоскреба, кругом обнесенный террасой. Вид – в полном порядке. С одной стороны река Гудзон, раз в пять шире Вислы в самом широком месте; от океана по ней медленно плыли два больших корабля. На другом берегу горели огни Нью-Джерси, чуть дальше светились пилоны моста Джорджа Вашингтона. Справа – Бродвей и Центральный парк.
Нью-Джерси – вроде бы отдельный штат, но от Нью-Йорка зависит так, что дальше некуда. Рабочих мест там мало, зато комплексов предостаточно. И если кто-то родился на ненадлежащей стороне Гудзона (разве что в очень богатой семье), то его шансы хоть чего-то добиться на Манхэттене невелики. А для тех, кто родился, скажем, в Лодзи на Гданьской улице, Манхэттен вообще недосягаем. Впрочем, Манхэттен непредсказуем. Как правило, можно угадать, у кого есть шансы, а у кого нет, но здесь подающие надежды исчезают бесследно, а абсолютно безнадежным неожиданно удается всех обскакать.
Домишко на крыше был окружен небольшими джунглями. В гигантских кадках росли банановые и апельсиновые деревья, секвойи и пальмы. К одной из пальм, крепко обняв ствол, притулилась крупная игуана, а в креслах спали четыре кота. Продюсеры были в черных траурных костюмах: несколько дней назад пятый кот – Каблучок – заснул на подоконнике, упал и разбился о вестэндскую мостовую. Оба не исключали самоубийства, поскольку для кошек на Манхэттене депрессия – обычное явление. Похоронили Каблучка на элитарном кладбище в Нью-Джерси, там, где покоится знаменитый лев, который до сих пор рычит на заставках фильмов MGM [2]2
Metro-Goldwyn-Mayer – американская медиакомпания, специализирующаяся на производстве и прокате кино– и видеопродукции. (Здесь и далее – прим. перев.)
[Закрыть].
Беседовалось нам легко, потому что у меня тоже есть два представителя кошачьего племени. Один – огромный рыжий котище из Бруклина, наглый и самоуверенный. Как-то ночью я ждал автобуса на восточной стороне Манхэттена, на углу Девяносто шестой улицы, возле Центрального парка; место было не из приятных – пусто, темно, пронизывающий ветер. Ну и, разумеется, из тьмы вынырнул здоровенный негр с деревянной клеткой. Минуту я прикидывал, велики ли шансы убежать, но слишком продрог и устал, чтобы сдвинуться с места. Он подошел и спросил, не могу ли я ему помочь. Я быстро достал пять долларов. Он вытащил из кармана стянутую резинкой пачку стодолларовых купюр и присоединил к ним мою пятерку.
– Нет, брат, я не это имел в виду, но все равно спасибо, – сказал он. – Возьми кота.
Я ответил, что у меня уже есть кошка.
– Значит, будет пара. Он здоровый, сильный и кастрированный. Родился в Бруклине, а звать его Башмак.
Поставил клетку на землю и ушел. Я кричал ему вслед, но он не обернулся. Я отнес клетку домой и открыл. Изнутри выполз рыжий. У него была круглая башка, большущие лапы и золотисто-желтые глаза. Он равнодушно оглядел меня и отправился изучать квартиру. Кошка с Манхэттена, невротичка, мигом слетела со своего места на диване. Башмак подошел к мисочке с питательным кошачьим кормом, недоверчиво его обнюхал и начал есть. С тех пор у меня две кошки.
Мы пили вино, говорили о самоубийствах, и все шло хорошо, пока я не упомянул, что пишу пьесу о Джези. И изложил первую сцену.
Сцена первая
Итак, квартира – удобная, но небольшая, в центре Манхэттена. За окном мерцает красная неоновая реклама «American Airlines – Something Special in the Air» [3]3
Американские авиалинии – такого в воздухе еще не видели (англ.).
[Закрыть]. Год 1982, зима. Часть living room отгорожена бордовой портьерой. Там спит жена. Этой части комнаты мы не увидим, жена появится на сцене лишь один раз, почти в самом конце, а пока будет слышен только ее голос. Рядом с living room – кабинет писателя. И тут же ванная, очень важное место. На стене ванной старая поблекшая черно-белая фотография: родители держат за руки маленького мальчика. В living room за столом сидит за шахматной доской отец Джези, одетый так, как одевались состоятельные еврейские мещане в 1940 году. Входит Джези – сегодняшний, нью-йоркский, пятидесятисемилетний. (В этой пьесе постоянно будут происходить скачки во времени, годы – накладываться один на другой, путаться, как оно бывает в жизни.) Худощавый, высокий, с буйной копной черных волос. Снимает пальто. Остается в костюме и белой рубашке. Разумеется, галстук, черные дорогие туфли. Он на добрых два десятка лет старше своего отца. Которого, кстати, не замечает. Зато отец на секунду поднимает голову, провожает сына взглядом, пожимает плечами и возвращается к анализу шахматной партии. Джези на ходу бросает в сторону портьеры:
Джези.Я пришел.
Жена( из-за портьеры). Хорошо провел время?
Джези.Прекрасно. Спокойной ночи, милая.
Жена.Good night, Джези.
Джези входит в кабинет и проверяет автоответчик. Слушая, пускает в ванну горячую воду.
1. Это Джоди. Очень хочу тебя увидеть. Позвони.
2. Dear sir, on behalf of the Yale University, of Literature Department. We would like to invite you… [4]4
Вас беспокоят из Йельского университета, с кафедры литературы. Мы бы хотели вас пригласить… (англ.).
[Закрыть]
Джези прокручивает пленку вперед.
3. Это Джоди. Мне нужно с тобой поговорить. Позвони.
4. Голос женщины, с сильным испанским акцентом: Jezey, you mother fucker, don’t try to fuck with me or you’ll be fucking sorry [5]5
Джези, твою мать, кончай свои долбаные шуточки, не то пожалеешь (англ.).
[Закрыть].
5. On behalf of Spertus College of Judaica… [6]6
Это институт иудаики имени Спертуса… (англ.).
[Закрыть]
Джези снова прокручивает пленку.
Письменный стол, заваленный книгами, книжные шкафы, стопка номеров «New York Times Magazine» [7]7
Воскресное приложение к «New York Times».
[Закрыть]. На обложке – Джези в бриджах и высоких сапогах для верховой езды. Стоит перед конюшней, обнаженный по пояс; в руке хлыст.
Теперь он залезет в ванну. Закрывает дверь ванной или задергивает занавеску. Музыка. Вначале Фрэнк Синатра, потом вклиниваются польские довоенные шлягеры типа «Любовь тебе все простит» [8]8
Песня из фильма «Шпион в маске» (1933 г.; музыка Генрика Варса, слова Юлиана Тувима; в том же году эту песню, написав к ней русский текст, включил в свой репертуар Петр Лещенко); исполняет песню знаменитая эстрадная певица Ханка Ордонувна.
[Закрыть].
А через минуту из ванны вылезает маленький мальчик. Освещение меняется. Прожекторы высвечивают мебель и предметы, которые раньше не были видны. Сейчас 1940 год. Немецкая оккупация, квартира, в которой живет маленький Джези (тогда еще Ежи, Юрек) с родителями. Неоновой рекламы за окном нет. Мальчик подходит к столу, за которым склонился над шахматной доской отец. Садится, присматривается к фигурам. Отец, не глядя на него, бросает:
Отец.Перекрестись.
Мальчик медленно крестится.
Отец.Быстрее!
Мальчик крестится быстрее.
Отец.Как тебя зовут?
Мальчик.Юрек.
Отец.Какой Юрек?
Мальчик.Левинкопф.
Отец наотмашь бьет его по лицу, опрокидывая несколько фигур.
Мальчик пытается поставить их на место. Отец повторяет:
Отец.Как тебя зовут?
Мальчик.Юрек Левинкопф. Отец встает и вытягивает из брюк ремень.
Отец.Как тебя зовут, щенок?
Мальчик.Юрек ( отвечает со слезами на глазах, затем быстро повторяет несколько раз). Юрек, Юрек, Юрек Косинский.
На сцену входит мать – очень красивая, в элегантной шубе. На воротнике серебрятся снежинки. Из-под модной шляпы выбиваются изумительные черные волосы. Мальчик подбегает к ней, прижимается пылающим лицом к шубе. Мать нежно его целует и с укором смотрит на мужа, прячущего за спиной ремень.
Мать.Моше, ты его бьешь не потому, что хочешь чему-то научить, а только потому, что тебе это нравится.
Отец.Да вы рехнулись. Если хотите, чтобы я вас провел через ад, извольте слушаться. Оба.
Мальчик, исполняющий роль Джези(режиссеру). Он меня по правде ударил.
Режиссер(его не видно). Молчать! Играть!
Мать.Юрек, что бы ни случилось, помни: мамочка тебя очень любит ( небрежно бросает шубу на пол и уходит со сцены).
Отец.Мечислав! Не Моше, а Мечислав!
Потом в отчаянии машет рукой и утыкается в шахматную доску. Из-за кулис доносятся звуки фортепьяно. Это мать красиво играет «Мефисто-вальс» Листа. Мальчик поднимает шубу и с жадностью вдыхает материнский запах. Возвращается в ванную. Освещение меняется. Сейчас уже снова Нью-Йорк и мерцающая за окном красная неоновая реклама.
– Недурно, – вздохнул Роджер, подливая нам черное чилийское вино. – Недурно, только, собственно, что нового ты хочешь о нем рассказать?
Мы сидели в удобных тростниковых креслах. Был октябрь, иначе говоря, индейское лето, что-то вроде польского бабьего. С Гудзона поднимался туман, корабли уже проплыли, огни Нью-Джерси чуть потускнели. Роджер в последнее время немного располнел, но для своих семидесяти пяти выглядел превосходно. Взгляд его водянистых круглых глаз пронизывал насквозь, а губы находились в постоянном движении: он имел обыкновение жевать салфетки, театральные билеты, парковочные квитанции, из-за чего частенько случались неприятности.
– То, что он постоянно врал, все мы знаем, – добавил Рауль. – И то, что почти совсем забыт, тоже известно.
На колени к Раулю вскочил жирный черный кот, принялся мордой пихать его в живот, требовать ласки. И Рауль, забыв про все, занялся котом, который пришел в экстаз: выгибался, задирал хвост, выпячивал зад. А когда Рауль послушно стал почесывать его возле хвоста, завыл – скорее по-собачьи, чем по-кошачьи.
– Конечно, он был умен, даже очень умен. – Роджер с умилением следил за выходками кота. – Возможно, настолько, чтобы подозревать, что большая часть им написанного ничего не стоит и при малейшем ветерке рассыплется как карточный домик. – Он перегнулся к Раулю и дунул коту в задницу. – И потому решил напоследок устроить грандиозный спектакль. Помнишь, Рауль, Джези часто говорил, что самоубийство – лучший способ продлить себе жизнь.
С минуту мы все смотрели, что выделывает черный кот. Его собратья наблюдали за ним вместе с нами. Заметно оживившись, они начали потягиваться и выгибать горбом спину на своих креслах.
– Но почему же все вы так его превозносили? – спросил я. – Писали, что Джези – помесь Беккета с Достоевским, Жене и Кафкой.
– Ну Майкл, довольно, хватит. – Рауль попытался сбросить кота на каменный пол, но тот вцепился когтями в его брюки. – Кончай, черномазый.
Кот в конце концов сдался и мягко спрыгнул на пол.
– Посмотри, Роджер, кровь… опять у меня останутся следы когтей, – пожаловался Рауль.
– Почему, почему… – Роджер пожал плечами. – Промой перекисью, радость моя, и принеси еще одну бутылку. – Он улыбнулся Раулю и проводил его нежным взглядом. Рауль был родом из Сан-Хосе, намного моложе Роджера, двигался как хищный, хотя и прирученный зверь. – Вероятно, потому, что мир давно уже потерял способность отличать талант от бездарности и ложь от правды. А может, по какой-то иной причине. Может быть, потому, что такого, как Джези, Америка никогда прежде в глаза не видела. Поэтому он нас всех и поимел. А теперь, насколько мы понимаем, Джанус, ты собираешься ему посмертно вставить.
– Минуточку, – сказал я. – Погодите…
– Только не обижайся. Помнишь, Рауль, как странно от него пахло?
– Вроде бы пачулями, – заметил Рауль.
– Нет, нет, нет. Это были не пачули. Тебе когда-нибудь приходило на ум, Джанус, что душа имеет запах? Может пахнуть козлом, а может и розой. Сказано ведь, что Бог, создавая человека, вдунул в него дух свой, но, возможно, в этот же самый момент подполз дьявол и как дунет ему в задницу… У меня только одна просьба: не держи нас за дураков и не говори, что хочешь написать о нем правду.
– Вот именно, – вставил Рауль. – Помни: чем дальше от правды, тем ближе к Джези.
Роджер согласно кивнул.
– Так или иначе, желаем тебе успеха. Конечно, на тебя сразу же набросится целая свора с криками, что знали его лучше, чем ты, и вообще все было не так. Но тебе это не должно мешать, потому что ты его оттрахал первым. Только на нас, пожалуйста, не рассчитывай. Мы не уверены, помнит ли еще в Нью-Йорке хоть один человек, кроме нас, кто такой вообще был Джези.
– Ну, это уж вы преувеличиваете, – сказал я.
Рауль откупорил новую бутылку, а у нас под ногами три кота присоединились к черному и сбились в клубок – мяукающий и воющий, царапающийся и кусающийся. Начиналась оргия кастратов.
На следующий день погода испортилась, внезапно полил дождь. Но я пошел в Barnes&Noble – огромный многоэтажный книжный магазин на Бродвее напротив Линкольн-центра – и попросил что-нибудь Косинского.
– Кого? – спросил молодой продавец. – Пожалуйста, по буквам.
Я повторил раз, второй, третий, уже сквозь зубы. Он постучал по клавиатуре компьютера, покачал головой и сказал:
– Ничего.
– Ничего?
– Ничего!
Я скис и, отравленный сомнениями, махнул рукой на Джези.
Туман
Много лет назад в одном варшавском театре я видел нашумевший спектакль по «Войне и миру». Не помню, кто ставил. Во всяком случае, это была знаменитая инсценировка Пискатора [9]9
Эрвин Пискатор (1893–1966) – крупный немецкий театральный режиссер, один из создателей политического театра, коммунист.
[Закрыть]. Из всего спектакля мне запомнилась одна сцена. После Бородинского сражения Наполеон, даруя жизнь Петру Безухову, сообщает ему: «Для вас это судьба, для меня – случай». Еще я помню, что актер, выступавший в роли рассказчика, был геем. Когда он говорил, что поле битвы заволокли туман и дым, мне мешало следить за смыслом то, как смешно, претенциозно растягивая гласные, он произносил эти «тума-а-а-а-ан» и «ды-ы-ым». Гомосексуалистов тогда в Польше, мягко говоря, не жаловали. Они встречались ночами в каких-то катакомбах и, точно первые христиане, узнавали друг друга по тайным знакам.
Замечательный писатель Юлиан Стрыйковский рассказывал мне, что, убежав от немцев из Львова в сорок первом году, оказался в Москве, где с гомосексуализмом не на шутку боролись. Однажды вечером, затосковав, он не выдержал и, прикрывая лицо шарфом, отправился в общественный туалет. И там, в дальнем углу, заметил мужчину, тоже прячущего лицо. С замирающим сердцем, опасаясь провокации, он все-таки стал осторожно к нему подкрадываться и вдруг узнал знакомого львовского художника. Они со слезами пали друг к другу в объятия. Юлек признался мне, что подобных случаев во время той страшной войны было много. Я умолял его написать историю Второй мировой войны через призму таких вот встреч в общественных туалетах – это было бы гениально! Стрыйковский покачал головой: да, он и сам подумывал, но ведь он диссидент, а это могло бы скомпрометировать его как борца с коммунизмом.
Так или иначе, впереди еще не раз зайдет речь о судьбе и случае.
«Маша, – записал впоследствии Клаус Вернер, – сказала мне, что случай – это всего лишь кнут, которым судьба подгоняет то, что неминуемо».
Мой агент меня не любит
Мой литагент меня не любит. Я даже не знал, какого роста Деннис: высокий или невысокий, – потому что при моем появлении он никогда не вставал из-за огромного письменного стола, заваленного вариантами сценариев и рукописями пьес. Зато я точно знал, что он меня не любит и не уважает. Когда, поднявшись на лифте на семнадцатый этаж знаменитого агентства на Пятьдесят седьмой улице и прождав сколько положено в приемной, я наконец отыскивал его в лабиринте кабинетов, Деннис, не вставая, обрушивался на меня с обвинениями в очередных идиотизмах, вести о которых долетали до Нью-Йорка из Польши. Больше всего мне доставалось за антисемитизм, расизм, гомосексуализм, кастрацию педофилов, религиозный фанатизм и имперские амбиции. Похоже было, он тщательно готовился к моему приходу – перед ним лежали вырезки соответствующих статей из «New York Times». Я чувствовал себя Александром Матросовым, советским героем Великой Отечественной войны, грудью закрывшим амбразуру бункера, из которой палил немецкий пулемет, чтобы расчистить путь другим красноармейцам.
Пока Деннис меня унижал, послушать его приходили коллеги с того же этажа: бородатый толстяк, который представлял Пендерецкого, завотделом драматургии и даже знаменитый Сэм Кон, главный агент по прозе, представлявший Артура Миллера, Вуди Аллена и Доктороу. Продолжались такие забавы долго; все от души веселились, а я не мог дождаться, когда они закончатся.
После каждого посещения Денниса я давал себе клятвенное обещание, что ноги моей у него больше не будет, и, разумеется, пытался перевестись в другое агентство, но первый вопрос, который мне везде задавали, звучал так: заработал ли я за последний год миллион долларов? Поэтому когда меня высмеивали, я тоже пробовал улыбаться, утешая себя тем, что, если есть на свете Бог и справедливость, в один прекрасный день я сумею отыграться. Пока существует надежда отомстить, многое можно снести.
Но – внимание! За несколько дней до знакомства с Клаусом мне позвонил Деннис, притом не через секретаря, а самолично, и весьма дружески спросил, свободен ли я сегодня и смогу ли в одиннадцать прийти в агентство.
Приближались рождественские праздники, подгоняемый ветром снег сыпал прямо в лицо. Перед полицейским участком на Сотой улице на западной стороне Манхэттена стояла очередь чернокожих подростков. Длинная. В честь Рождества Господня мэр издал постановление: дети, которые сдадут оружие, получат взамен новенькие кроссовки Nike. Звучали недовольные голоса, что наверняка оружие сдадут только те, у кого есть кое-что в запасе, а даже если и нету, значит, потом купят у полицейских на черном рынке. Дети терпеливо ждали, не отряхиваясь от снега. Мне вспомнилась очередь в Мавзолей Ленина в Москве.
На углу Девяносто шестой и Бродвея я сел в метро, не переставая гадать, что от меня Деннису понадобилось. Первая мысль: он хочет от меня отделаться; с другой стороны, контракт с агентством был подписан на два года вперед… Потом я подумал, что, возможно, в Польше произошло нечто исключительно идиотское, и ему захотелось перед праздниками позабавиться.
В метро в эту пору было пустовато. Какой-то малый, одетый Санта-Клаусом, с заметным интересом читал «New York Times», потом смял газету и рявкнул: «Долбаный Блумберг [10]10
Майкл Рубенс Блумберг (р. 1942) – бизнесмен, мэр Нью-Йорка.
[Закрыть]!» Весьма элегантный мужчина – ни дать ни взять профессор Колумбийского университета – сделал ему замечание: мол, в таком костюме нельзя ругаться. Санта-Клаус посмотрел на него с ненавистью и сказал: «Fuck you, too!» Началась перебранка, а затем и драка. Приближались праздники, все думали о подарках, и никому не хотелось разнимать драчунов. На площади Колумба я вышел и по подземному переходу добрался до Пятьдесят седьмой улицы. К отелю «Хилтон» один за другим подкатывали черные лимузины. Из них выходили улыбающиеся мужчины в кашемировых пальто, из-под которых выглядывали белоснежные рубашки и костюмы от Армани, а также восхитительно пахнущие дамы в шиншилловых шубах. Это были эксперты, прибывшие на конференцию, посвященную борьбе с голодом в Африке. В очередной раз я убедился, что права была моя мама, умолявшая меня выбрать какую-нибудь солидную профессию.
Около Карнеги-холла белый бездомный пытался за пять долларов всучить негру большую птичью клетку. «Клетки оставь для белых», – огрызнулся негр. Внизу меня проверили секьюрити, и через минуту я убедился, что Деннис довольно высокий. Мало того, что он встал, чтобы со мной поздороваться, – он еще и вышел из-за стола и заказал для меня кофе, спросив, как я предпочитаю: в кружке или в чашке, и какой: с молоком или черный, – а потом посмотрел укоризненно и произнес: «Джанус, почему ты мне ничего не говорил?» – и раскрыл передо мной роскошно иллюстрированный журнал.








