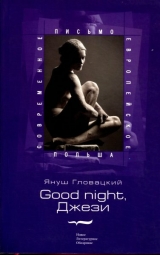
Текст книги "Good night, Джези"
Автор книги: Януш Гловацкий
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Предостерегающие знаки
Джези игнорировал предостерегающие знаки – так оставляют без внимания легкий дымок или далекую катастрофу. А знаки были, и в немалом количестве.
Началось с того, что молодой неизвестный писатель, живущий в Лос-Анджелесе, перепечатал на машинке двадцать страниц из книги «Ступени», за которую Джези получил National Book Award [40]40
Национальная книжная премия – одна из самых престижных литературных наград США (учреждена в 1950 г.), вручается ежегодно в четырех номинациях: проза, поэзия, детская литература, публицистика или документальная литература.
[Закрыть]. Подписав текст своей фамилией, он разослал его по разным литагентствам и издательствам, в частности отправил в издательство, которое эти самые «Ступени» опубликовало. Везде рукопись отвергли, кое-кто посоветовал автору бросить писать. История наделала шуму, а сконфуженный Джези доказывал, что по двум десяткам страниц невозможно оценить достоинства произведения.
Этот же писатель из Эл-Эй подождал два года и повторил трюк, на сей раз переписав не двадцать страниц, а всю книжку. С тем же результатом.
Дело было в 1982 году, я как раз приехал в Америку и прочитал в «Time Magazine» статью об этой истории под названием «Polish Joke» [41]41
Польский анекдот (англ.).
[Закрыть].
Американские писатели славно повеселились, а Джези снова пришлось оправдываться. Еще раньше, когда банда Мэнсона убила Шэрон Тейт [42]42
Шэрон Тейт – актриса, жена режиссера Романа Поланского; в 1969 г. она и четверо ее друзей были зверски убиты членами руководимой Чарлзом Мэнсоном общины хиппи.
[Закрыть]и ее гостей, Джези объявил, что лишь по чистой случайности не стал еще одной жертвой этого убийства. Он тоже был приглашен в особняк Полянского в Бель-Эйр, куда не поехал в тот вечер только потому, что как раз прилетел из Европы, в аэропорту JFK вышло какое-то недоразумение с его багажом, и он решил переночевать в Нью-Йорке. А Полянский заявил, что это чушь, Шэрон терпеть не могла Джези и никогда бы его к себе не пригласила. Подобных историй становилось все больше…
Я устал… (вечер, интерьер)
Мастерская Джези. Звонок домофона. Джези поднимает трубку. Это Харрис. Джези нажимает кнопку; через минуту снова раздается звонок – на этот раз в дверь мастерской. Джези открывает, опираясь на белую палку. Глаза у него закрыты.
– Перестань валять дурака, – морщится Харрис.
– Я уже насмотрелся, – говорит Джези, не открывая глаз. – Ты прекрасно выглядишь.
– Маркес. Открой глаза.
– Что – Маркес?
– Маркес получит Нобелевку.
– Точно?
– Точно.
– Вот и хорошо. Он великий писатель. В сто раз лучше меня.
– Ты, часом, не заболел?
– У тебя что-нибудь еще?
– Брось эту идиотскую палку и открой глаза.
– Я все хуже вижу, привыкаю к слепоте, – говорит Джези, но палку откладывает и открывает глаза. – Знаешь, в Польше я полжизни провел во тьме. Не только в переносном смысле, но и в прямом – в темноте фотолаборатории; зрение у меня ни к черту.
– Знаю, ты сто раз об этом писал.
– Паршиво выглядишь. Что-нибудь еще?
– Есть кое-что. – Харрис нехотя кивает.
– Ну…
– Ничего приятного.
– О’кей, валяй.
– Вокруг тебя что-то происходит. Нехорошее.
– Всю жизнь.
– Журналисты звонят издателям, мне. Задают кучу вопросов.
– Ну так отвечай. Я знал, что когда-нибудь это начнется. Собственно, никогда и не кончалось. Просто Бог на минутку отвлекся. Что еще?
– Стивен отказался…
– Ну, это еще не трагедия.
– Нет, ты сбрендил. От-ка-зал-ся. Ассистент сообщил на автоответчик, что твое выступление в шоу Стивена отменяется. Я звонил ему раз десять. Он не отзвонил.
– А Маркес – великий писатель.
– Великий, не великий, главное – прогрессивный. Борхес не хуже, но ничего не получит, потому что реакционный. А ты теперь – тоже консерватор, сторонник Рейгана. Надо что-то сделать. Позвони Стивену. Он хорошо о тебе писал. Вы приятельствовали.
– Я устал.
– От чего? Ты же сейчас ничего не делаешь.
– Быть собой я устал, можно сказать, замучился.
Звонит телефон. Джези берет трубку.
– А, это ты, Машенька, – в первый раз улыбается. – Конечно, рад. Хорошо. Через полчаса.
– Послушай, идиот!..
– Я ухожу.
– Не забудь палку.
– Не волнуйся, им со мной не справиться. Поздно начали.
Флешбэк 5 (пленэр, день)
Луг, голубое небо (обязательно), жаворонки, а может, аисты в гнезде, хлеба, то есть золотые колосья, идиллический, слащавый пейзаж. Хорошенькая девочка лет двенадцати, та самая, что набирала воду из колодца, бежит среди высоких хлебов, держа за руку Юрека. Падает в гущу стеблей, молниеносно срывает с себя платье, под которым ничего нет, притягивает лицо мальчика к своему голому телу. С минуту они лежат, прижавшись друг к дружке. Мальчик смотрит на девочку влюбленным взглядом.
– Целуй с самого низу, – приказывает девочка.
И мальчик неуклюже целует ее стопы, голени, коленки, потом бедра. Девочка подгоняет его, похлопывая по спине: «Давай, давай, дальше». Мальчик добирается до горячего пульсирующего бугорка. Девочка так крепко прижимает к себе его лицо, что у мальчика перехватывает дыхание. А она выгибается дугой и с криком облегчения падает. Лежит минуту, потом расстегивает ему штаны, срывает колосок и принимается его щекотать.
Все это время за кадром звучит голос Джези:
– Она хотела сделать меня мужчиной, засовывала мне соломинку в пенис. Было больно, а он вырос. Стал большой и бесчувственный. Теперь я могу делать это часами, не получая удовольствия, да, Машенька, зато принося наслаждение другим. Я признаю только голый секс, жестокий и без притворства. Думаю, я любил эту девочку, но остался с носом: отец нашел ей другого любовника.
Конюшня – старая, покосившаяся, с прогнившей крышей. Мальчик наблюдает, как отец девочки заводит туда полураздетую дочку и здоровенного старого козла. Того самого, который когда-то напал на него перед воскресной мессой. Может, тогда уже приревновал, почуяв в нем соперника. Мальчик взбирается по приставной лестнице на крышу. Через дыру видит, как отец раздражает веточкой гениталии козла, а девочка снимает платьице и под него подлезает. В глазах у мальчика блестят слезы.
Черный пес
Джези( за кадром). Это слезы. В Польше водку называют «вдовьи слезы». Красиво, да?
Маша и Джези сидят у стойки в очень приличном (хотя и в Ист-Виллидж [43]43
Ист-Виллидж – район Южного Манхэттена, в 1960-1970-х гг. – один из наиболее криминогенных, с 1980-х – центр контркультуры, считается символом ночной жизни Нью-Йорка.
[Закрыть]) баре. Маша принимает сердечные таблетки, запивая их виски, Джези тоже что-то проглатывает.
– Я знаю, ты это выдумал. – Маша скверно себя чувствует, она почти не спала, просыпалась вся в поту среди ночи, переодевала майку. – Выдумал про козла, пенис и девочку. Как и про ту девочку в больнице, Аниту. Умирающую.
– Нет, вряд ли выдумал. Честно говоря, я не очень хорошо помню, да и какая разница? У тебя слезы в глазах. Знаешь, чего я лишился, уехав из Польши? Слез. Способности плакать… Слезы остались в Польше. В Лодзи, с родителями, с кладбищами. Я не умею плакать по-английски. В Нью-Йорке, даже если чувствую, что страдаю, в слезы это перевести не могу. Как чудесно ты плачешь. Завидую.
Маша разражается смехом.
– Прекрасно. Смеешься – вместо того чтобы посочувствовать. Наконец-то. Ненавижу, когда мне сочувствуют.
Из-за стойки на секунду высовывается собачья морда: черный пес смотрит на Джези и быстро прячется.
– Что-что? Когда сочувствуют, ненавидишь? Да ты все время упрашиваешь, чтобы тебе посочувствовали, без сочувствия тебя нет. Пустое место.
– Ну, это ты загнула. Я живу, притом добровольно.
– Возможно, и живешь, но давно оглох. Я была вчера в Центральном парке, приложила ухо к земле, земля здесь стонет также, как в Москве, на Красной площади, к примеру, стонет Ленин, воет Сталин, я слышу, а ты уже не слышишь. Я слышу, о чем думает запряженная в коляску лошадь на улице, могу тебе сказать… – Снова смеется, но сквозь слезы, и встает. – Пойду блевать.
А бармен подает Джези трубку:
– Вас к телефону.
И Джези слышит:
– Что, дружок, все еще обрабатываешь эту русскую девочку, ну зачем, дружок, зачем? Силу зла хочешь проверить? – это большая сила. Ах да, нового слушателя заполучил, который еще не знает твоего репертуара, но… стоит ли так напрягаться?! А тут тучи собираются, прямо-таки тучищи.
Джези смотрит через окно на улицу; таблетки начинают действовать. В уличной будке мужчина говорит по телефону; через две секунды Джези уже не сомневается, что ему звонит именно этот тип. Злобно скривившись, кладет трубку на стойку и, расталкивая всех на своем пути, выбегает. Подбегает к мужчине в телефонной будке. Хватает его за горло, тот, перепугавшись, торопливо вытаскивает бумажник и отдает Джези.
– Бери, бери. Не делай мне ничего. Пожалуйста, – умоляет он с заметным французским акцентом.
Это не тот голос и не тот человек, и Джези возвращает бумажник.
– Прошу прощения. Это всё моя долбаная башка. Простите.
Поправляет мужчине рубашку и пиджак. Но тот еще в шоке.
– О’кей, о’кей. Все в порядке, – говорит он дрожащим голосом. – Ничего страшного. – Берет бумажник и бросается наутек. Пробежав немного, оглядывается и вздыхает с облегчением: никто за ним не гонится. – Чертов Нью-Йорк! – кричит.
Туалет в этом заведении большой и даже вполне приличный. Зеркала, умывальники, три кабинки. Маша заканчивает блевать. Когда она моет лицо, входит Джоди и подает ей бумажное полотенце.
– Это ты пришла с Джези?
– Да.
– Беги!
– Что?
– Беги отсюда! Через кухню, там есть выход.
– С какой стати?
– Он брал тебя с собой в больницу, читал больным свои ужасы?
– Да.
– Говорил, что хочет, чтобы ты почувствовала зло?
– Да.
– Говорил, что любовь это агрессия? В гестаповские казематы водил, про девочку и козла рассказывал?
– Рассказывал.
– Просил, чтобы ты его наказала за все эти гадости, за ложь, бить его просил?
– Нет. – Маша отрицательно мотает головой.
– Тогда у тебя еще есть шанс, беги. Выблюй все до конца и беги. Я жду на улице.
Джоди уходит, а Маше становится нехорошо, она достает нитроглицерин, кладет таблетку под язык. Входит в кабинку, садится на унитаз.
А Джези между тем вернулся в бар. Маши все еще нет, но входит звезда телеэкрана Стивен. Видит Джези, с минуту колеблется, но, поразмыслив, садится рядом с ним на высокий табурет. Бармен, счастливо улыбаясь, наливает ему то, что всегда.
– Это я, узнаёшь? – спрашивает Джези.
– Рад тебя видеть. – Стивен с трудом выдавливает улыбку.
– Ха-ха! Так уж и рад? Ты ведь меня вышвырнул из своего шоу. Тоже подключился к травле?
– Давай поговорим.
– Давай. Благо подвернулся случай, а то я звоню, но ты не отзваниваешь.
– Послушай. На следующей неделе выходит статья про тебя.
– Твоя, что ли?
– Нет, не моя.
– Ну и что?
– Поганая статья. Почему ты не захотел встретиться с этими двумя ребятами?
– Я хотел.
– Сказал, что готов встретиться, но только в присутствии психолога, который изучает реакции жертв Холокоста в стрессовых ситуациях. Гадость какая!
– Они меня подняли на смех.
– Тоже гадко.
– Согласен. – Кивком подзывает бармена, тот, ловко манипулируя бутылкой, наполняет стаканы.
Стивен улыбается – скорее бармену, чем Джези.
– Ты сегодня много пьешь, – говорит он.
– Да, сегодня я много пью. Странно, а?
– Джези, скажи правду.
– Хо-хо, правду… И это говоришь ты, умный человек…
– Зачем ты столько раз повторял эту чушь, будто коммунисты выпустили тебя из Польши только потому, что ты подделал рекомендации четырех профессоров?
– А разве не так было?
– Нет. Ребята проверили. Ты уехал нормально, получив стипендию, тебе без проблем выдали заграничный паспорт. Дядя в Америке внес пятьсот долларов на твой счет, и ты получил визу.
– А какая разница?
– Не городи вздор, Джези. Зачем ты рассказывал и мне, и в десятках интервью, и недавно в «New York Times», что у тебя в кармане был цианистый калий на случай, если тебя схватят? Видите ли, решил убежать из Польши во что бы то ни стало – если не живым, так мертвым.
– А не все ли равно, черт побери, как я уехал? И вообще, это был жест специально для вас. Непонятно? Ваш американский кит меня, тощего голодного еврея, проглотил, переварил и выплюнул, нафаршированного вашей гребаной энергией. Я хотел проявить благодарность. Кстати, а может, у меня был цианистый калий?
– Нет, Джези. Не было.
– А может быть, он всегда у меня в кармане?
– Покажи.
– Пожалуйста. – Достает коробочку с белым порошком. – Хочешь попробовать?
– Отстань. Почему ты в Америке пять лет утверждал, что ты не еврей?
– А ты когда-нибудь был евреем? Ответ очень простой: от страха. Вы хотели во что бы то ни стало нацепить на меня желтую звезду. Я скрывался.
– Зачем?
– Отец велел.
– Кончай врать.
– Я не вру. Сам одно время верил, что не еврей. Твои коллеги пытались меня убедить, что я работал на ЦРУ и КГБ.
– Ребята нашли твое заявление в ЮСИА [44]44
ЮСИА – United States Information Agency.
[Закрыть]с просьбой взять на работу…
– Информационное агентство Соединенных Штатов – не то же самое, что КГБ. И даже не ЦРУ.
– Но, согласись, разница невелика.
– Однако меня туда не взяли.
– Это правда – поскольку не доверяли. Но могли помочь издавать книги.
– Однако не помогли.
– Этого я не знаю. Какого черта ты дал объявление в газеты, что ищешь переводчика, а через пару месяцев вышла твоя книга на английском?
– Боялся, что не сумею написать по-английски. Но потом решил попробовать.
– Почему ты вбил себе в голову, что должен писать по-английски? Только не повторяй этот вздор, будто хотел избавиться от культурного давления родного языка и писать без тормозов.
– А вот это как раз правда.
– Твои коллеги клянутся, будто ты им говорил, что делаешь это исключительно ради того, чтобы тебя воспринимали всерьез. Что в Америке нужно писать только по-английски.
– Это тоже правда. Ты меня допрашиваешь?
– Мы беседуем. Ты сам захотел. Ты нанимал американских писателей, чтобы они тебе помогали.
– Да, мои тексты нуждались в редактировании.
– А они утверждают, что писали за тебя.
– Ага, значит, это они написали мои книги. Способные люди. Почему же не написали своих?
– Ну, не все утверждают, что за тебя писали.
– А сколько?
– Скажем, двое, ну, может, еще один. Остальные говорят, что вносили поправки, но книги твои.
– Ах, как великодушно.
– Однако английский твой поправляли?
– Ну и что?
– Почему ты сказал этим журналистам, что каждое слово, каждая точка и запятая в твоих сочинениях – твои и только твои? Идиотизм.
– Потому что они меня достали. Меня давно не допрашивали.
– Вот тут тебе не удастся выкрутиться.
– Не удастся.
– Они нашли малого, который утверждает, что перевел «Раскрашенную птицу» и получил за это триста долларов.
– Ха, ха! А почему не спрашиваешь, как было дело с «Садовником», которого я содрал?
– Я знаю, что недавно тебя… как бы это сказать… вроде как оправдали. Ох, Джези, Джези, что ты натворил.
Пьют.
– Можно тебя кое о чем спросить? – усмехнулся Джези.
Стивен кивает.
– Ты веришь в Бога?
– Верю.
– Как ты думаешь, где был Бог, когда…
– Я знаю, Джези… Умоляю, не начинай. Ты прав… Только не начинай, не о том сейчас речь.
– О’кей. Ты не видел Машу?
– Кого?
– Ладно, неважно. Спокойной ночи, Стивен. Главное, чтобы у тебя была чиста совесть. А ведь она у тебя чиста. Верно? Только не говори, дружище, что это не так.
– Вообще-то, мы могли бы об этом поговорить перед камерой.
– Но не можем. Потому что ты поставил на мне крест. Верно, Стивен? Знаешь, сколько народу обрадовалось? Я плачу. – Кладет деньги на стойку. – Спокойной ночи. – Встает и уходит.
Стивен, кусая губы, смотрит ему вслед, но бармен уже подает новую порцию и стучит по стойке.
– За счет фирмы, – говорит он.
Стивен выпивает – тем дело и кончается. А Джези входит в дамский туалет. Две кабинки пустые, третья заперта. Джези дергает дверь, которая в конце концов поддается.
Маша, полностью одетая, сидит на унитазе. Возможно, спит, а может, потеряла сознание? Джези, намочив бумажное полотенце, осторожно вытирает ей лицо. Маша открывает глаза.
Прыжок
Итак, Маша не убежала, и теперь они идут по Ист-Виллидж. Маша чувствует себя лучше, что не означает хорошо, дышит тяжело, но дышит. В конце концов, думает она, не надо ждать от сердца слишком многого. Они сворачивают на Сент-Маркс-плейс, потом на Восьмую улицу, которая, пересекая Первую и Вторую авеню, ведет прямо к Томкинс-сквер-парк, потом к Алфабет-сити, то есть к авеню Эй, Би, Си и Ди, где в рамках так называемого housing project [45]45
Проект, предусматривающий широкомасштабное строительство жилых зданий для граждан с низким и средним уровнем доходов.
[Закрыть]построены полтора десятка домов, в порыве великодушия (что иногда в Нью-Йорке случается) подаренных городом самым бедным. Ну и Алфабет-сити быстро стал центром проституции и наркомании. Но дотуда еще далеко, а они пока на Восьмой улице между Третьей и Второй авеню, иначе говоря, в самом сердце Ист-Виллидж. Уже темно, но темнота прозрачная, собирающая свет с забитой машинами мостовой, от фонарей, пиццерий, суши-баров. В освещенных окнах – прилипшие к стеклу лица одиноких стариков, которые улицу предпочитают телевизору. А в огромных витринах – человекоподобные куклы и почти не отличающиеся от людей манекены. Вечерние туалеты, белые, черные и золотые парики, короткая стрижка или длинные, падающие на плечи локоны. Кровавые рты, ярко накрашенные ногти, татуировки. Полуголые или в футболках, опутанные цепями, нашпигованные гвоздями, устрашающего вида и, рядом, утонченные, мечтательно-романтические, в бальных нарядах прямиком из Версаля восемнадцатого века. Подсвеченные сверху, снизу и сбоку, бледные, истощенные или подозрительно пышущие здоровьем. И эта поддельная толпа в витринах не так уж сильно отличается от живого уличного столпотворения, где вперемешку жертвы и хищники, бесталанные писатели, поэты, художники, старые еврейки в париках, проститутки, умоляюще глядящие на чернокожих торговцев крэком. Бочком пробираются не уверенные, что здесь можно фотографировать, туристы из Токио, вальяжно вышагивают черные поставщики наркоты, заливающие улицы рэпом из ghetto blasters, то есть стереомагнитофонов размером с чемодан. Дальше слева, в кондитерской «Венирос» пьют эспрессо с клубничными пирожными итальянские мафиози. Они будто подражают героям сериала «Клан Сопрано». А может, герои «Сопрано» созданы по их образцу. Когда кто-нибудь закидывает ногу на ногу, открывается кобура с пистолетом на щиколотке.
На Седьмой улице около кафе «Европа» толпа немного плотнее и застыла на месте. Потому что на крыше появился прыгун, то есть самоубийца. Пока еще живой. Не всем охота смотреть, тем более еще не факт, что он прыгнет, но кое-кто все же, задрав голову, смотрит. Дом старый, высокий – шестиэтажное здание постройки тридцатых годов. Наверху гораздо темнее, поэтому стоящие внизу жалуются: плохо видно, не поймешь даже, мужчина это, женщина или трансвестит, старый или молодой. Кто-то клянется, что это молодой парень, что он его знает, но ему не очень-то верят. С оплетающих дом железных противопожарных лестниц доносятся голоса – это пара переговорщиков, и полиция тут же.
Все это, видно, уже продолжается какое-то время, потому что по тротуару пробирается карета скорой помощи, слышен вой пожарной машины, и те, что внизу, начинают терять терпение.
Кто-то кричит:
– Или слезай, блядь, или, блядь, прыгай.
Народ смеется, и вдруг этот минуту назад еще человек, который сейчас будет трупом, летит вниз. И тогда тот же самый голос кричит:
– Почему?! Почему, блядь, ты это сделал?!
– А все-таки парень был, говорил я, – торжествует кто-то на тротуаре.
Затем «скорая», полиция, сильно запоздавшее телевидение и пластиковый мешок. Люди расходятся, потому что смотреть уже не на что. Маша и Джези задерживаются.
– Чувствуешь? – спрашивает Джези.
– Что?
– Втяни воздух. У такой вот уличной смерти особый запах.
– Не чувствую.
– Одиночество, страх… тебя не тянет?
– Нет.
– Раз – и вселенная распадается, декорации исчезают, но, так или иначе, его будут помнить. Это не худший способ продлить себе жизнь.
Поднимается ветер, полиэтиленовые мусорные мешки взмывают вверх, как ночные птицы, запутываются в кронах деревьев, которые тоже охотно улетели бы, но нету сил. А мешки летят все выше. И шелестят на ветру над подозрительным, но свободным – свободнее нельзя – Ист-Виллидж так же, как над солидной и элегантной Пятьдесят седьмой улицей, где Маша с Джези в эту минуту выходят из такси. Джези подталкивает ее к подъезду, но Маша противится.
– Ты тут живешь с женой, – говорит она.
– И что с того?
– Поздно уже, а она дома.
– Не имеет значения.
– Имеет.
– Идем, прошу тебя, я хочу, чтобы ты посмотрела, как я живу. В мастерской ты была, теперь увидишь квартиру. Должна увидеть. Не бойся, я тебя не изнасилую, там ведь жена.
Потом заспанный консьерж, лифт, два ключа (опять два!), портьера, за которой горит маленькая настольная лампа, какая-то мебель, которую Маша видит будто в тумане.
– Я вернулся, – говорит Джези. – Со мной Маша.
– Good evening, Маша, рада познакомиться, – доносится из-за портьеры.
– Добрый вечер, – по-русски отвечает Маша, поежившись: нет, это уже чересчур.
Она смотрит на мерцающую за окном красную неоновую рекламу, пытается прочитать текст, но ей это не удается. Зато к горлу снова подкатывает тошнота. На ватных ногах Маша входит в кабинет, останавливается перед зеркалом, у нее черные губы, подтеки туши под глазами, она похожа на двойника какого-то из давешних манекенов. А в зеркале отражается комната, диван, большой неплотно закрытый шкаф, африканские маски, фотографии в рамках, какая-то картина, ничего интересного, расписание занятий, листок с логотипом ПЕН-клуба, опять фотографии, Маша опирается о письменный стол, а там жуткий беспорядок, пишущая машинка со вставленным чистым листом бумаги, исписанные страницы, десятка два экземпляров знакомого «New York Times Magazine» и книга, сборник стихов, кажется, на польском. И «Евгений Онегин» – по-русски? Первое желание – рассмеяться. Но в следующую секунду ей уже не до смеха, мысли занимают только три вещи: как бы не стошнило, женщина за портьерой и выдержит ли сердце.
В зеркале Маша видит, что он снимает пиджак, расстегивает рубашку, подходит сзади, прижимается, кладет руки ей на грудь, сквозь платье она чувствует его напряженный член. Из-под стопки бумаг выглядывает что-то знакомое. И Маша читает, сперва тихо, потом громко: «Я точно знала, что никакой это не сон, хотя мать мне доказывала, что сон, потому что я не сумела бы открыть балконную дверь, не дотянулась бы до ручки, но к матери нельзя относиться всерьез, она алкоголичка». Маша вытаскивает свой дневник и не может понять, что же это такое, как и когда этот ворюга ее обокрал. Отрывает от себя по одному его длинные щупальца. А он объясняет, что не мог иначе, что читал и плакал, что это как исповедь священнику, что он хотел вернуть незаметно. И протягивает ей тетрадь, но Маша мотает головой и отмахивается обеими руками: нет, это уже осквернено. Бросается к двери, он еще что-то там вякает, но она кричит – не ему, оранжевому пятну света за портьерой:
– Good night!
И слышит ласковое, теплое:
– Спокойной ночи, Маша!








