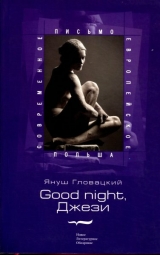
Текст книги "Good night, Джези"
Автор книги: Януш Гловацкий
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Ход конем (как это представлялось Клаусу В., а скорее – Маше)
Картина у Маши не получилась такой, как она задумала. Поджидающее птиц дерево гостеприимным отнюдь не казалось. Дуб – это ведь древо жизни, корнями он должен достигать центра Земли, а ветвями – Солнца. А Машино дерево больше походило на осьминога, охотящегося на птиц и кормящегося их страданиями. Поэтому три птицы, смахивающие на галок, кружили поблизости, но сесть боялись – больно уж ветви напоминали голодные руки. Маша не знала, как быть, наверное, она дала слишком мало зеленого и слишком много черного и коричневого. Но так уж вышло, ничего не попишешь, не переделывать же. Ладно, коли так… и она дорисовала еще одну птичку, лежащую под деревом, уже неживую. Маленький черненький высосанный комочек. Бледный, опухший владелец галереи позвонил накануне и сказал, что ему нужны еще две картины. Ну вот, одна уже есть.
Маша, в заляпанном красками халате, открыла окно; мужик напротив не скрывал разочарования. Отложил бинокль и со злостью замахал руками. Надо бы сделать ему что-нибудь приятное, подумала Маша, в конце концов, он уже давно ждет. Улыбнулась и помахала в ответ, но он, оскорбившись, погрозил ей кулаком, захлопнул окно и задернул занавеску.
А что, если показать это Джези, подумала она, но нет, нет, ни за что. Нагородит чего-нибудь, ему нельзя верить. Клаус звонил, опять он вынужден отложить приезд. В Нью-Йорке, кроме Джези и толстого владельца галереи, она никого не знала, но мир тесен. Клаус дал ей телефон двух производителей обуви, которые якобы заправляют всем в своей отрасли на Манхэттене, однако встречаться с ними не хотелось.
Она измерила проклятое давление – опять 160 на 100, выпила таблетки, запах краски помалу улетучивался через окно. Когда мылась, позвонил Джези, в ярости, что она не дает о себе знать. Да с какой стати, почему это она должна ему звонить? Не звонила, и точка, хотя не сомневалась, что он ждет. Сказала, что все знает про Аниту.
– Что – все?
– Что она здорова.
– Слава богу, а могла быть больна. Ты прочла мою книжку?
– Она и не была больна.
– Какая разница! Чушь городишь, ты книжку мою прочитала?
Она положила трубку. Но он сразу же опять позвонил.
– Нет, – сказала она.
– Что – нет?
– Не прочитала. Начала и бросила. Нет у меня желания читать – ни про то, как выковыривают глаз, ни про девчонку, которую подкладывают под козла. Выблевывай на бумагу свое дерьмо, если есть охота, а я не обязана в нем копаться, своего хватает.
– Значит, прочитала, – обрадовался, – но ничего не поняла.
Он говорил с ней как с близким человеком – радовало это ее или отталкивало? Уверенности не было. Он бы, конечно, сказал, что уверенность – это скучища и смерть.
Он рассмеялся.
– Похоже, что ничего не поняла, но о некоторых вещах догадываешься. Давай встретимся – еще кое-что узнаешь.
Ей хотелось выйти из дома, но только не в кабак, она не была голодна, однако он уговорил ее поесть суши. Прекрасно в этом разбирался, заказал быстро, но ел понемножку. Калифорнийские роллы, какие-то блинчики с угрем; пили горячее сакэ. Бродили по ошеломительно богатой Пятой авеню, а возле Публичной библиотеки свернули на Сорок вторую улицу. Стемнело, однако нью-йоркская темнота имела мало общего с московской. Толпа вокруг сгущалась, но это уже казалось естественным. А он все время был напряжен, то замедлял, то убыстрял шаг, останавливался, оборачивался и напоминал Маше пса Дедулю, которого она в Москве выводила гулять. Она сказала ему об этом, и он вытащил блокнотик и записал, а она добавила, что никогда еще не ходила с мужчиной, который бы оглядывался на каждую женщину, и что вроде бы они идут вместе, но отдельно, и вообще она одна. Он удивился и спросил: неужели она не чувствует?
– Что я должна чувствовать?
– Что мы в театре.
– В каком еще театре?
– Таком, где идет пьеса «охота», это же ясней ясного, неужели не видишь? Слепая, что ли? Одинокие самки приманивают одиноких самцов, а те и рады. Самцы – жуткие шлюхи.
– Ты тоже?
– О да, я тоже.
– А не староват ли?
Он поморщился: возраст не имеет значения, это не его вина, это природа наделила людей похотью. Она что – слепая, глухая, не чувствует, что у нее между ног кипяток, что она сидит на раскаленных углях, не чувствует, как безудержно ее тянет к бесстыдному сексу? И это только вопрос времени – вскоре она пошлет куда подальше доброго до идиотизма Клауса, а его, как всякая приличная самка, будет молить, чтоб он ее трахнул.
Она, подумав, сказала, что, честно говоря, не понимает, чего он от нее хочет. Он – богатый, знаменитый, старый, сломленный человек, который ищет повод почувствовать себя живым. Любым способом. Возможно, поэтому, раз уж подвернулся случай, решил им воспользоваться: он ощущает в ней жизнь. Но если пойдет ко дну, пусть помнит, что она не бревно, за которое можно ухватиться, а крокодил.
Он обрадовался: про бревно она хорошо сказала, – и спросил, не русская ли это пословица; опять достал блокнотик, вечное перо и записал.
А крокодил вот откуда взялся: в тринадцать лет она перешла в другую школу, где никого не знала. Но была хорошенькая, быстро бегала, и одна девчонка, Настя, хамка, главная заводила в классе, из зависти стала дразнить ее «крокодилом». Вроде бы в какой-то сказке был крокодил по имени Маша. Настя нарисовала на доске грязную лужу, в ней крокодила и написала, что Маша – никуда не годный, завалящий крокодил. Маше было неприятно, потому что мать в приступе ненависти к отцу тоже называла его крокодилом. Но потом она подумала, что ей плевать. Пусть будет крокодил, крокодилы сильные. И превратила слабость в силу.
Джези рассмеялся: для крокодила у нее слишком красивые мягкие губы, – и провел по ним пальцем. Это было так неожиданно, что она чуть ему этот палец не откусила.
В двадцати шагах от них, по левой стороне улицы, напротив крутобоких, пузатых или тощих небоскребов, которые ловили и отражали уличные огни, к Публичной библиотеке прилепился скверик. От улицы его отделял невысокий каменный парапет, а внутри на раскладных столиках разложили доски и профессионально расставили часы несколько чернокожих шахматистов. Плывущая мимо толпа равнодушно на них поглядывала. Иногда только кто-нибудь отделялся, садился на стульчик, быстро проигрывал десять долларов и шел дальше.
Маша на минуту почувствовала себя в московском дворе, где во время особенно важных турниров над шахматными досками склонялись мужчины. Рядом с каждым на столике или на ограде – транзисторный приемник. Они прислушивались к трансляции и воспроизводили или пытались предугадать ходы гроссмейстеров. В такие дни даже женщины возле бельевых веревок переговаривались шепотом, а детям выходить во двор вообще запрещалось. Бездомных собак-попрошаек отгоняли камнями, чтобы какая-нибудь ненароком не тявкнула. Один раз Машин отец прославился, потому что угадал ход конем: такой же ход сделал играющий с Карповым Спасский. И отец на радостях пил целую неделю и упорно повторял, что это самый счастливый день во всей его гребаной жизни.
Между тем Джези сел на единственный свободный стульчик напротив толстого негра с тронутой проседью густой курчавой шевелюрой, который заулыбался мечтательно, как паук, глядящий на муху. А когда Джези положил на столик сто долларов, сперва легонько покачал головой: мол, слишком много. Но потом подумал, посмотрел на Джези, на Машу и сказал, что ввиду присутствия прекрасной дамы он согласен. Выудил из кармана свою стодолларовую купюру, разгладил, продолжая добродушно улыбаться. А когда Джези начал партию с простенького ферзевого гамбита, заулыбался еще шире. Их пальцы быстро отбивали ритм на часах; примерно на пятнадцатом ходу негр перестал улыбаться и наклонился над доской, насколько позволяло вываливающееся из джинсов пузо. А еще после пары ходов тяжело вздохнул и щелчком опрокинул своего черного короля. Кто-то захлопал в ладоши, и Маша увидела, что вокруг собралась кучка мужчин.
– Реванш? – спросил Джези.
Но негр покачал головой.
– Ты чересчур силен, брат. Иди себе с Богом и больше не возвращайся.
Погодя Маша спросила, хорошо ли играл чернокожий толстяк.
– Очень хорошо, но схематично. Достаточно было одного нелогичного хода, чтобы он растерялся.
И добавил, что его отец играл в турнирах, и он многому от него научился. А Маша рассказала про тот самый счастливый день в жизни ее отца. Джези рассмеялся; Маша ему по-прежнему не доверяла, но почему-то он становился ей все ближе. Тротуар перед Карнеги-холлом был, как всегда, запружен элегантной толпой. А под афишей, извещающей о концерте Лос-Анджелесского оркестра под управлением Зубина Меты, пожилой мужчина в сером заношенном костюме хриплым голосом, ужасно фальшивя, исполнял арию из «Дон Кихота». Джези кинул ему в пластиковую кружку выигранные сто долларов, на что тот вообще не обратил внимания, а Маша подумала, что Клаус никогда бы ничего подобного не сделал, хотя скупым не был. Наверно, как тот негр, привык действовать схематично.
Внезапно Маша заметила, что лицо у Джези перекосилось и сразу потом окаменело. Он скорее прошипел, чем сказал, глядя не на нее и не назад, а в витрину спортивного магазина: лыжные ботинки, хоккейные клюшки, комбинезоны со скидкой двадцать процентов:
– Не оглядывайся, не поворачивай головы, не то будет плохо или очень плохо.
– Почему?
– Потому что за нами следят.
– Кто?
– Двое и уже давно. – А в следующую минуту затолкал ее в случайно остановившееся рядом такси и назвал адрес. При этом он крепко сжимал ее руку, Маша не знала, машинально, или со страху, или чтоб она не выскочила, потому что такси застряло в пробке, но руку он сдавил как клещами, отпечаток его пальцев она носила на себе еще неделю. И не переставая шептал ей на ухо, что написал две книги об СССР, обе под псевдонимом, чтобы себя не выдавать, но зря старался, КГБ не спускает с него глаз.
– КГБ?
– КГБ, разумеется, КГБ, почему бы нет?
– Потому что это Нью-Йорк.
У нее мелькнула мысль, что он выдумывает, ну конечно, выдумал же про Аниту, – и рассмеялась. Но он гнул свое, и клещи на ее руке увлажнились.
– Мой тебе совет, – бормотал, – не оглядывайся… Пускай думают, что это обычное свидание, банальный секс, тебе же будет лучше, или хочешь, чтоб они и тобой занялись?
– Я не боюсь, – сказала она. – У меня немецкий паспорт.
Но сердце екнуло: а что, если не выдумывает? То ли какие-то свои причины заставили испугаться, то ли в ней отозвался страх матери, которая, с тех пор как бросила пить, боялась всего на свете, хотя скорее страх был отцовский: отец, будучи наполовину украинцем, выдавал себя за чисто русского и боялся разоблачения.
Однажды ночью Маша услышала, как он рассказывал матери, что Сталин, который не жаловал украинский язык, прикинувшись добреньким, устроил в Харькове фестиваль украинских кобзарей, которые в песнях сохраняли правду об истории. И извлекали эту правду, как извлекают застывших в янтаре мошек. А когда съехались или сошлись несколько десятков слепцов (потому что только слепые видят правду) с бездомными сиротами-поводырями, их окружили, посадили на грузовики и отвезли в лес. А там уже ждала черная яма. И всех, вместе с детьми, закопали живьем. Земля в этом месте три дня шевелилась.
Маша вначале ни капельки не поверила, но ее отец, великан, самый сильный на свете страшный отец, вдруг заплакал и стал посреди ночи молиться по-украински, а когда застукал подслушивающую Машу, пообещал, что, если она хоть пикнет, волей-неволей ее убьет; конечно, она и не пикнула.
Такси наконец протиснулось, разогналось, перелетело в нижнюю часть города, и на Четырнадцатой улице Джези вытащил Машу на тротуар. А Маша, подумав, все же рискнула обернуться, и действительно: за ними – хоть и не очень близко, но ошибки быть не могло, – тоже остановилось такси, и оттуда с разных сторон вышли двое. Только поэтому она позволила потащить себя вверх по лестнице старого дома без лифта. С трудом перевела дыхание, а Джези достал ключ от квартиры, но нужды в этом не было, поскольку дверь была приоткрыта, достаточно оказалось ее толкнуть, а внутри будто ураган пронесся: все вверх дном, одежда бесформенной кучей на полу, тяжелые кресла перевернуты, тарелки разбиты, фотографии разбросаны. Господи Иисусе, словно и не люди орудовали.
Но почему-то он не позвонил в полицию, как поступил бы Клаус и вообще любой нормальный человек, нет, он сел на пол и принялся хохотать, смеялся, точно каркал, повторяя сам себе, будто про нее забыв, что ничего эти гады не найдут, ровным счетом ничего, потому что все, все до единой рукописи в безопасности в сейфах, в таком-то, таком-то и таком-то банках. Тут зазвонил телефон, он ответил, поднимая один за другим стулья, а то и сесть было не на что, повторил несколько раз: хорошо, хорошо, хорошо, – и потом ей: к сожалению, она должна уйти, он ее проводит до такси и заплатит вперед, – и объяснил, почему такая спешка: если за ними следят, пусть подумают, что они скоренько перепихнулись. Выпроводил ее, втолкнул в уже другое такси, дал водителю двадцать долларов, и машина тронулась.
Но Маша вдруг почувствовала, что нельзя его так оставлять. Попросила шофера остановиться и через заднее стекло увидела, что Джези разговаривает с теми двоими. Тогда она велела таксисту ехать дальше, решительно не понимая, что происходит, и вообще ни о чем больше не думая, кроме как поскорее доехать до дома и лечь.
Не верьте снам, птице как птица (версия Маши)
Просыпалась Маша неохотно, потому что, хоть и приняла кучу таблеток, прописанных профессором, спала недолго, головная боль и шум в ушах не прекратились. Вдобавок она почувствовала, что застряла на том же месте, где была, когда засыпала. Ни шагу вперед. Голова не справлялась с разбегающимися мыслями. Клаус не позвонил, что, пожалуй, не так уж и удивительно, поскольку она выключила телефон. Ей нравилось его включать-выключать, потому что в московском доме все было закреплено намертво. Теперь она телефон включила, потом сделала все, что велел профессор, а потом – все, что запретил, то есть закурила сигарету и выпила чашку очень сладкого растворимого кофе. А также позвонила Клаусу, побеседовала с автоответчиком, сказала, что скучает, что у нее все в порядке, и добавила еще пару фраз, которые даже трудно было бы назвать ложью. Что ни говори, Клаус – лучшее, что ей встретилось в жизни. Кстати, он сразу же перезвонил в перерыве какого-то важного бельевого совещания. Маша чуть не расплакалась, когда он сказал, что умирал со страху, но через три дня они уже будут вместе. Три дня, вроде бы очень мало.
Откуда ему знать, в какую она влипла историю, ей и самой никак не разобраться. Джези этот… если бы он к ней клеился и хотел затащить к себе в мастерскую, это было бы в порядке вещей, но так? Неужели стоило тратить столько усилий исключительно ради того, чтобы напугать ее этим КГБ, настоящим или поддельным? А потом еще убирать жуткий разгром? Она приняла горячий и холодный душ, потом, подумав, снова горячий и снова холодный.
К окну подходить не стала, хотя, возможно, и надо бы, в это время сосед обычно ее ждал, вероятно, перед тем как уйти на работу. Но она принялась рисовать, сидя за столом в кухне, доедая мюсли и куря сигарету. Получилась женская голова, а на голове птица. Похоже на ворона, клюющего женщину в лоб с явным желанием добраться до мозга и его выклевать. Ну хорошо, а если, наоборот, он хочет доклеваться до чего-то важного, что-то открыть? Возможно такое? Так или иначе, это будет девятая по счету картина. У двух последних нет ничего общего с мюнхенскими, можно подумать, их кто-то другой рисовал. Разве что собачонка на рельсах… тут угадывается какая-то связь. Клаус все делал как положено, что-то продавал, что-то покупал, был в своем праве: она его законная жена, и он считал, что у них все путем. Может, так и есть. Да, его отец вместе с СС проиграл под Сталинградом, но сейчас у него в собственности русская, добровольно отдалась и наручники не понадобились.
Потом она неожиданно и молниеносно заснула.
Сон Маши
Сперва ей приснилось что она сидит на вершине горы за грубо сколоченным столом а рядом сидят мужчины некоторых она знает хотя не помнит откуда а остальных точно не знает все до единого положили пустые руки без оружия на стол и чего-то ждали и ясно было это что-то будет самое важное и на всю жизнь либо проклятие либо благословение либо то и другое вместе но они не смотрели ни друг на друга ни на нее только на стол и так продолжалось долго пока не раздался голос и стало понятно что этого они и ждали голос звучал со всех сторон снизу сверху сбоку справа и слева и он сказал избран тот к кому на плечо сядет ворон она подняла глаза и над столом на еловой ветке увидела ворона того самого которого она пять минут назад нарисовала сердце замерло куда-то провалилось и она подумала только не я только бы не я и тут ворон оторвался от ветки огромный черный такой тяжелый что все дерево заколыхалось она закрыла глаза и почувствовала как острые когти впиваются в левое плечо больно кровь надо его сбросить но как когда крылья запутались в волосах она подумала что не сдержится что сейчас из-под век брызнут слезы да пошли они куда подальше подумала она хочет жить нормально как все хочет пить водку танцевать любить нарожать кучу детей нет она не согласна выбор хуже некуда встала но никто кроме нее не шелохнулся зато голос сказал что-то типа перестань наконец бояться
Проснулась в испуге. Сон в руку? – пустое, не верьте снам, птица как птица, закончить рисунок и забыть. Ну а если это не вранье, если КГБ и вправду в Нью-Йорке? Да, времена уже не те, но допустим. Для нее это опасно или нет? Могут они прицепиться, наделать неприятностей? Кому? Отцу, матери, Грише – братишке, его невесте – худосочной девице из почтового окошечка, полуимпотенту Косте? Конечно, могут, если захотят, они всё могут, в СССР любой знает, что могут, а причина всегда найдется: в Москве за всяким числится какой-нибудь грешок, власть на каждом шагу дает это понять.
Ну хорошо, допустим, это не КГБ, но неужели старому человеку не жаль тратить время на дурацкие выходки? Только ради возможности поболтать по-русски о похотливом Брежневе, убитом Пушкине, удавленном Есенине, о хоре Александрова, чьи песни оба они знают наизусть? «Идет война народная…» Маша подошла к зеркалу, проверила левое плечо – пусто, пригладила волосы и поехала в «Блуминдейл» за покупками. Из того, что Клаус ей оставил, она потратила только на такси. Кредитная карточка ждет и небось уже теряет терпение, надо пустить ее в дело, поглядеть, что и как.
Маша накупила трусиков: шелковых и атласных, красных, бежевых, белых и черных. К этому добавила стринги, тоже черные, и боксерки, расписанные сердечками, они очень удобные, а потом лифчик. Тут ее ждала приятная неожиданность: она всегда мечтала о большом бюсте, и оказалось, что он у нее большой, то есть четвертый номер. А в Москве она всегда влезала в двойку (с трудом), потому что так советовали продавщицы. Потом две пары джинсов – Кельвин Кляйн и Дольче-Габбана, правда малость перегруженные. Ездила по этажам, вверх и вниз, на каждом ее без спросу обрызгивали духами. Напоследок, в самом низу, купила классные сапожки цвета сомон, из телячьей кожи, мягонькие, и часы, так как прочитала, что женщину оценивают по обуви и часам. Расплатилась карточкой, подписывала не глядя. Домой вернулась на такси, разложила покупки и подумала: что ни говори, она богата. На автоответчике было три сообщения. Выслушала их с подкашивающимися ногами – к счастью, это был только Клаус; перевела дух, приняла таблетки, сердцебиение унялось. Потом походила голышом, в одних сапогах, потом в боксерках без сапог, постояла в окне, но напротив было темно. Села рисовать, беспрерывно поглядывая на телефон, обозлилась, прилегла на полчасика, лежала не шевелясь, и тогда он позвонил. Подошла к зеркалу, улыбнулась, и ей стало стыдно, потому что улыбка показалась торжествующей.
Рассказ уборщицы (интерьер, день)
Пани Стася, пятидесятилетняя полька из Грин-пойнта, убираясь в мастерской Джези, произносит по-польски монолог. А он сидит в кресле и читает «New York Times».
Пани Стася.Гляньте, это моя сестра. По матери. ( Показывает фотографию, но он не смотрит.) Похожа, да? У ней две дочки и, слава Тебе, Господи, любящий муж. Он у нее по бухгалтерской части, на работе на хорошем счету, всё у них как в кино, даже деньги откладывают, послушайте, я вам скажу одну вещь, но только чтоб между нами. Так вот, муж ейный, Болеслав, раз в месяц, как по часам, после ужина пропадает, и хоть бы слово сказал. Чудно, да? А возвращается только под утро и сразу мыться, моется, моется. И что ей, бедной, прикажете думать? В костел она ходит, супружеские обязанности исполняет, всегда у них горячее на столе. Дети ухоженные – прям два ангелочка, вот, у меня фото. Посмотрите, пан Юрек.
Показывает фотографию, он по-прежнему не смотрит, однако ей это не мешает.
Пани Стася.Ну а что бы вы сделали на ее месте? Господи Иисусе, Дева Мария, святой Иосиф ( говорит, смахивая пыль с плеток, масок и наручников), какая же у вас, пан Юрек, пылища.








