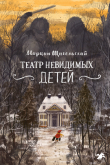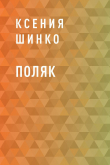Текст книги "Мотылек"
Автор книги: Ян Щепанский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
II
Вся батарея чувствовала себя униженной тем, что ей в учениях отвели роль пехоты. Накануне прошел большой снегопад, через учебный плац можно было пробраться только по узким утоптанным тропкам. Но дело было не в этом. Все восприняли приказ начальства как дискриминацию. В глубине души каждый презирал пехоту, несмотря на то, что преподаватели лицемерно называли ее «королевой войск». Жалели даже своих мордастых унтер-офицеров, которых по этому случаю должны были замещать пехотинцы в куцых шинелях и обмотках.
Подготовка к маршу происходила в обстановке всеобщего уныния.
При проверке снаряжения старший унтер-офицер спросил: «Кто ходит на лыжах?» Несколько секунд длилось замешательство. В армии никогда не известно, что заключают в себе вопросы такого рода. В любом из них может быть ловушка, и служаку, который признается в знании ботаники, в результате пошлют набивать матрасы. Но Михал рискнул и вышел из шеренги. За ним еще несколько человек. Их послали на склад, где им выдали неимоверной длины лыжи, выкрашенные в белый цвет, ореховые палки и белые комбинезоны с капюшонами. Ботинок не оказалось. Они должны были приспосабливать крепления к сапогам. Командование патрулем лыжников поручили Гайде, старшему бомбардиру.
На рассвете следующего дня они стояли на правом фланге спешенной батареи, среди засыпанных снегом полей, расплывающихся в дымке до самого края виднеющихся вдали лесов.
Над сугробами торчали деревянные стены последних домиков предместья, придавленные огромными белыми шапками. Покосившийся православный крест торчал из снежного бугра, свидетельствуя о развилке дорог, видимой только на карте. Они были ротой боевого охранения и получили задание захватить переправу через реку, скрытую в одном из оврагов в нескольких километрах впереди. Сухие хлопья снега щекотали им лицо, ветер забирался за воротник и рукава, а мир вокруг медленно кружился в вихре белых мерцающих пятен. Крики команд отлетали куда-то в сторону, как вспугнутые ветром птицы.
Лыжный патруль двигался впереди, в качестве головного дозора. Они сразу затерялись, растворились в перемещающейся сыпкой стихии, целиком полагаясь на карту и компас Гайды. Им было трудно в сапогах, но, несмотря на это, они ушли далеко вперед от пешей колонны. Время от времени они останавливались и Михал возвращался по исчезающему под свежей порошей следу, чтобы подождать, пока не замаячат бредущие сквозь снег тени.
С удивлением приветствовали они вынырнувший из снежной мглы темный, огромный – как им показалось – остов бескрылой мельницы. Они знали, что она должна была попасться им на пути, но не могли и предположить, что так точно выйдут на нее. Мельница ворчала, завывал процеживаемый сквозь доски ветер, скрипели соединения старых балок. И еще долго слышали они позади себя ее печальную затихающую песню. А потом их окружила тишина. Белое мелькание перед глазами затихало, отдельные крупные снежинки, медленно паря, опускались на землю. Все вокруг прояснилось, а сверху пробивалась неясная улыбка света.
Они остановились на небольшой возвышенности, возле засыпанного плетня, неизвестно что огораживающего в этой пустыне. Гайда, склонившись над картой, моргал залепленными снегом ресницами. Внезапно молочный мир осветился, повеселел, как будто с него сняли покрывало. Еще некоторое время их окружала мгла, но уже прозрачная, слепящая глаза теплом. И вот перед ними открылся широкий простор. Снег сверкал морозными искорками под высоким синим небом; за плетнем среди кривых фруктовых деревьев виднелись постройки одинокой усадьбы, окруженной белыми волнистыми полями. Со стороны мельницы, мимо которой они недавно проходили и черный силуэт которой теперь резко вырисовывался на горизонте, приближался всадник. Его лошадь по брюхо проваливалась в снег. Отчаянными рывками она выбивалась на вершины сугробов, поднимая фонтаны снежной пыли. Уже издалека был слышен ее тяжелый храп. «Головной дозор, стой!» – крикнул капитан, хотя они уже давно стояли. Капитан подъехал к ним вплотную. У гнедой кобылы тяжело ходили бока, а морда была вся покрыта бахромой инея.
– Разведать берег реки в районе деревни Слобудка, – приказал капитан. – В случае встречи с неприятелем сковать его огнем, вплоть до подхода пехоты. Выполняйте!
Он повернул пышущую паром лошадь и двинулся назад, а они заскользили вперед, перестроившись по приказу Гайды в цепь.
Михал опередил товарищей. Он бежал длинным скользящим шагом, выбрасывая палки далеко вперед. Ему казалось, что его со всех сторон окружает радостный звон маленьких стеклянных колокольчиков. С плоской вершины холма он увидел открывающуюся перед ним широкую долину, ограниченную с противоположной стороны обрывистым речным берегом, и соскользнул в нее. Его несло плавно, мягко и быстро. Он остановился возле группы старых деревьев, поднимавших к небу кривые черные ветки в сверкающем нимбе из кристаллов. Опершись грудью о палки, он глубоко вдыхал морозный воздух. Как он был счастлив, ощущая этот бодрящий морозец. «Я существую!» – кричало все в нем. Он знал, что угадал или понял что-то очень важное, но не мог этого объяснить. Я существую. Если мир таков и я могу это узнать и это испытать, значит, я действительно существую. Он не задумывался, не пробовал формулировать, но его насквозь пронизывало чувство, подобное радости полета и огромного покоя, в нем была вера в бесконечность собственного существования, вне пределов несовершенства.
Он оглянулся. Белые силуэты товарищей едва показались из-за откоса. Вот они съезжают вниз. Шатаются, неуверенно присев на широко расставленных лыжах. Ему был виден собственный узкий след, наполненный светлой голубизной. Незаметно радость трансформировалась в маленькое обычное чувство удовлетворенности. Он получил звание бомбардира во вторую очередь, но на батарее не было лучшего лыжника, чем он.
Не ожидая остальных, Михал побежал к краю обрыва и упал в пушистый снег. Внизу лежала река, большую часть ее покрывал голубоватый лед, но на изгибах она была еще живой, сверкающей темными пятнами течения. На той стороне виднелись покрытые снегом крыши небольшой деревеньки, плетни, желтые от навоза дорожки, пригоршня церковных луковиц в глубине небольшой треугольной площади. Далеко за горизонт уходили плоские поля, глубоко ввалившиеся, как будто на них смотрели с высоты птичьего полета, с шеренгами наклоненных деревьев и с разбросанными повсюду кубиками домов.
Он сдвинул винтовку на грудь, выставил вперед ствол. Какая-то сгорбленная фигурка перебежала от одной избы к другой. За ней еще одна, и еще, и еще. Он прицелился и выстрелил. Грохот потряс тишину гулким эхом. Гайда упал в снег рядом с ним.
– Где?
– Там!
Снизу грянули беспорядочные, торопливые выстрелы. Из-за плетней тянулись цепочки отделений, они рассыпались вдоль реки, исчезали в седой щетине лозы. Лыжники стреляли с обрыва.
– Ты представляешь, – сказал Гайда, вытирая вспотевший лоб, – если бы это было на самом деле, как бы они у нас заплясали, черти!
Застрочил пулемет. Они прицеливались и стреляли, счастливые, как дети.
– Наши идут! – закричал кто-то в конце цепи. Склон холма за ними почернел от идущих по глубокому снегу фигур.
Михал радовался. Все радовались. Это было как в военном романе, как в кино. Они не должны были изображать из себя взрослых. Игра в войну. Игра, возбуждающее удовольствие которой никогда не перестает быть соблазнительным. Пехота достигла обрыва. Теперь выстрелы гремели дружными залпами, с обеих сторон стрекотали пулеметы. Телефонисты тянули линию через долину. Из-за холма вылетели конные разведчики. Перед позициями пехоты они соскользнули с седел – наблюдатель с капралом-пехотинцем бежали к обрыву, придерживая болтающиеся спереди бинокли. Потом в яркое небо взлетела с шипением красная ракета. Наблюдатель спрятал дымящуюся ракетницу в кобуру и, опустившись на колени, стал крутить ручку полевого телефона.
Огонь слабел, потому что большинство уже израсходовало свои холостые патроны. Но вскоре за бугром раздались четыре артиллерийских выстрела. Опять вверх взлетела ракета, на этот раз зеленая с длинным хвостом белого дыма. А потом веселым медным голосом запела труба и после нескольких запоздалых выстрелов наступила тишина. Из деревни чуть пониже выползали в поле черные змейки отделений. Теперь был слышен только бодрый звон топоров из-за поворота реки, где передовые подразделения сооружали мост, и команды офицеров, собирающих свои взводы.
Обедали они в «захваченной» деревеньке. На крестьянских дворах дымились полевые кухни. Из сеней высыпали бородатые мужики в кожухах, закутанные в платки бабы. Маленькие окошки были облеплены любопытными детскими мордашками. На главную улицу въезжали артиллерийские упряжки, лошадиные бока поросли серебряной косматой шерстью. Солдаты подставляли котелки под разливательные ложки с горячим гороховым супом.
– Хорошо повоевали, да? – сказал Гайда, стоящий перед Михалом в очереди.
– Ага, – согласился Михал.
Он силился что-то вспомнить. Какое-то мгновение этого дня, отблеск которого он еще ощущал в себе, но никак не мог выловить среди других впечатлений. «Это было что-то очень важное, – думал он. – Надо обязательно вспомнить. Обязательно».
III
Михал качнулся, инстинктивно ища ногой опору на влажной соломе. Спугнутая им лошадь била копытом в стойле. «Заснул, черт побери». Он быстро вскочил с цимбалины, одернул шинель.
– Стой, дурачок, – сказал он Эмиру, который храпел и звенел недоуздком.
Беспокойство коня передалось другим лошадям, и по конюшне пробежал нервный топот копыт и звяканье цепочек.
– Но-но! Спокойно!
Михал вышел в мощеный проход, посмотрел налево, потом направо. Ни души. Слабый свет лампочек, висящих под кровлей, стекал по отполированным лукам седел и ремням сбруи. Воздух был густой от теплых паров аммиака.
Левой рукой придерживая шашку, Михал неторопливо двинулся вдоль стойл. Под подбородком он ощущал давление ремешка. Некоторые лошади лежали, поджав ноги. И хвосты их разметались по соломе, как волосы спящих женщин. Другие стояли в задумчивости, низко опустив морды. Внезапная дрожь пробегала по их гривам. Сивые и гнедые, каштановые и вороные крупы. Он шел мимо спящих животных, по временам издающих глухие стоны. Едва слышно позвякивали шпоры – стеклянное эхо одиночества.
«Наверно, спят», – подумал он с обидой о ездовых. Он прошел всю конюшню и вернулся. Помещения взводов были разделены темными и сырыми сенями. Там стояли большие лари с фуражом. Он заглянул в сени. Оба ездовых сидели на ларе. В темноте светились красные точки сигарет.
– Вынести навоз, – сказал он в сторону съежившихся теней.
Он, собственно, хотел поговорить с ними, но когда увидел их перед собой, то опешил от их враждебности и не нашел ничего лучшего, как отдать приказ. Они неохотно задвигались, но с ларя не слезли. Он расценил это как неуважение.
– Вы слышали? – повторил, он повысив голос. – Вынести навоз.
Они молчали, презрительно и враждебно, как ему казалось, а он ждал, подавленный собственным бессилием. «Я должен «взяться» за них, сказать им что-нибудь о их матерях, пригрозить рапортом», – подумал он и устыдился. Ведь он хотел только по-приятельски поговорить с ними.
– Ща, – отозвался наконец ворчливый крестьянский голос. – Вот докурим.
Михал буркнул что-то и возвратился во взвод. Цимбалина возле Эмира еще слегка покачивалась. Он грустно посмотрел на коня. Веки воспалились, чесались. Было только около двух. Теперь он не мог даже присесть. Ездовые окончательно перестали бы с ним считаться.
Они не видели его со своего ларя, но он все время чувствовал их присутствие. Он ходил взад и вперед, все больше расстраиваясь. Ездовые уже давно должны были докурить свои сигареты. Что же делать? Вернуться и обругать? А если не послушаются?
«Это не только неуважение, – думал он. – Это ненависть. Они ненавидят меня за бело-красные шнурки аксельбантов и за то, что я имею право им приказывать, хотя и вдвое меньше служу в армии. Но ведь я тоже убирал Навоз в конюшне и выносил его. Да, но я это делал, только «проходя науку», а они будут всегда возиться в навозе. Даже когда вернутся в свои деревни. Они ненавидят меня за легкую судьбу и презирают за мягкотелость».
Михал ходил тяжелыми неторопливыми шагами, звеня шпорами, сжимая в руке скользкие ножны шашки. Ряженый. Вся эта бодрость ненастоящая.
Борута не спал. Он переминался с ноги на ногу, грыз ясли и икал, глотая воздух.
– Ну, Борута, успокойся!
Михал вошел в стойло, тыльной стороной ладони потрепал коня по шее, погрозил ему кулаком, когда тот, подняв верхнюю губу, потянулся к нему желтыми зубами.
– Я тебе покажу, негодяй.
Выходя, он оперся о костлявый зад, чтобы конь не ударил его копытом.
В конце прохода под стеной стояли носилки с навозом.
Он опять направился в сени, повторяя про себя слова, которые он сейчас скажет ездовым из учебной батареи. Он не будет на них кричать. Он обратится к ним спокойно и холодно. «Может быть, вы потому меня не слушаете, – скажет он, – что я не ору на вас? Не запрещаю вам курить? Но когда придет дежурный офицер, он взгреет меня, а не вас. – А под конец добавит резко, но не повышая голоса: – Ну, давайте, берите носилки».
Михал заглянул в сени. Ездовых не было. Он ощутил разочарование, смешанное с чувством облегчения. Наверно, ушли трепаться в другой взвод. Плохо освещенный проход во второй половине конюшни казался пустым. Матово-блестящие крупы, седла, вороха упряжи на крючьях. Ни души. С возмущением, не лишенным зависти, он подумал, что солдаты залезли, наверно, в какое-нибудь стойло и дремлют.
Скрипнули ворота. Повеяло сырым тающим снегом. Ездовые, с шумом поставив в угол лопаты, топали, хлопали рукавицами по бокам.
Михал не подумал об этом. Ездовые очищали поилки от снега. Они действовали без приказа, может быть, наперекор ему, чтобы доказать, что не нуждаются ни в чьей указке. Они могли очистить их позже, но, видимо, хотели подчеркнуть свою независимость.
Он ничего им не сказал и вернулся назад в конюшню еще более расстроенный. «А может быть, это я их ненавижу, – подумал он. – За их трудную судьбу, за их твердость».
Он перестал считаться с условностями.
– Эмир, подвинься!
Он толкнул сивый круп, сел на цимбалину. Конь повернул голову и посмотрел на него влажным коричневым глазом.
– Чего уставился? Спи!
Цепи, на которых висела цимбалина, тихо поскрипывали. Запах конюшни действовал одуряюще, ел глаза. Время, погрузившись в сон животных, стояло на месте. Когда Михал открывал глаза, он видел все тот же нереальный мир. Сивый бок Эмира, рядом на крюке седло с подтянутым на луке стременем и свисающей подпругой, а с другой стороны прохода – лежащие на соломе конские крупы. Ему казалось, что он бодрствует, что улавливает ухом каждый шорох и готов вскочить на звон шпор дежурного офицера, но топот тяжелых ботинок, покашливание и сонные ворчливые голоса захватили его врасплох.
– Недоносок, – говорил один.
– Антихрист, браток, – говорил другой.
Ездовые несли носилки. Он замер на своей цимбалине. Пройдя два стойла, они остановились, опустили носилки на землю. Он видел над лошадиными хребтами их головы в мятых фуражках. Один из них, с красной рябой рожей, закашлялся.
– А Чепелю, брат, взяли в санитарный барак, – сказал второй, с усиками и острым носом, как у крысы. – Вся его болезнь – чирей на заднице.
Рябой снова закашлялся, на этот раз как-то демонстративно.
– Уже ощипали, – сказал он.
Кряхтя, они подняли носилки и пошли дальше. Даже не посмотрев в его сторону.
Михал облегченно вздохнул. Они говорили о гарнизонном враче. Его же не удостоили даже ругательством.
Когда они вышли в сени, он встал и продолжил свою скучную прогулку. Делая очередной поворот, он заметил у входа фигурку в длинной шинели и конфедератке. Это был Ошацкий, из соседнего взвода. Он потягивался и зевал.
– Ну, как дела, старик? – спросил он, заикаясь от зевоты.
– Дьявольская скука, – ответил Михал. – И спать хочется.
– Я выспался, – сказал Ошацкий. – Часа два покемарил в яслях. У меня мировые ангелы-хранители. Я дал им по пачке махорочных, и они ходят как по струнке. Ничего им не надо говорить. Если придет поверка – вовремя разбудят.
Он протер глаза кулаками в перчатках, на его веснушчатом детском лице сияла улыбка.
– К тому же, брат, – добавил он, – сегодня опасаться нечего. Дежурство по дивизиону несет майор Гетт. Я слышал, как на манеже он договаривался с капитаном сыграть в бридж. Теперь он заявится только к раздаче кормов.
– А где же твои ангелы-хранители? – спросил Михал с раздражением. – Что-то их не видно.
– Сейчас они спят, а я отдуваюсь. Для чего всем мучаться?
– Если бы тебя накрыли, губа обеспечена.
Ошацкий рассмеялся.
– Э, брат! Губа тоже для людей, – он отряхнул с шинели остатки сена и ушел к себе.
«Ошацкий прав, – думал Михал. – Прав, черт побери!» Некоторое время он раздумывал, не пойти ли к ездовым и не сказать, чтобы поспали. Пожалуй, уже поздно. Подумают, что подлизывается. Ну что ж, надо заканчивать так, как начал. До раздачи кормов еще два с половиной часа. Он расхаживал все медленнее, распираемый зевками и тревогой. Кости, словно плохо подогнанные, давили на мышцы. Посмотрел на часы. Ему показалось, что они стоят. Приложил часы к уху и услышал настойчивое тиканье.
Он опять сел на цимбалину возле Эмира. «Только на минутку», – подумал он, позволяя векам сомкнуться.
– Пан подхорунжий…
Михал вскочил. Перед ним стоял тот рябой с красной рожей, ездовой Петрас, и забавно моргал белесыми ресницами.
– Не вставайте, пан подхорунжий. Я к вам с просьбой. Вы не рассердитесь?
– Что вам угодно?
Солдат кротко улыбнулся, полез в карман шинели и что-то с шуршанием извлек из него.
– Я письмо получил. Из дому. От брата. Вы мне не прочитаете?
– Давайте.
Михал подвинулся, освобождая место рядом с собой. Письмо было написано на вырванном из тетради листке. Аккуратные круглые буквы со старательно выведенными завитками, маленькие фиолетовые пятнышки разбрызганных чернил.
«Дорогой брат Марцин! Во первых строках моего письма кланяюсь Тебе и сообщаю, что все мы здоровы, чего и Тебе желаем. – Петрас глубоко вздохнул, точно после вступления ксендза к проповеди в костеле. – У нас ничего нового. В нашей деревне никто не умер, не было ни одного несчастного случая и ни одного пожара. Матушка наша страдала грудью, и мы ее натирали собачьим салом, но теперь она, слава Богу, здорова, как всегда, ходит за скотиной и в прошлое воскресенье ходила к обедне. Крестины у Бронков будут в Страстной Понедельник. Хотят Тебя просить быть крестным, да не знаем, будет ли Тебе отпуск, потому что у нас люди много о войне говорят, что она должна быть, а если будет война, то никого не отпустят. Так Ты нам, дорогой брат, напиши, как там оно есть, потому что Тебе там в армии виднее. Это моя главная к Тебе просьба, чтобы я знал, что Бронкам сказать, и чтобы Матушку нашу порадовать, потому что она сильно по Тебе плачет, что как война будет, то Ты погибнешь и станешь Неизвестным Солдатом.
Кланяюсь Тебе, брат Марцин, и все Тебе кланяются, сестры, Марыська и соседи, а Матушка Тебя благословляет. Здесь, где этот крестик, она поцеловала. Ответь поскорее, как там с отпуском и с войной. Пусть Тебе кто-нибудь сделает милость напишет. Оставайся с Богом.
Твой брат Юзек».
– Всё, – сказал Михал.
Ездовой несколько раз кашлянул, потом отхаркался.
– Вот здесь этот крестик. – Михал, показав пальцем, протянул ездовому письмо.
Тот взял его в красные потрескавшиеся руки, прикрыл крестик грязным большим пальцем. Оба смущенно молчали.
Через некоторое время Петрас заерзал, спрятал письмо в карман, достал смятую пачку сигарет и робко тронул Михала за локоть.
– Здесь нельзя, – сказал Михал и сейчас же пожалел о сказанном. «Что я за чертов службист?» – Если хотите, курите в сенях, – уступил он.
Но Петрас спрятал пачку в карман.
– На ксендза будет учиться, – сказал он.
– Кто?
– Брат. Он умный, все понимает.
– Ага.
– Пан подхорунжий…
– Да?
– Почему все о войне говорят? Будет война?
– Не знаю. Это, наверно, в связи с аншлюсом.
– А это кто такой?
– Кто?
– Этот Айшлюс, о котором вы говорили.
– Нет, это не фамилия. Это значит «присоединение». Гитлер силой присоединил Австрию к Германии. Вы должны были об этом слышать. Отсюда и это беспокойство.
– И через это должна быть война?
– Нет, не должна. Я думаю, что не будет.
Петрас вздохнул, опустил голову, уйдя в свои думы.
– А далеко эта Австрия? – спросил он через минуту.
– Порядочно.
– За морем?
– Нет. За третьей границей. Сначала Чехословакия, потом Венгрия, а потом Австрия.
– Спасибо, пан подхорунжий.
– Не за что.
Михал с грустью подумал, что сейчас канонир уйдет и опять вернется одиночество среди спящих коней. Но Петрас продолжал сидеть на цимбалине, почесывая голову. Его что-то беспокоило.
– Пан подхорунжий, – сказал он, немного помолчав, – объясните мне, пожалуйста, я ведь неученый… Как там с этими странами?
– Ну что, например?
– Ну, граница. Это что, ров такой выкопали или плетень поставили, чтобы человек не перелез?
– Нет. Эхо такая линия на местности. Иногда государства разделяют горы, иногда реки, а иногда ничего. Линия такая, она идет через поля, леса. Ее охраняют заставы.
– А там, с другой стороны, уже другие люди?
– Такие же самые. У них другой язык, другие законы. Но не всегда.
– И у них тоже хозяйства есть? В поле работают? В костел ходят?
– Да.
Петрас улыбнулся, заморгал белыми ресницами.
– Так, значит, войны не будет?
– Думаю, что нет.
– Спасибо, пан подхорунжий.
– Что вы, не за что.
– Послушайте, – добавил Михал, видя, что Петрас собирается уходить, – кто вам напишет ответ?
– Да я еще не знаю. Может, капрал Брыла. За сигареты.
– Если хотите, я могу написать. Приходите вечером на пятую батарею.
– Благодарю.
– Пустяки.
Петрас тяжело поднялся с цимбалины.
– Пан подхорунжий…
– Да?
– Старший унтер-офицер говорил, что если будет война, то все, что пропадет, с человека не взыщут. Что это будто бы идет в убытки.
– Не знаю. Может быть, это каптенармусы ловчат. Ездовой неуклюже переминался с ноги на ногу.
– А то я простыню порезал. На портянки. Портянки у меня украли, ироды, так я взял простыню и порезал.
Михал развел руками.
Петрас, опершись о круп Эмира, на минуту задумался о чем-то, – может быть, о выгоде и убытках войны, наконец пожал плечами.
– Покличу Гавдзёха, выберем из-под лошадок.
Он удалился, покашливая и тяжело стуча сапогами.
Михал вышел из стойла. Дышалось как будто немного легче. Маленькие окошечки над яслями посерели. Что-то вверху прошелестело. Под сводами конюшни прошмыгнул воробей. Михал направился в сени, толкнул ворота. За коновязью на бесцветном холодном небе вырисовывались голые ветки тополей. Он глубоко вздохнул и помотал головой, отряхивая густой чад ночи.