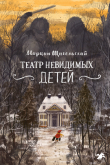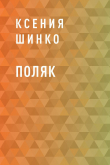Текст книги "Мотылек"
Автор книги: Ян Щепанский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
– Да.
– Может, свернете?
Михал с благодарностью взял жестяную коробочку. Они еще несколько раз в течение ночи курили самокрутки из липкого, воняющего карбидом табака. Для беседы им хватало нескольких слов, необходимых для того, чтобы свернуть цигарку и прикурить, иногда вздохнуть или произнести какое-нибудь проклятие. Сгорбившись, опершись друг о друга, они по временам впадали в продолжительное оцепенение.
Михал очнулся со смутным ощущением какой-то перемены. В зале разговаривали. Было светло. Под потолком горела голая лампочка. У открытого окошка кассы стояла кучка деревенских баб с корзинами и жестяными бидонами, держащимися на плече с помощью льняных полотенец. Бабы пахли прогорклым маслом и разговаривали плаксивыми, тягучими голосами. Он посмотрел на своего товарища. Но человек, у которого убили свояка, исчез. На его месте сидела старая толстая тетка в мужских сапогах. Из-под ее клетчатого платка на уровне груди высовывалась голова гуся с круглым жёлтым глазом, полным немого укора. Из открытых дверей веяло холодной темнотой.
– Идёть! – крикнула какая-то женщина.
Среди внезапного гомона он встал, разбитый, опустошенный, без единой мысли в голове, и, зевая и дрожа всем телом, начал связывать свои вещи.
Конюшня на Цельной
Зимою, когда Михал уходил на работу, была еще ночь. Комнату наполняло затхлое тепло сна. Лампочка, скрытая в некрасивой люстре, подделанной под старину, бросала свет, слишком белый и слишком докучливый, на развороченную постель, остатки завтрака на столе, сжатую в гармошку штору из черной бумаги, закрывающую окно.
Он ощущал непреодолимое желание вернуться в постель. Сон бродил еще в теле тяжелой липкой жидкостью, лишал равновесия, делая движения неуверенными. Он чувствовал, как мучительно сосет под ложечкой после слишком раннего и всегда недостаточно обильного завтрака, состоящего из ячменного кофе с сахарином и кислого хлеба со свекольным мармеладом.
Мать шуршала бумагой, заворачивая приготовленные ломтики хлеба.
– Ты много мне заворачиваешь, – говорил он. – Посмотри, что ты себе оставила: маленькую горбушку.
Он знал, что и этой горбушки она не съест. Выпьет немного бурды и будет ходить голодная до обеда. Ее жертвы давили на него растущей изо дня в день тяжестью, и его охватывала бессильная злоба. В ответ она смущенно улыбалась.
– О, мне достаточно. Старикам много не надо. Такой разговор происходил у них каждое утро, и всегда его нежность превращалась в огорчение.
– Полежи еще, – говорил он. – Тебе совсем не обязательно вскакивать. Я прекрасно сам могу приготовить завтрак.
– Да, да, я прилягу, – уверяла она.
Он знал, что это неправда. Она сядет штопать или пойдет в холодную кухню стирать его рубашки и носки. Уже давно его забота о ней свелась к пустой церемонии. Не потому, что он не был искренним, а потому, что не было никаких действий, подтверждающих эту заботу. Он был похож на человека с пустыми карманами, который отваживается на широкий жест, будучи уверенным, что его подарок не будет принят.
Она куталась в вылинявший фланелевый халат – когда-то голубой с белыми цветочками, а теперь почти гладко-серый – и, присев на край кровати, смотрела с выражением болезненного напряжения на будильник, громко тикающий на ночном столике. Эти последние минуты были самыми трудными. До пяти длился комендантский час – он не мог выйти раньше.
Наконец они прощались. Каждый раз так, как будто он отправлялся в далекий опасный путь. Она обнимала его с испуганно сдерживаемой поспешностью, целовала в лоб.
– Береги себя, – просила она. – Будь осмотрительным.
Он с трудом сдерживал нетерпение.
– Ну конечно. Хотя мне ничего не угрожает.
Он выскакивал в коридор, в спешке боролся с дверной цепочкой и убегал. Он знал, что она стоит на пороге, следя за ним, пока он не исчезнет. Лестничная клетка была темная и воняла плесенью и картофелем. Ночью она всегда наполнялась запахами подвала. Грохот его тяжелых ботинок разносился по всем этажам. Ему казалось, что за ним кто-то гонится. Что он гонится сам за собою.
Холод улицы успокаивал его. Улица была очень широкая, продуваемая влажным дыханием близкой реки. Посредине тянулся ряд деревьев. В их безлистых черных ветвях, предчувствуя близкий рассвет, шевелились галки. Обычно он останавливался сразу же у парадного и закуривал сигарету «Юнак» – твердую, как палка, в толстой бумаге. Горький, дерущий горло дым вначале действовал одуряюще, но после нескольких затяжек приходило ощущение какой-то вульгарной фамильярности по отношению к действительности, и в этом был аромат дня.
В это время город обычно находился еще в летаргии, если накануне не объявляли о том, что будут давать маргарин или мыло. Тогда перед железными жалюзи магазинов торчали закутанные в платки сгорбленные фигуры женщин. Они стояли тихо, словно дремля, полные решимости выстоять на посту до восьми. Завистливые взгляды, которыми их будут провожать через несколько часов легкомысленные люди, толпящиеся в конце длинной очереди, вознаградят их за все – это будет один из тех триумфов, которые делают жизнь возможной.
Если был снег, тротуары повсюду скребли деревянные лопаты дворников. Иногда из-за угла улицы появлялся возвращающийся патруль. Уставшие жандармы с трудом волочили ноги – их бдительность к утру ослабевала. Они все еще сжимали руками стволы висящих на груди автоматов, но во взгляде, которым они скользили по редким прохожим, была одна рассеянность и скука.
Он любил представлять себе внезапное превращение этой тупости в удивление и страх. Если бы неожиданно выскочить с оружием – «Hände hoch!» [36]36
Руки вверх! (нем.)
[Закрыть], трое на трое или даже двое против троих. В эту пору могло и удаться. Он проходил очень близко от них, почти касаясь покоробившихся от холода плащей, делая вид, что – задумавшийся и сонный – не замечает их на своем пути.
До трамвайной остановки было недалеко. Еще не завернув за угол, он уже слышал стук – переступание замерзших ног, обутых в туфли на деревянной подошве. Рабочие стояли неясной темной группой между Круглым киоском и пригашенным фонарем, источающим крохи синего света. Они тупо притоптывали, окруженные запахом нищеты: низкосортного табака, пота, кислого дыхания. На выпуклой стене киоска виднелся в тусклом свете последний список заложников.
Иногда, ища знакомые фамилии, Михал испытывал острое чувство вины. Он знал, что близкие питают надежду на спасение этих людей, а он просто ищет знакомых, как на театральной афише. Тогда он себе представлял, что однажды и он будет назван в этом списке. Мать будет бегать по знакомым в отчаянной попытке найти «пути», связи и деньги. Будет давать задатки каким-то подозрительным типам, целуя им руки, как спасителям, будет слушать с покрытым коричневыми пятнами лицом соболезнующие рассказы о счастливых исключениях, которые были с кем-то, где-то, неизвестно когда и где.
Он неизменно приходил к выводу, что об этих вещах думать нельзя. В такие минуты он обычно ощущал таинственную, тлеющую в глубине души зависть, – зависть к тем, которых никто утром не провожает, которых никто вечером не ждет. Он упрекал себя за это, стыдил, но не мог избавиться от тоски по покою одиночества.
Из глубины мрачной улицы приближался трамвай. Он трезвонил, от его прикрытого голубым бельмом фонаря вспыхивали голубые лучи рельсов среди грядок скользкого булыжника.
Здесь, недалеко от центра, еще можно было найти в вагоне место на твердой скамейке. Тени, стоящие на трамвайной остановке, неожиданно обретали лица: небритые, мертвенно-бледные в синем освещении. Он знал этих людей. Каждое утро он терся о их костлявые плечи, слушал их полные проклятий ворчливые разговоры, видел, как они дремлют с открытыми ртами, опустив на грудь сотрясаемые толчками вагона головы. Это были рабочие с содового и кабельного заводов, с печей по обжигу извести. Их становилось все больше. Возле моста они уже заполняли весь проход, бессильно висели, держась за кожаные ручки. Под напором их тел веревка, разделяющая вагон на две половины, натягивалась и скрипела. В другой половине чаще всего было пусто. Если случался какой-нибудь привилегированный пассажир, то это всегда был – в эти ранние часы – человек в мундире. На него не обращали внимания. То, что он мог удобно расположиться, вытянуть ноги в сапогах со сверкающими голенищами, даже положить их на противоположную скамью, казалось, никого не удивляло. Так уж было заведено. Люди привыкли. У Михала эта картина тоже переставала вызывать возмущение. Беспокойство и удивление, которое он еще испытывал, было вызвано не унижением или собственным неудобством, а положением человека по ту сторону веревки. Ни за что на свете он не поменялся бы с ним местами. Часто с жадным вниманием наблюдал он за пассажирами из первого отделения. Его не оставляла надежда, что он заметит какой-то признак слабости, какое-то проявление человеческого раскаяния. Несмотря ни на что, он не хотел согласиться со слишком простым миром ненависти. Но его усилия не давали результатов. Когда он случайно встречал немца, он видел, что его холодные глаза смотрят на груду сдавленных тел, как на далекий, безразличный ему пейзаж. И Михал так и не мог понять, что это означает: страх, отсутствие воображения или помешательство?
В этих исследованиях самым важным моментом был проезд через гетто. Здесь он наблюдал особенно внимательно и начинал еще больше сомневаться в своих способностях понять человеческую психологию. Разве медленный поворот головы от окна или закуривание сигареты относилось к числу ожидаемых реакций?
Трамвай сбавлял скорость перед стеной, и тогда на переднюю и заднюю ступеньку вскакивали одетые в черную форму часовые. Потом вожатый со стуком передвигал рукоятку до упора, приводя вагон в дрожь и тряску неожиданной скоростью. Трамвай подскакивал, лязгал, звенел стеклами, мчась как бешеный по узкому коридору между ограждениями из колючей проволоки.
Его грохот нарушал не просто молчание города на рассвете, он нарушал какую-то иную тишину. Это не была тишина сна. Вдоль проволочных заграждений фосфоресцировали бледные пятна лиц, бледные пятна рук, поднятых в молящем ожидании. У стен бедных покосившихся домиков предместья с окнами, заткнутыми тряпками и бумагой, во дворах и вытоптанных палисадниках с рахитичными деревьями, всегда стояли люди. Бородатые мужчины в длинных черных халатах, дети с огромными страдальческими глазами. Может быть, они стояли так всю ночь, ожидая это большое событие, каким, видимо, был для них шумный проезд первого утреннего трамвая? Но в тот момент, когда это происходило, когда металлическое эхо разносилось по узким улочкам и сотрясало стены развалин, они продолжали неподвижно стоять. Иногда на треугольной площади с белой часовенкой божьей матери можно было увидеть свернувшиеся на земле темные фигуры. Михал знал, что это мертвые. Он видел их, проезжая накануне. Никого возле них не было. Их смерть была красноречивым исходом. Но те, что стояли у проволоки, тоже казались близкими к этой единственной развязке. Они еще делали какие-то усилия, они еще по привычке или из чувства долга перед жизнью, ждали чего-то, но не было в этом ни убежденности, ни надежды.
Летом, когда окна вагона были открыты, за проволоку иногда летела пачка сигарет или завернутый в бумагу ломоть хлеба. Теперь никто не мог на это рассчитывать. Осталась только привычка, а может быть, развлечение людей, больных ностальгией, – созерцание людей свободных, тех, которым оставлено право передвигаться с места на место и привилегия толкаться в тесной половине трамвайного вагона.
Выехав за стены гетто, трамвай опять сбавлял ход, и тогда Михал начинал проталкиваться к выходу. Иногда случалось и так, что лишь смена скорости давала ему понять, где он находится. «Ага, проехали гетто», – думал он. Просто некий отрезок пути, часть города.
Белые лица у проволоки, скрюченные тени на земле – вопросы, с которых начинался день и которыми кончался, – проплывали рядом, и мысль не задерживалась на них. Они были как слова молитвы, произносимые одними губами. «Проехали гетто». Иногда он спрашивал себя с грустью, в чем заключается эта принципиальная разница, которую он хотел уловить, наблюдая немцев по ту сторону веревки. Тогда он начинал думать, что ко всему можно привыкнуть.
Он выходил на второй остановке после гетто и сворачивал на Цельную с постоянным чувством бессильного протеста. Она кончалась глухой стеной, шла между заборами и задними стенами каких-то складов или фабрик. Летом на ней была непролазная грязь, зимой – сплошные смерзшиеся глыбы. Уже у ворот его приветствовал запах конюшни – запах, когда-то любимый, но теперь не вызывавший приятных воспоминаний. Большой, вымощенный булыжником двор был завален соломой и навозом. Он проходил мимо повозок с опущенными дышлами, поблескивающего во мраке катафалка – погребальной бонбоньерки на колесах. Из дровяных сараев по обеим сторонам, из-за неясно белеющих стен каменной конюшни доносилось позвякивание сбруи, похрапывание, стук тяжелых копыт. Он вытаскивал ключ. Над коньком, торчащим на крыше фуражного склада, на сереющем небе горела яркая звезда. Михал знал, что, прежде чем он последний раз повернет ключ в замке и сядет в трамвай, идущий назад через гетто, снова настанет ночь.
* * *
Михал уступил добродушным уговорам Данеца. Теперь он оставляет ключ от кладовой ему. И поэтому может не спешить на первый трамвай. Просыпается он так же, как и раньше, в четыре, но разрешает себе еще минут десять или пятнадцать полежать в теплой постели. Это кажется ему преступной роскошью.
Когда он входит в конюшню, корм уже задан, а люди работают не с такими унылыми лицами, как тогда, когда они должны были ждать у закрытых дверей.
Данец скалит зубы из-под неопрятных рыжих усов и говорит:
– Ну, шеф, разве так не лучше? И для вас, и для нас.
То, что извозчик доволен, будит в нем подозрения, но он старается не вникать в подлинные причины этого.
В тот день, переступая во дворе через дышло повозки, он услышал доносящиеся из конюшни яростные крики и приглушенные удары. Он знает, что это такое, и неохотно ускоряет шаги.
На средней балке под стропилом висит закопченная керосиновая лампа. Четыре тени мечутся в неясном свете между перегородками первого стойла. Здоровенный Пацула молотит грохочущей цепью по костлявому лошадиному крупу, выступающему за желоб стока. Хвост лошади веером раскинулся на бетонном проходе. Она жалобно стонет, перебирая вытянутыми вбок огромными ногами. Ее пинают в спину, бьют кулаками по вздувшемуся боку.
– Каштанка, вставай, черт!
– Эй! Поднимайся, дьявол!
– Оставьте ее в покое! – кричит Михал в дверях.
Они расступаются, смотрят на него выжидающе и, как ему кажется, с издевкой.
– Опять легла, бестия, – докладывает Данец, вытирая рукавом пот со лба и скаля из-под усов желтые зубы. Животное вздыхает, как измученный человек. Голова лошади, подтянутая короткой цепью недоуздка, неестественно задрана кверху в сторону кормушки.
– Снимите недоуздок.
– Если она положит голову на землю, то уже никогда не встанет, – возражает Вишневский.
– Ведь она задыхается, вы что, не видите?
– Она потому так стонет, что ее пузырь беспокоит. Не может помочиться лежа.
Из другой половины конюшни, отделенной сенями, пришли катафальщики. Они стоят в проходе в своей позеленевшей вытертой униформе и смеются.
– Ну и лошади у вас! Таких и на бойню посылать стыдно.
Это правда. Фирма «Экспедитор» – типичное предприятие военного времени, не рассчитанное на длительное существование. Покупает выбракованных кляч, живые трупы, передвигающиеся из последних сил. Главная упряжка фирмы – две «мощные лошади». Неподнимающаяся Каштанка и пятнистый розоватый мерин с фиолетовыми от йода путовыми костями. У него ящур. Определение «мощные» относится к их конституции. Оно говорит о массивности костей, размере копыт и голов. Но кости эти можно пересчитать под запаршивевшей шерстью. Третья, гнедая, которую запрягали в маленькую одноместную «качалку», имела вид вполне приличный. Легкая, складная, с круглыми боками и крупом, как огурец, она вполне могла бы ходить в помещичьей упряжке. Но она самая ненадежная. Норовистая и злобная. Никогда не известно, чего она испугается. Уже несколько раз она переворачивала на улице повозку с поклажей и кучером Куликом.
Катафальщики правы. Они приседают, визжат от смеха, когда Каштанка, храпя, выпускает газы.
– Давайте подсовывайте ремни, – говорит Михал.
Все знают, что это единственная мера, но каждый раз обманывают себя и надеются, что обезумевшая от боли лошадь сама вскочит на ноги, избавляя их от мучений.
Они неохотно связывают холщовые пояса, ремни от шлеи, постромки. Их ненависть к лошади растет с каждой минутой, выливаясь в поток проклятий и оскорблении. Нелегко поднять круп такого большого животного. С помощью катафальщиков они тянут ее за хвост, за ноги, поднимают, подталкивают. Спереди немного легче, потому что животное висит на уздечке. Наконец они перебрасывают концы импровизированной лебедки через стропило.
Теперь тянут все вместе. Раз-два! Взяли!
Михал поручает командовать Данецу. Ухватившись за шершавый канат, сдавленный плечами товарищей, Михал напрягается, приседает, сгибает позвоночник дугой. Конюшня гудит от стука бьющих в доски копыт, в воздухе густая пыль, соломенная труха набивается в нос и горло, Папула хватает кнут и бьет лошадь по крупу, по шее, куда попало.
Вдруг канаты ослабевают, люди приседают до самой земли.
– А, сукина дочь! – кричит с облегчением Данец.
В желтом свете лампы, в мутном свете сереющих над яслями узких окошек постепенно оседают клубы пыли. Огромная лошадь стоит на шатающихся ногах, дрожа всем телом. Наклоняется вперед, прогибает худую спину и неожиданно выпускает горячую струю мочи. Брызги отлетают на вспотевшие лица людей.
– Лей, лей, голубушка, – любовно говорит Вишневский.
* * *
День пробивается постепенно, с трудом. Над платформами и путями товарной станции нависла мгла. Фонари железнодорожников колеблются в бескрайнем просторе, окруженные радужными ореолами. Голоса звучат удивительно громко и четко, а пронзительные крики маневровых паровозов доносятся как будто бы издалека, как сквозь воду. Очень холодно. Припорошенный сажей, истоптанный снег скрипит под ногами.
Сегодня у них под разгрузкой только один вагон. Стоя на заиндевевшей платформе, с блокнотом и карандашом в окоченевших руках, Михал с завистью смотрит, как ловко двигаются четверо его людей, разгоряченные, без курток.
Перед телеги уже заставлен деревянными бочонками с мармеладом. Сейчас выносят стопки картонных коробок. Некоторые коробки повреждены. Из них сыплются конфеты. Никого это не трогает. Иногда кто-нибудь из рабочих наклонится, обметет конфету перчаткой и спрячет в карман, но чаще деревянные подошвы давят рассыпанное добро. Стоящий у дверей вагона конвоир смотрит на это с полным равнодушием. Он заросший, грязный, уши завязаны шерстяным платком, ботинки обмотаны газетами. Много дней и ночей провел он среди этого богатства. В его теле не осталось ни капли тепла, а вид сладкого вызывает у него тошноту.
Для Михала товарная станция – место фантастическое. Он не может привыкнуть к презрению, с которым здесь относятся к вещам, о которых простой смертный не смеет и мечтать. Бочки французских вин, ящики золотых апельсинов из Испании, пачки светлого болгарского табака. Со всем этим обращаются как попало. Роняют ящики, выбивают плохо забитые пробки. Потом солидные немецкие чиновники с толстыми шеями составляют акты, грозно глядя поверх очков, а свидетели – конвоиры, экспедиторы, начальники эшелонов – сокрушенно качают головой. Полные важности, они исчезают затем в коридорах серого здания таможни, где дальнейшие формальности носят уже конфиденциальный характер.
Работа на товарной станции считается одной из наиболее выгодных как для поляков, так и для немцев. Михал знает об этом, но, хотя бывает здесь часто, остается по-прежнему новичком в этом таинственном, закрытом для непосвященных мире изобилия. Он чувствует, как возчики презирают его за это. По правде говоря, он немного им завидует – но не настолько, чтобы попытаться вторгнуться в их секреты.
Он старательно пересчитывает коробки, сознавая всю бессмысленность и нелепость своей педантичности. Количество, конечно, обязательно сойдется. «Кажется, это уже праздничный паек, – думает он. – Но кто его получит? Может быть, дадут граммов по триста на специальные карточки. Но вероятнее всего, в газетах появится сообщение, что «население генерал-губернаторства добровольно жертвует дополнительный паек героическим солдатам вермахта». Мысль, что они опять будут обмануты, доставляет ему какое-то грустное удовлетворение. Он не анализирует это чувство. Оно банально. По сути, все хотят идеала: чтобы подлость была как можно подлее, как можно мельче, лишенная всякой возможности оправдания.
Мгла, смешанная с клубами пара, пропитывается холодной розоватостью. Проходящий вдоль перрона Bahnschütz [37]37
Железнодорожный охранник (нем.).
[Закрыть] в огромных фетровых бурках останавливается, смотрит на часы, широко зевает.
Отсюда видны часы на башне таможни. Половина восьмого. Скоро откроют магазины. Он должен зайти к Лиде. Это он сделает, когда будет сгружаться товар на складе «Сполэм». У него будет достаточно времени, чтобы догнать их на вокзале перед следующим рейсом. Он составляет себе расписание на день и надеется, что на этот раз все у него получится как нельзя лучше. До десяти они должны управиться с вагоном. Потом он сбегает в контору за распоряжениями. Может быть, уже не будет никаких далеких рейсов – ведь сегодня суббота. Он пойдет обедать домой и в конюшню уже не вернется. Вечернюю раздачу корма он поручит Данецу. Наконец он рано ляжет спать. А до этого… он колеблется: навестит Терезу или будет заниматься, читать, конспектировать? Всегда надо чем-то жертвовать. Чаще всего всем.
– Пан начальник… – говорит с укоризной Вишневский.
Михал засмотрелся. Он продолжает стоять на товарной платформе и мешает людям заниматься погрузкой. Он спрыгивает на перрон.
– Кончайте, кончайте, – говорит он, чтобы придать себе уверенности.
Не надо их подгонять. У них тоже есть свои субботние планы. Через некоторое время, скрипя осями, «фаэтон» выкатывается за ворота. Они едут по грязной широкой улице. С правой стороны – за забором черные деревья и запорошенные снегом холмы старых фортов. С левой – тюрьма. Над высокой каменной стеной окна закрыты железными «корзинами». Из застекленной сторожевой вышки торчит ствол пулемета. Тротуар до самой мостовой огражден колючей проволокой.
Михал с Данецем и маленьким кривоногим Куликом сидят на козлах. Пацула и Вишневский устроились среди бочек и коробок. Сколько километров они уже вот так проехали вместе. И несмотря на это, между ними есть какая-то преграда. Михал чувствует себя чужим среди этих людей. Он знает, что и они не считают его своим. Вот и сейчас он перехватывает их понимающие улыбки и взгляды и чувствует, что они заговорщически о чем-то договариваются.
Кулик слегка кивает головой, а Данец, переложив вожжи в левую руку, правой лезет в карман.
– Шеф, – говорит он доверительным тоном, – это для вас.
На Данеце грубая поддевка из военного сукна. Он что-то осторожно достает из кармана. Это плитка шоколада. Виден уголок ее в твердой глянцевой бумаге.
– Откуда это у вас? – спрашивает Михал растерянно. В ответ раздается взрыв смеха.
Данец подбадривающе толкает его локтем в бок.
– Сегодня Николай Чудотворец, – говорит он.
Конечно. Михал совсем забыл об этом. Но он не сдается.
– Почему вы должны делать мне такие подарки?
Они опять смеются. В этом смехе есть оттенок презрения.
– Это не от него, – вмешивается Пацула. – Это от конвоира.
– Оставьте лучше своим детям, – говорит Михал.
Они опять смеются. Смеются над ним. Кулик наклоняется, поднимает край грязного одеяла, которым прикрыты козлы.
– Посмотрите: себя мы тоже не обидели.
Под мешком с сеном, между тряпками, поблескивает около десятка таких же плиток.
– Спасибо, – говорит Михал.
Он украдкой перекладывает шоколад из кармана Данеца в свой. Потом достает пачку «Юнака» и, пристыженный, угощает всех по очереди.
* * *
Через стекло витрины ему видно, что у Лиды покупатель. Чья-то мощная фигура стоит, опершись локтями о прилавок. Вход немного ниже уровня тротуара – к нему ведут две каменные ступеньки. Это маленький невзрачный магазинчик мужской галантереи, один из тех, в которых посвященные могут приобрести самые неожиданные, уже не встречающиеся в открытой продаже товары, начиная с солонины и кончая отрезами на костюм. Колокольчик над дверью приветствует Михала стеклянным дребезжанием. Лида и мужчина, стоящий у прилавка, поворачивают головы. В движениях Лиды есть какое-то сопротивление, какая-то скованность. Видно, что она с трудом сохраняет деланное спокойствие. У нее круглое кукольное лицо с большими глазами и коротким тупым носиком. Светлые волосы вьются надо лбом тонкими колечками. Красота ее простоватая, даже немного вульгарная.
– Здравствуйте, – говорит Михал.
– Здравствуйте, – отвечает Лида. – Что вам угодно?
Покупатель у прилавка недоброжелательно рассматривает его уголком глаза. У него вид провинциала. Коричневая фетровая шляпа, непомерно длинное пальто с меховым воротником. Он выбирает галстуки. Один, с довольно странным сочетанием цветов (желто-красные полоски на зеленом фоне), он держит в своих грязных толстых пальцах. «Этот безвредный», – заключает Михал свои наблюдения. Но данная ситуация застала его врасплох. Он был уверен, что в это время Лида будет одна. Он быстро пробегает глазами по предметам под стеклом прилавка. Посредине лежат картонные коробочки с запонками.
– Покажите мне запонки, – просит он.
– Вам металлические?
Михал делает дурацкую мину, раздувает ноздри, поджимает нижнюю губу.
– А пермалутровые у вас есть? – говорит он гнусавым голосом парня из предместья.
Он внимательно смотрит в лицо Лиды. Он видит, что уголки ее губ вздрагивают, но она не улыбается, не обнажает зубы. Зубы у нее крупные, пожалуй, не гармонирующие с ее небольшим лицом, но когда она улыбается, то перестает быть куклой и в ней неожиданно обнаруживается характер.
– Вы имеете в виду перламутр, – поправляет она его серьезно.
Михал пожимает плечами.
– Хорошо. Пусть будут перламутные.
Теперь он, кажется, попал. Она быстро отвернулась, роется в ящиках.
Покупатель в длинном пальто прерывает их ворчливо:
– Ну так как, мадам? Сбавите или нет?
– Я действительно не могу, – говорит Лида сухо. – Я на галстуках почти ничего не зарабатываю. Советую вам взять, – добавляет она мягче. – Они хорошего качества.
Покупатель в раздумье пропускает галстук между пальцами. На его лице написана скупость и недоброжелательство. Наконец, бормоча, он кладет его на прилавок.
– Я подумаю, – говорит он и выходит, обдаваемый звонким дождем колокольчика.
– К чему эти шутки, Павел, – говорит Лида с укоризной.
– Я хотел тебя рассмешить.
– Ох, нет причин для смеха, – вздыхает она.
– Что случилось? Был Старик?
– Да. Скверная история.
Она украдкой бросает взгляд на дверь и наклоняется к нему, хотя они в магазине одни.
– Клос арестован.
– Когда?
– Вчера ночью.
Некоторое время они стоят молча, глядя друг на друга. Но Михал не видит Лиды. Он видит худощавую фигуру на кривых ногах, белесого блондина с длинным носом и светлыми, слегка косящими глазами, лицо без возраста, хитрое и унылое, как будто постоянно мучимое плохими предчувствиями.
Девушка мягко касается его плеча.
– Выпил бы чаю, Павлик? У меня натуральный.
Михал смотрит на часы. Он смело может подарить себе десять минут.
Они идут за перегородку в глубине магазина. Здесь очень тесно. Под стеной громоздятся коробки с товаром. Лида включает электрическую плитку на маленьком столике, ставит на нее горшочек с водой. Они садятся. Она на единственный стул, он – на низкую табуретку.
– Ты уже кого-нибудь предупредила? – спрашивает он.
– Нет. Кроме тебя, еще никто не приходил.
– Прежде всего Роман, – размышляет он вслух. – Рыжий… – поправляется он, раздражаясь. Лучше бы не подчеркивать своей ошибки.
Лида делает вид, что ничего не заметила.
– Старик просил, чтобы ты взял на себя все его явки.
Михал наклоняет голову. Еще одна нагрузка. Теперь у него уже совсем не останется свободного времени. В нем растет глухая ненависть к конюшне на Цельной, к подыхающим лошадям, к кучерам, от которых всегда разит водкой. Сейчас они, наверно, кончают выгружать в «Сполэм»’е и скоро поедут назад на вокзал. А Роман живет далеко. Но это самое важное. Теперь у него не остается ни секунды. Он должен немедленно туда бежать. Лида разливает чай в фаянсовые кружки.
– К сожалению, у меня нет сахара, – говорит она. – Хочешь с сахарином?
Михал отрицательно качает головой. Берет кружку, касается губами горячей терпкой жидкости. Как это прекрасно! Он уже не помнит, когда последний раз пил натуральный чай. Михал щурит глаза, наслаждаясь обвалакивающим его легким приятным дурманом.
Вдруг быстрым движением он отодвигает кружку.
– Послушай, Лида, а он тоже знал про этот «ящик»?
Девушка утвердительно кивает головой.
– Да. Старик меня ликвидирует. Он просил, чтобы ты искал другое помещение.
– Ну хорошо, а ты?
Лида пожимает плечами, впервые улыбается. В блеске ее крупных зубов, в выразительном изгибе губ есть умное легкомыслие и смелость.
– Ах, я не знаю никаких адресов и фамилий.
– Все равно, – взрывается Михал. – Тебе нельзя здесь оставаться!
– Пойми, Павлик, – отвечает она тихо, – ведь этим магазином я содержу всю семью.
– Но это безрассудство, – настаивает он, – это… – Он хотел сказать «самоубийство», но не решился.
Как-то стало стыдно. Он знает, что оба думают сейчас об одном и том же. И наконец Лида произносит это вслух:
– Какое мы имеем право заранее предполагать, что он продаст?
У Михала на языке уже готовая формула, что соображения безопасности требуют всегда предвидеть самый плохой оборот дела, но он не решается произнести ее.
Ощущая неприятную слабость в сердце, он видит перед собой тщедушного некрасивого человечка, вступающего в одиночку в жесточайшую борьбу. Холод ужаса сжимает его голову. «Я бы не выдержал», – думает он.
В дверях снова зазвенел веселый колокольчик.
– Я должен идти, – говорит Михал, вскакивая как ужаленный.
Второпях он сжимает двумя руками маленькую теплую руку девушки. Он хотел бы ей сказать, что очень любит ее, но у него нет времени для прощания. В магазин вошла невысокая, полная женщина, всем видом своим показывая, что она постоянная покупательница.
– Дорогая, – щебечет она, – у тебя есть то, что ты мне обещала?