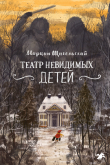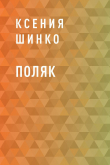Текст книги "Мотылек"
Автор книги: Ян Щепанский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Уже видно продолговатое облачко белой пыли, двигающееся с тихим ворчанием. Проехала машина. Темная туча постепенно захватывает все большее пространство, но солнце тем не менее печет сильнее. Может быть, они успеют до грозы.
Еще немного, и они садятся во рву, сером от придорожной пыли. Теперь они не спешат. Надеются, что дорога сама поможет им. Ступни горят, колени ослабли и не сгибаются.
Дорога молчит, на ней не слышно никакого шума. Лениво приближается стадо коров. За коровами две бурые козы, а за ними старуха, помахивающая сухой веткой. Время от времени она что-то выкрикивает дрожащим, увядшим голосом.
Михал встает и заискивающе улыбается ей.
– Простите, на Казимеж в эту сторону?
Старуха неуверенно смотрит в указанном направлении и кивает головой.
– А далеко еще?
– О, далеко, – отвечает она задумчиво.
– Как далеко?
– Далеко, – бормочет она и трусцой подбегает к козе, которая остановилась, чтобы пощипать траву. Бормоча непонятные слова, старуха хлестнула ее веткой.
С противоположной стороны подходит худой еврей в халате. На спине у него тяжелый мешок. Тыльной стороной руки он вытирает потный лоб. Струйки грязного пота стекают по щекам и исчезают в густой рыжеватой бороде.
– Ребята, купите яблоки!
– У нас нет денег, – говорит Томаш с сожалением.
– Сколько километров до Казимежа? – спрашивает Михал.
Еврей в задумчивости крутит пальцами пейсы.
– Больше чем десять, но меньше чем пятнадцать.
Михал смотрит на небо, уже наполовину затянутое тучами.
– Спасибо.
– Купите яблоки. Хорошие яблоки, сладенькие.
Он ждет минуту, потом неохотно уходит, волоча по земле запыленные ботинки. Через несколько шагов старик останавливается и делает ребятам таинственный знак пальцем. Громко кряхтя, он опускает мешок с плеча, развязывает его.
– Но у нас нет денег, – повторяет Томаш.
– Неважно. Возьмите себе две яблочки.
Скользкая от дождя грабовая аллея. Над садом после грозы в золотых лучах вечера поднимается пар. Мокрые, молчаливые, приближаются они к дому. Им безразлично, как их встретят. То, что они проголодались, устали, кажется им достаточной защитой. Сквозь открытые двери веранды уже слышны женские голоса. В окне мелькнула седая голова. Какой-то вскрик, затем шорох приглушенных быстрых слов и тишина.
Они стоят на пороге. Эва собирает со стола посуду.
На шезлонге Кази с Моникой рассматривают какой-то иллюстрированный журнал. Тетка стоит у буфета, ставит в вазу букет полевых цветов. Никто не обращает на них внимания. Они находятся как бы вне этого теплого, сытого и такого близкого им мира.
Михал понимает, что сейчас он должен как-то сыграть, ответить на этот явный сговор каким-нибудь эффектным коленцем, но не может ничего придумать. Он побежден и полон удивления.
Внезапно тетка обращается к ним совершенно спокойным тоном, в котором слышен упрек, не выходящий за пределы ежедневных замечаний.
– Вы опоздали к ужину, – говорит она. – Самое большее, что вы можете получить, – это немного разогретой каши.
Девочки смотрят на них, как будто только что заметили. Они разыгрывают полное безразличие. Но Моника не выдерживает. Ее лицо меняется, возле носа собираются смешные морщинки. Она прыскает от хохота.
– Ну, как там было?! – вскрикивает она. – Открыли Америку?
Теперь смеются все. Становится необыкновенно приятно.
– Здорово, – говорит Михал. – Мы открыли место стоянки доисторического человека. Томаш, покажи топорик.
Томаш лезет в один карман, в другой, разводит руками.
– Потерял, – бормочет он, пристыженный.
ЫРРАИМПХ
– Гаси!
Щелкнуло, и темнота сомкнулась со всех сторон, поглотив металлический колпачок ночника. На скошенном потолке мансарды появился бледный, расширяющийся книзу прямоугольник света, отбрасываемый окном дома на другом конце сада. Еще какое-то время дрожали пружины кровати.
Шаркающие шаги пересекли площадку второго этажа, и теперь скрипнула первая ступенька следующего марша.
– Это Вера, – шепнул Михал.
Но они продолжали лежать, не зажигая света, прислушиваясь к неуклюжим движениям тяжелого, уставшего тела. Глубокий вздох и зевок в конце. Потом низкий голос запел неясно и протяжно:
– И с зарею молодою славь, о сердце, Марию…
В этом бормотании, сопровождающем стоны рассохшейся лестницы, была какая-то нотка упрямства, какой-то оттенок сердитой, приглушенной усталостью пародии. Эта тяжесть недюжинной мужицкой силы, полной пренебрежения ко всему, что силой не является, не торопясь поднималась на ночной отдых. Последняя ступенька, шлепок туфли на площадке и новый продолжительный зевок. Потом, до того как щелкнула задвижка на чердачной двери, неожиданно раздался писклявый дискант:
– Может, кто даст щедрее, чтобы любить горячее…
Они молча переждали глухие шаги по бетонному полу и треск захлопывающейся двери, ведущей в комнату для прислуги.
– Ну, теперь все утихомирились, – сказал Михал.
Томаш отбросил впотьмах одеяло и сел на топчане.
– Твой отец сюда не придет? – спросил он.
– Нет. Он заперся в кабинете. Пишет.
– Курильница у тебя?
– Конечно.
– Ну, начнем?
Михал зажег лампочку. Ее затененный свет едва достигал углов, а нижняя часть скошенного потолка тонула в мраке; несмотря на это, они щурили глаза, сидя на постелях в измятых костюмах. Томаш взял со стула, стоящего рядом с топчаном, очки. Он надевал их неловкими толстыми пальцами. Его круглое лицо с мясистым носом приобрело выражение смешной серьезности.
– Я еще не кончил читать, – сказал Михал, доставая из-под подушки дневник в коричневом переплете.
– Мне тоже осталось несколько страниц.
– Как раз Вера заснет.
Томаш встал, придвинул стул к кровати Михала и на ночном столике под лампой разложил такой же коричневый дневник. Наклонившись к лампе, они почти касались головами. Где-то за окном надрывался голос певца, далекий и печальный, похожий на одинокий зов в лесу. Молча переворачивали они тонкие шелестящие странички. Михал поминутно украдкой поглядывал на товарища. Тот не поднимал головы. Только время от времени блестели его беспокойные глаза из-под насупленных бровей, из-под косо падающих на лоб прядей темных волос.
– Почему ты улыбаешься? – спросил он.
– Потому что пишешь всякую чепуху: «Получил пять злотых от папы». – Томаш едва заметно иронически скривил губы, подчеркнув этим ничтожество своего друга. Смуглые щеки Михала покраснели.
– Это для порядка. – Он пренебрежительно пожал плечами.
– Есть вещи важные и не важные, – сказал Томаш.
– Я знаю… но…
– Ну ладно. – Томаш закрыл дневник. – Возьми. Спасибо. Мой прочитал?
Михал без слов отдал коричневую тетрадку. Долгое время они сидели неподвижно, избегая смотреть друг на друга. Напряженность этого молчания заострила их лица. Они были похожи на двух маленьких монахов, погруженных в раздумье. Звуки радио оборвались, и теперь ничто не нарушало тишины дома. Первым заговорил Михал.
– Что это за план? – спросил он сдавленным от волнения голосом. – Ты написал: «Разработал план».
Томаш встал со стула и начал прохаживаться по комнате, сосредоточенно переставляя обутые в туфли ноги.
– Видишь ли, Михал, – медленно начал он, – об этом деле я и хотел с тобой поговорить. Потому что уже сейчас надо решать, как жить. Нам все время кажется, что у нас еще масса времени, а годочки бегут. – Он остановился возле стола, придвинутого к стене между окном и кроватью, рассеянным движением взял рогатку, лежащую на стопке школьных учебников и тетрадей. В задумчивости поиграл ею, попробовал пальцем эластичность резины. – Не успеем оглянуться, как получим аттестат зрелости, а до двадцати нам не хватает всего лишь шести лет.
– Неполных шести, – поправил Михал.
– Ты помнишь наш последний праздник?
Михал кивнул.
– Мы пожелали друг другу не быть такими, как остальные.
– Да.
Томаш натянул рогатку и щелкнул в сторону темного окна.
– Ну, хорошо. Но сейчас надо знать, кем мы хотим быть. Верно?
Он стоял перед Михалом, заложив руки за голову, – плотный, в коротких гольфах, с торчащими, как петушиный гребень, волосами.
– Именно в этом и состоит мой план. Надо себя найти. Не знаю, как ты, но я решил, что после окончания этого балагана отправлюсь путешествовать по свету. И разумеется, Михал, хотел бы вместе с тобой. Ты понимаешь, о чем идет речь? Приобрести опыт. Испытать все: нужду, голод, радость, страх, познакомиться с разными религиями, овладеть различными профессиями…
Михал вскочил с постели глаза у него горели. Он был выше ростом, худой, с порывистыми движениями. Он подбежал к Томашу и положил ему руку на плечо.
– Я думал о том же самом, Томаш. Честное слово! Сначала Индия, правда?
Томаш кивнул с важным видом.
– Только ведь надо чертовски сильно хотеть, – сказал он.
– Конечно! Ну, это мы сможем. Проберемся на какой-нибудь корабль, будем ездить зайцами в поезде, подносить чемоданы на вокзалах, чистить обувь, как Ким.
– И найдем учителей, – дополнил Томаш.
– Мы должны попасть к Ганди.
– Или добраться до Тибета…
Они посмотрели друг на друга и замолчали, как будто внезапно осознали всю трудность задуманного.
Михал не мог сдержать волнения. Сел на край стола, стал болтать ногой.
– Человече! – крикнул он. – Мы должны начать подготовку. Подожди, у меня есть атлас, – и начал рыться в книгах.
Томаш сдержанно улыбнулся.
– Оставь. Не сейчас. Все надо делать спокойно, сосредоточенно. Мы будем собирать сведения и делать запасы и будем писать друг другу.
– Раз в две недели!
– Хватит одного раза в месяц, – сказал Томаш. – Убери со стола.
Михал послушно выполнил распоряжение. Книги перенес на кровать, ручки, перья, куски проволоки, винтики и прочую беспорядочно разбросанную мелочь сгреб в ящик. Потом подошел к стоящему возле двери шкафу. Достал с нижней полки спрятанную за стопкой белья картонную коробку.
Предметы, которые он доставал из нее, ставил на стол бережно и аккуратно. Это были: медная мисочка с вычеканенными на ней какими-то нечеткими фигурами, маленький деревянный тотем, представляющий собой ряд примитивных человеческих и птичьих фигурок, помещенных одна над другой, круглая металлическая коробочка из-под таблеток от кашля «Вадьда», трубка из кукурузного початка на длинном бамбуковом, украшенном перьями чубуке.
Тем временем Томаш вытащил из-под дивана чемодан, порылся в нем и что-то оттуда достал.
– Держи! – Михал бросил ему извлеченный со дна коробки плюмаж. Точно такой же он надел себе на голову. Это были довольно слежавшиеся и измятые индюшечьи перья, нашитые на полоску белой материи, на которой цветными мелками были нарисованы геометрические узоры.
Томаш задвинул чемодан под диван. Стоя посреди комнаты, он примерял плюмаж. Михал рассмеялся:
– У тебя башка выросла.
Лента натянулась на висках Томаша, перья смешно торчали, образуя вместе с прядями волос целую копну.
– Если бы нас кто-нибудь увидел, – сказал Михал, – то подумал бы, что мы играем в индейцев.
У Томаша было озабоченное лицо. В очках, в обтянутом на животе тесном школьном кителе он совсем не был похож на индейца. Неуверенным движением он снял плюмаж.
– Знаешь что? – сказал он. – Я думаю, что это не обязательно. Мы, пожалуй, из этого уже выросли.
Михал с грустью снял свой индейский колпак.
– Наверно, ты прав.
Они придвинули стулья к столу. Михал зажег свечу в металлическом подсвечнике и погасил лампочку у кровати. Некоторое время пламя дергалось, вытягивалось и корчилось, отбрасывая беспокойные мягкие тени. Потом оно успокоилось, и мальчиков словно накрыло мягким шатром, затерянным в ночном мраке. Михал открыл коробку из-под таблеток «Вальда» и достал черную треугольную пластинку. Более острый ее конец он сунул в пламя. Когда она начала тлеть, он раздул тихо шипящий уголек и положил на дно медной мисочки перед тотемом. Дым поплыл вверх волнистой полосой, и вокруг распространился одурманивающий сладкий запах. Томаш полез за трубкой.
– Где у тебя курево? – спросил он.
Лицо Михала оживила таинственная обещающая улыбка.
– Смотри! – Он достал из кармана сигару в целлофане. – Свистнул у отца, – и забеспокоился. – Пойдет? Если нет, то у меня еще есть еловые иголки с прошлого года.
Томаш уступающе кивнул головой.
– Пойдет. Я тоже приготовил тебе сюрприз. Но это потом, во время разговора. Покажи. – Он взял сигару, надорвал целлофан и понюхал.
Михал ждал, открыв перочинный ножик. Когда Томаш кончил рассматривать, он отрезал кусок сигары и вставил в трубку.
– Начинай, – сказал он.
Томаш придвинул трубку к пламени. Долго всасывал. На глазах показались слезы. Сожмурившись, он выпустил изо рта клуб густого дыма.
– Это лучше, чем еловые иголки, – сказал он приглушенным голосом. – Возьми.
– Угу, – подтвердил Михал. – И совсем не такой уж крепкий. Как-то странно холодит в горле. – Он дунул на тотем, после чего протянул трубку товарищу.
Томаш затянулся, вытянул губы, как рыба, и стал окуривать тотем, пуская дым маленькими облачками снизу вверх.
После второго раза Михал подпер голову ладонью.
– У меня в висках пузырьки, как в газированной воде, – сказал он неуверенно. – Кажется, табак все-таки крепкий.
– Не надо затягиваться. Тебе плохо?
– Нет, что ты! Немного голова кружится.
– Потом докурим, – сказал Томаш, откладывая трубку. Он встал. Михал, чуть побледневший, стоял напротив него. Они одновременно протянули друг другу руки и соединили их в крепком рукопожатии. – Так вот, Михал, – улыбнувшись, сказал Томаш, стараясь придать своему голосу больше строгости, – в четвертый раз мы скрепляем печатью наш договор дружбы и правды. Чего ты мне желаешь?
– Тебе и себе желаю успешного выполнения плана, – ответил Михал.
– Тебе и себе желаю испытаний, – сказал Томаш. – Жары, холода, бурь и ураганов.
Они еще раз крепко пожали друг другу руки, потом Томаш повернулся, полез в верхний карман и быстрым, осторожным движением положил что-то к подножию тотема.
– Ырраимпх, – сказал он тихо, почти безразличным тоном, как будто произносил самое обычное, случайное слово.
Оба склонили головы и после некоторого колебания сели. Потом они немного помолчали, явно озабоченные. Предмет, который Томаш положил к подножию тотема, был чем-то вроде маленького конверта размером не больше почтовой марки, оклеенного по краям оберточной бумагой. В центре сквозь прозрачную кальку в свете свечи виднелись неясные очертания какого-то золотистого камешка.
В комнате стало душно. Дым из курильницы и из трубки собирался под потолком и колеблющимися слоями расплывался во мраке. Синяя пахучая полоска продолжала подниматься из медной мисочки. Михал расстегнул куртку и ворот рубахи.
– Думал ли ты сегодня о смерти? – спросил вдруг Томаш.
Михал кивнул.
– Думал. Знаешь, я сегодня утром смотрел, как Вера рубила кости на кухне… – Он быстро взглянул на мешочек, лежащий возле тотема. – Сверху, там, где суставы, они такие гладкие и скользкие, точно еще живые. А в середине видна красная сердцевина. Я подумал о том, что и у меня такие же. Я чувствовал их в себе. – Он сжал пальцами запястье левой руки. – Нужно все время помнить о своих костях, правда? Я старался представить их себе четко. Такие, какие они сейчас, а потом сухие и желтые, лежащие в гробу.
Он разжал пальцы и смущенно рассматривал белые следы на коже.
– Тебе казалось, что ты на них смотришь? – спросил Томаш.
– Да. Некоторое время я их видел совершенно отчетливо.
– Это была не смерть, – сказал Томаш. – Это ты, живой, смотрел на какие-то кости.
– На свои кости, – ответил Михал.
– Но ты только смотрел на них. Понимаешь, Михал? Это ты ощущал себя, смотрящего на кости. Смерти ты не чувствовал.
– А как чувствуют смерть, по-твоему?
Томаш улыбнулся, именно этого вопроса он и ждал.
– Видишь ли, в этом-то и дело. Я тоже думал сегодня о смерти, как и всегда. Так же: гроб, скелет, черви… В поезде была давка, люди разговаривали о разных вещах, и я не мог сосредоточиться. Мне казалось, что из-за этого я вижу только какие-то бледные картинки, как будто рассматриваю иллюстрации в какой-то книге. Но знаешь, я вдруг понял, что это неправда. Что я только притворяюсь перед собой. И наверно, мы до сих пор всегда притворялись. Потому что, пойми, для того, чтобы это почувствовать, нужно на минуту совсем перестать чувствовать. Соображаешь?
Михал недоверчиво сморщил лоб.
– Знаешь, что мне пришло в голову? – сказал Томаш. – Что на самом-то деле мы не верим в смерть.
– А может быть, это нам только снится? – сказал Михал. – И жизнь, и смерть. А может быть, мы сами кому-нибудь снимся.
Томаш пожал плечами.
– Какой-то философ уже выдумал что-то в этом роде, Не помню какой. Кажется, Платон, а может быть, какой-то англичанин или немец.
Михал смотрел на приятеля с уважением.
– Ты читал Платона?
– Проглядывал.
Оба посмотрели на Ырраимпх и озабоченно замолчали.
– Послушай, Томаш, – заговорил через некоторое время Михал, – а что ты думаешь о том, во что верят индусы? Ты знаешь, что мы жили всегда и будем жить дальше. В различных существах. В облике зверей или растений.
– Реинкарнация, – сказал Томаш.
– Да. Воскрешение душ. Для меня это звучит очень убедительно.
– Для меня тоже. Только, видишь ли, если это так, то мы все равно никогда не будем этого знать. Мы всегда будем только собой. Мы не будем помнить, что было до этого. Вообще не будем знать, было ли уже что-то или что-то еще будет.
– Я почти уверен, – пылко начал Михал. – Иногда я что-то делаю или что-то со мной случается, и знаешь, у меня вдруг такое ощущение, что это уже было. И довольно часто.
– У меня так тоже иногда бывает. А может быть, это просто что-то похожее на то, что уже действительно было. Какой-то запах, звук, слово. Может быть, в этом нет ничего необыкновенного.
– Я думаю, что ясновидящий Оссовецкий наверняка хоть что-нибудь знал бы об этом, – сказал Михал.
– Или Ганди, – добавил Томаш.
Пламя снова начало колебаться. На конце фитиля образовался нагар, похожий на головку мухи. Михал снял его с помощью ножа и спички. Потом дунул осторожно в миску, разжигая затухавшую курильницу.
– Меня одно удивляет, – сказал Томаш. – Взрослые живут так, как будто им все ясно. Или так, как будто им все безразлично, – добавил он через минуту.
– Или как если бы все было нереальным, – сказал Михал. – Словно они не ощущают в себе костей. Как будто не знают, что умрут.
– Или как будто все время притворяются. От страха.
– Но только от такого, небольшого. А не от такого, от которого человеку больно.
– От такого, совсем крошечного.
– Серость, – изрек Михал, а Томаш понимающе кивнул головой.
– Серость, – повторил он. – Это самая большая опасность. – Он встал, подошел к дивану и вытащил из-под подушки длинную бутылочку с красиво выгнутым горлышком. Она была запечатана красным станиолевым колпачком, на ней была наклеена разноцветная, полная медалей и завитушек этикетка. Сверху на голубом поле были изображены три звездочки, а внизу была надпись: «Koniak Stock».
– Человече! – воскликнул Михал.
Он взял из рук Томаша бутылку, посмотрел ее на свет, встряхнул золотистую жидкость.
– А как с харцерской [3]3
Харцер – в довоенной Польше бойскаут.
[Закрыть] присягой? – забеспокоился он. Томаш взял со стола трубку.
– А это?
– Это обряд.
– Это тоже, – сказал Томаш.
– А мы не напьемся?
– Таким количеством? Самая маленькая бутылка, которую я мог достать. Но если даже… то это относится к тому, что мы должны испытать. – Он взял бутылку у Михала, снял колпачок. – Спрячь его на память. – Потом перочинным ножичком принялся выковыривать пробку. Получалось это у него неловко, часть пробки он вдавил внутрь.
– У меня только алюминиевая кружка, – сказал Михал.
– Сойдет.
Михал первый налил себе немного, робко пригубил. Поморщился, глубоко вдохнул.
– Очень странно.
Томаш глотнул и даже не покривился.
– Надо выпить больше, чтобы почувствовать вкус. Он разжег трубку от свечки и протянул ее Михалу. Они поочередно пили и курили, стараясь сохранять безразличное выражение лица, хотя Михала после каждого глотка всего передергивало.
– Наверняка с серостью можно бороться, – сказал Томаш. – Если о ней знаешь, это уже хорошо. Потому что она приходит незаметно, как сон. Я уверен, что это зависит от воли. Мы должны закалять волю.
Михал допил остаток коньяка в кружке, налил снова и глотнул. Теперь его уже не передергивало. Он сосал трубку и, широко открыв рот, выпускал дым.
– Прежде всего надо так устроить жизнь, чтобы не было скучно, – сказал он неожиданно грудным голосом.
Его движения стали резкими, угловатыми, какими-то агрессивными.
Томаш снисходительно смотрел на него.
– Конечно, – согласился он. – Но это, пожалуй, не самое главное. Самое главное, чтобы во всем всегда была ясность. Ты понимаешь, о чем я говорю? Цвет, вкус, истина, чтобы ничего не было такого – ни рыба ни мясо. Ты хочешь спать?
Михал пробовал скрыть зевоту, подперев лицо рукой, но у него трясся подбородок и вздулись вены на шее.
– Нет, я не хочу спать, просто здесь очень душно.
– Может быть, я не могу достаточно ясно выразить, – тянул дальше Томаш. – Например, идешь ты по улице и она кажется тебе серой, а когда внимательнее присмотришься – обнаружишь много цветов. Красные трамваи, афиши на киосках, рекламы, одежда людей. Только надо заставить себя быть внимательным. Вот однажды я шел по лестнице. Кажется так просто: идешь по лестнице. И что-то мне ударило в голову, дай, думаю, проверю, как это происходит. Сгибаю ногу в колене, поднимаю, выдвигаю немного вперед, ставлю ступню на ступеньку… Ну, хорошо, а откуда это берется? Что я, отдаю своей ноге какой-нибудь приказ? Я пробовал схватить этот момент, это нечто, что является причиной моего «восхождения» по лестнице. И вместо того чтобы идти, я остановился, и мне казалось, что я не смогу идти дальше, пока наконец меня не увидела Марыська и не закричала: «Чего ты здесь торчишь? Тебе надо уроки делать!» Понимаешь?
– Да, понимаю.
– Конечно, нельзя так на всем заострять внимание, тогда вообще ничего не сможешь делать, но, с другой стороны, если не наблюдать, тогда все станет неясным. Абсолютно все. С порядочностью тоже так. Послушай, ведь мой отец порядочный человек, и все его уважают… – Томаш долил кружку и сделал глоток. В бутылке осталось коньяку еще на две рюмки. – И я тоже его уважаю, но однажды я слышал, как они разговаривали с мамой в столовой о налогах. Ему прислали какие-то официальные бумаги, и он в них что-то там заполнял и говорил маме, что надо указать меньший доход, тогда меньше придется платить. Здесь что-то неясно. С одной стороны, конечно, порядочность, но не всегда и не во всем. А ведь здесь либо так, либо эдак. Если налог неправильный, надо написать им: я этот налог не признаю. Правда?
– А мои родители часто при Вере говорят по-французски, – сказал Михал и клюнул головой так, как будто бы споткнулся, хотя сидел да стуле.
Трубка уже погасла, и свеча едва возвышалась над чашечкой подсвечника. Только струйка дыма из курильницы упорно тянулась кверху мимо острых носов и клювов тотема, она извивалась и раздваивалась, словно прозрачная лента с загнутыми краями.
– Допивай остаток, – сказал Михал.
Томаш отрицательно покачал головой. Михал потянулся за бутылкой и приложил горлышко к губам.
– Свеча кончается, – сказал Томаш.
Ни с того ни с сего Михал начал смеяться. Он пристально смотрел на тотем, и смех сотрясал его плечи, падающую на лоб прядь.
– Над чем ты смеешься, Михал? Перестань. Над чем ты смеешься?
– Над этим. – Он вытянул руку и бесцеремонно ткнул в амулет.
– Михал!
– Не сердись, – продолжал он, задыхаясь от кашля. – На меня нашло. Столько мы здесь говорили о правде и о том, чтобы все отчетливо видеть. И этот наш Ырраимпх должен звать нас к правде, а ведь это только немного позолоты, которую ты соскреб с золоченой рамы.
– Да. Соскреб, – сказал Томаш, снимая очки таким движением, как будто поднимал забрало. – Ну и что? – Он протер глаза кулаком.
Михал успокоился.
– Ничего. Но это ведь известно.
Томаш оставался суровым.
– А может быть, не совсем? Видишь ли, это тоже не должно оставаться неясным. Хорошо, что ты об этом заговорил. Потому что когда-то это было только игрой и мы к этому привыкли. А теперь это уже перестало быть игрой. Ведь, Михал…
– Знаю, ну, знаю, – прервал его примирительно Михал слабым голосом. – Символ. Это я так, посмотрел на это обычным взглядом и поэтому…
Но Томаша не успокоила эта неожиданная капитуляция.
– Дело в том, – развивал он свою мысль, – какой придать всему смысл. Вот что является тайной. Правду в мешке не утаишь. Это могло быть чем угодно. Даже дохлой мухой. Но ведь важен наш уговор. Ты говоришь «немного позолоты» так, как будто бы думаешь, что я об этом позабыл.
Он взял амулет двумя пальцами и поднял вверх.
– Хочешь, я сожгу Ырраимпх на свече?
Михал отрицательно покачал головой и медленно встал со стула. Он был бледен и выглядел несчастным.
– Я прилягу на минутку, – сказал он. – Мне как-то не по себе.
Шатаясь, подошел он к кровати, улегся и закрыл глаза. Томаш наклонился над ним, осторожно коснулся кончиками пальцев его лба. Он смотрел на него с беспомощным участием.
– Знаешь что? Я открою окно. Мы страшно надымили.
Внезапный порыв ветра загасил свечу.
– Иди сюда. Подыши немного свежим воздухом.
Холодная тьма пахла сажей. Казалось, пронизывающая сырость оттепели вплывала в комнату какой-то ощутимой субстанцией. Из садика внизу доносился неровный шелест капель, срывающихся с голых ветвей деревьев и кустов. Опершись о подоконник, они стояли рядом, наклонив лица в темноту. Далеко над крышами этого тихого квартала светился в небе слабый отблеск огней города. Сквозь тонкую сеть веток тополя золотился квадрат одинокого окна в доме напротив. На этом теплом экране на минуту показался силуэт молодой женщины в просторном халате. Она наклонилась над чем-то или над кем-то, протянула вниз руки и тряхнула узлом собранных на затылке волос. Потом мягко опустилась, и окно погасло. Мир опустел еще больше. Под забором неясно белела полоска нерастаявшего снега. Где-то на железнодорожных путях печально вздохнул паровоз. Как бы вторя этому приглушенному стону, Михал глубоко вдохнул воздух. Рука Томаша лежала на его плече. Он ощущал ее как молчаливое подтверждение того, чего никто из них не умел высказать в эту минуту, но что переполняло их обоих, оно было похоже на тоску и отчаяние, на полное обещаний и беспокойства раздумье на берегу огромной реки, на пороге далекого неизвестного путешествия.