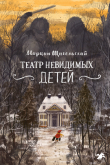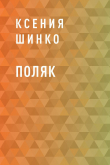Текст книги "Мотылек"
Автор книги: Ян Щепанский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
– На Волю, на Волю! На Жолибож! [22]22
Район Варшавы.
[Закрыть]
Вдалеке бежали опоздавшие пассажиры. Приближался комендантский час.
* * *
Госпиталь помещался в бывшем купеческом клубе. Когда-то это был небольшой дворец – один из варшавских особняков с неоклассическим фронтоном, отступившим в глубь двора, и флигелями, выдвинутыми к улице, как гостеприимно протянутые руки.
Пурга утихла. Над бело-черным, лишенным огней городом, среди чернильных облаков плыл большой месяц, холодный и прозрачный.
У одного из флигелей зияла дыра на крыше, но снег смягчал очертания пролома.
В стиле колонн у входа, в пропорциях окон было что-то такое, что Михал совсем не удивился бы, если б у ворот увидел часового времен Варшавского княжества в белых лосинах, черном колпаке и с портупеей. Но вместо него стояла серая массивная фигура в тупорылой, сплющенной с боков каске.
– Na, gut, gut, [23]23
Гм, хорошо, хорошо (нем.).
[Закрыть] – пробурчал часовой добродушно, когда Моника полезла в сумку за пропуском.
Между козырьком каски и кашне, которым были обмотаны его щеки, виднелись уставшие от всего чужого глаза.
В зале было тепло. Тяжелый больничный воздух казался неуместным здесь, среди этих темных деревянных панелей, среди причудливой резьбы дверных наличников.
По лестнице, идущей прямо от входа, сбегала Кася. На ней был накрахмаленный белый фартучек, завязанный высоко под шеей, и маленький чепчик с поперечной черной тесьмой. Все это представляло собой такое яркое зрелище, что Михал прищурил глаза. Когда-то он любил подшучивать над ее чересчур розовыми щечками, чересчур голубыми глазами, чересчур светлыми волосами.
«Девушка с вишневыми губами», идеал идиллических поэтов. Теперь она была сама чистота, само тепло жизни в этой безупречной упаковке, способной уберечь ее от всякой грязи этого мира.
– Ты еще никогда не была такой красивой, – сказал он.
Кася покраснела до самых бровей и быстро подставила ему щеку для поцелуя.
– Вас уже ждут. Идите в зал. Я сейчас приду.
Эти слова, быстрые, пугливые, были произнесены низким мальчишеским голосом, и Михал, едва коснувшись губами ее мягкой щеки, тоже смутился, словно эта братская фамильярность приобрела вдруг новый, неожиданный смысл.
– Эва сейчас занята, у нее обход, – добавила Кася, исчезая в одной из боковых дверей.
В зале – а это был настоящий клубный зал, а совсем не больничное помещение – с портретами каких-то напыщенных вельмож и огромной хрустальной люстрой, неуверенно свисающей с покрытого трещинами потолка, Моника оставила Михала на произвол судьбы, велев до этого пожать руки нескольким неизвестным особам. Ее сразу же увлекли куда-то под восклицания шутливого нетерпения.
– Все сама приготовила, – объяснил Михалу молодой, совершенно лысый врач в фартуке. – Сама песенки сочинила, сама куклами управляет.
Загородка стояла в глубине, между двумя колоннами, на фоне развешанных на веревке простынь. Для зрителей были поставлены стулья – разномастные, начиная со стильных кресел, оставшихся, видимо, еще от клубной мебели, и кончая кухонными лавками и табуретами.
Михал отошел к стене. Он не мог отважиться смешаться с этой толпой, которая вызывала в нем страх, и уважение, и какое-то недоверие.
Мундиры выздоравливающих – да, военные мундиры со знаками различия и наградами, словно какая-то невидимая стена охраняла здание госпиталя от законов действительности, – белые халаты санитарок и врачей, штатские костюмы, пижамы, пропитанные тошнотворным запахом медикаментов. Забинтованные головы, повязки, костыли. В центре первого ряда сидела дама в черном вечернем Платье. В ее тени увядал, небрежно опершись о спинку кресла, худощавый мужчина с гладко прилизанными прядями черных волос и тоненькими усиками. Он тоже был торжественно черен. Длинные ноги в блестящих лакированных туфлях он вытянул далеко вперед, но в этой его ленивой расслабленности была такая властность, как, впрочем, и в энергичной настороженности его спутницы. В зал входили все новые и новые люди. Михала оттеснили от стены к стульям. Кто-то коснулся его плеча.
– Садитесь, пожалуйста.
Кисть руки, показывающая ему на свободный табурет, росла как будто прямо из плеча, двигалась, как плавник, возле затянутой в зеленое сукно груди. Михал наклонился, чтобы сделать шаг, но тут же остановился. Из-под мышки офицера торчал кончик отполированного дерева, большим пальцем он придерживал костыль. Михал опустил взгляд. Пустая выглаженная штанина не доставала до земли, она была подвернута на высоте колена.
– Пожалуйста, садитесь, – сказал Михал поспешно.
– Ни в коем случае. Вы здесь гость.
– Но вы…
На них начали шикать, потому что из-за простынь раздались звуки фортепьяно. Это была коляда: «Три царя-рыцаря, куда вы спешите?»
Михал с благодарностью принял предложение. Он медленно поднял глаза, делая вид, что не заметил увечья.
– О, я прекрасно могу постоять. Мне так даже лучше.
– Мне тоже…
Опять раздалось шиканье. Занавес раздвинулся, и на сцене задергались три куколки в позолоченных коронах. Их приветствовали аплодисментами и смехом.
– Сядьте же наконец, – сказал раздраженный голос сзади. – Ничего не видно.
Михал умоляюще посмотрел на подпоручика. Кисть-плавник продолжала шевелиться в приглашающем жесте.
Куклы пели какие-то куплеты, но Михал, покорившийся и смущенный, ничего не понимал. Пригнувшись, задевая сидящих, добрался он до табурета. Сидевшая рядом женщина-врач повернула к нему голову. У нее были дивные пепельные волосы. Из-под широких черных бровей строго глядели синие глаза.
– Он все равно не сел бы, – сказала она. – Он может только лежать, да и то на левом боку.
Михал хотел поблагодарить ее за эти слова, но она с прежней суровостью смотрела уже на сцену.
Только теперь он заметил, что у одной из кукол пышный бюст и очки на носу, у другой приклеены к черепу редкие прядки и маленькие усики над губой, а у третьей, пузатой, в белом кителе, в руках вместо скипетра большой шприц. Итак, это был правящий госпиталем триумвират, но заключавшиеся в куплетах остроты и намеки, которые время от времени вызывали громкий смех в зрительном зале, ничего Михалу не говорили. Он смотрел, сконфуженный, остро чувствуя свое одиночество.
Сцену заполняли все новые фигурки. Они неуклюже подскакивали, пели и говорили, кувыркались и раскланивались. У некоторых были забинтованы головы, в гипсе руки или ноги, а у одной, с пышным чубом и круглым розовым лицом, был под мышкой костыль.
Михал посмотрел на подпоручика. Подпоручик смеялся вместе с другими. Какой-то стоящий возле него выздоравливающий добродушно похлопал его по плечу.
По странной ассоциации Михал вспомнил свою батарею на песчаной дюне возле леса. Небо, дрожащее от гула, как огромный раскаленный гонг, полосы порохового дыма, ползущие среди красных стволов сосен, и страх. Страх, который он почувствовал впервые именно тогда. Еще за минуту до этого он лежал в окопе вместе с тем самым парнем, бездыханное тело которого они несли сейчас втроем за руки и за ноги. Голова его свисала к земле, из открытого рта, сквозь пузыри липкой пены, пробивались глухие стоны, левая рука в окровавленных лохмотьях тащилась по песку, чертя на нем бессильной красной ладонью влажный след. Страх. Почему так случилось, что именно он лежал с той стороны? И Михал почувствовал не облегчение, а изумление перед необъяснимой слепотой судьбы.
Неужели сидящие в этом зале, глядя на свои смешные, очищенные от страданий миниатюрные подобия, уже все забыли? Неужели даже демонстрация их увечий не напоминает им о боли? Неужели их перестал мучить вопрос: почему именно я?
Под влиянием внезапного волнения Михал наклонился к печальной врачихе.
– Не нужно бы этого показывать, – шепнул он.
Врачиха посмотрела на него с удивлением. Подняла темные брови.
– Не понимаю. Что показывать?
– Ну… все их…
Он сделал жест, как будто бы заботливо бинтует левую руку.
Она некоторое время смотрела на него без всякого выражения, потом верхняя губа ее слегка приподнялась в каком-то подобии улыбки.
– Вам бы хотелось, чтобы в этом спектакле все было, как когда-то?
Михал вздрогнул, задетый ее иронией и тем, что он увидел на сцене.
– Никто не любит сострадания, – сказала она, уже не глядя на него.
На сцене куколки выстроились в ряд перед рампой и пели хором на мотив рождественского краковяка; прощаясь со старым годом, они перечисляли все его провинности и приветствовали новый словами, полными надежды. И вот новый год появился на сцене в солдатской шинели, с развевающимся бело-красным знаменем в руках.
Все аплодировали. Кричали: «Автора, автора!», «Сестру Монику!» Моника высунула из-за простынь раскрасневшееся, улыбающееся лицо. Мужчина в черном костюме из первого ряда подошел к ней, благосклонно протянув руку. Она подала ему из-за ширмы свою (Михал представил себе, как она с той стороны поднимается на цыпочки), что вызвало новый взрыв аплодисментов и смеха. Стуча костылем, кудрявый подпоручик пробирался к сцене. В другом конце зала, в дверях, Михал заметил Касю, уже без фартучка и чепца, а рядом с ней Эву, все еще в халате. Они с трудом несли бельевую корзину, полную перевязанных цветными ленточками кульков.
Михал поднялся, чтобы пропустить к выходу свою соседку. Проходя мимо, она с укором посмотрела ему в глаза.
– Вот видите, – сказала она.
Он задумался над смыслом этих слов и вдруг обнаружил, что остался один во внезапно опустевшем зале.
* * *
Они остановились на повороте холодного коридора.
Сквозняк ударил сверху, словно из высокого темного окна.
– Осторожно, – предупредила Эва и зажгла фонарь.
Лестничный марш обрывался в пустоте. Сверху свисали искаженные стальные прутья, ослепленные комьями бетона. Из пустоты наискось торчал фрагмент балюстрады, отбрасывая странные лучистые тени на осыпь щебня.
– Бомба? – спросил Михал.
– Да. Несмотря на знаки Красного Креста на крыше.
Он вспомнил, что ему рассказывали тетки.
– Ты ассистировала тогда во время операции?
Она засмеялась. В свете фонаря на мгновение показался ее бледный тонкий профиль со слегка приподнятой верхней губой.
– Да. Иди вдоль стены, а то можешь упасть.
Он поднялся на одну ступеньку и остановился.
– Как прошла операция?
– Хорошо. Больной умер неделю спустя, но не по этой причине. – Опять мимолетные, как будто непроизвольные нотки смеха в голосе. – Можно сказать, ему повезло.
– Ты имеешь в виду люстру?
– Да. Эта проклятая люстра. Тебе уже рассказывали?
– Тетки.
Он мог себе это представить. Должно быть, люстра была такая же, как в зале. Несколько сот килограммов хрусталя на жилах вырванного из стены кабеля. Потолок, свисающий, как вымя, с осыпающимися кусками штукатурки. И вся эта стеклянная масса, позвякивающая, раскачивающаяся над головой хирурга, над склоненными спинами санитарок, над кровавыми недрами вскрытой брюшной полости.
Эва поднялась наверх.
– Делают из этого бог знает что, – сказала она. – Просто я не могла подвести. Сам главный врач оперировал. Знаешь, тот толстый. Если бы ты слышал, как он бурчал из-под маски: «Сестра, тампон», «Сестра, пинцет».
На этот раз она засмеялась громким гортанным смехом. Снизу до них донеслись голоса Моники и Каси. Эва направила в коридор луч света. Они подняли головы – светлую и темную, и Михалу вдруг показалось, что все это происходит во сне. После вместе проведенного детства, после длинной полосы солнечных каникул – вдруг этот холодный мрак, эта разрушенная лестничная клетка и так хорошо знакомый, но неожиданно тревожащий своим истинным содержанием смех.
С висящей над бездной площадки в коридор верхнего этажа была переброшена доска с прибитыми поперек планками. Она прогибалась под ногами. От ее колебаний слегка замирало сердце.
Эва постучала в дверь, за которой были слышны голоса.
Им открыл доктор Новак, тот лысый, хотя еще молодой врач, с которым Михал познакомился внизу. Теперь он был в сером, как будто с чужого плеча, костюме и ярко-красном галстуке, тоже производившем впечатление чего-то случайного. Несмотря на то, что все они недавно виделись, доктор Новак приветствовал прибывших с чрезмерным радушием и извинялся за скромность, как он выражался, «храма», так как это была его служебная квартира. Может быть, он хотел таким способом обратить внимание гостей на необычную по тем временам пышность сервировки длинного стола, стоявшего посредине комнаты. Действительно, он и сам с удивлением смотрел на блюда с рыбным заливным и тонко нарезанной ветчиной, на пирамидки белого хлеба, на салатницы, полные салатов под майонезом, а также на многочисленные графины с наливками и бутылки вина.
В разрушенном городе, где для того, чтобы получить буханку хлеба, нужно было выстоять в длинной очереди, это богатство производило ошеломляющее впечатление и казалось чем-то почти греховным. Но Михал уже знал от Моники и двоюродных сестер, что встреча Нового года в тесном кругу госпитальной элиты носит в известном смысле характер прощального вечера перед передачей здания немцам и что поэтому пошли в ход все резервы некогда обильных, а теперь почти исчерпанных клубных запасов.
От затемненного окна отошли главный врач и худощавый мужчина в черном, сидевший в зале в первом ряду. Они мельком поздоровались с Михалом, почти не слушая объяснений Новака, целиком погруженные в обсуждавшиеся перед этим важные дела. Но тут же вернулись и остановились на полпути между дверями и столом.
– Протокол о передаче подпишу я, – говорил черный раздраженным тоном.
Главный врач смотрел на него с иронией, вертя большими пальцами сложенных на животе толстых красных рук.
– Но вы не отвечаете за диагнозы, барон. Если меня оставят здесь, а я думаю, что они сейчас не будут укомплектовывать госпиталь собственным персоналом, я смогу скрывать этих людей еще много недель. Вы ничем не рискуете. Вы отвечаете исключительно за персонал.
Лицо барона окаменело. Михал заметил, что Новак и девушки обменялись злорадными улыбками.
– Вы знаете, профессор, я не боюсь риска, – сказал барон сухо. – Я, кажется, дал тому доказательства. Что же касается ответственности…
Врач сокрушенно наклонил тяжелую седеющую голову.
– Простите, у меня не было этого в мыслях.
– Надеюсь. Но дело идет к тому, что они наверняка пришлют свою врачебную комиссию.
Толстый профессор фыркнул, как кот. В его глазах снова появились воинственные огоньки.
– Комиссия! Для этого имеется масса способов!
– Есть еще один вопрос… – Барон уставился в лицо врача неподвижным, полным торжественной серьезности взглядом. – Честь. Последние условия капитуляции подписаны.
Толстяк покраснел. Нахмурив кустистые брови, он быстро обернулся, и его суженные кошачьи глаза остановились на Михале.
– Вы брат Моники, не так ли?
Он не стал ждать поспешного подтверждения Михала.
– Каким образом вы освободились из плена? Ведь вы тоже там были.
– Я убежал из транспорта военнопленных, – сказал Михал.
Профессор драматическим жестом вытянул в сторону Михала палец.
– Вот! – воскликнул он, поворачиваясь к барону.
В дверь постучали. Входила большая компания новых гостей. Молодой, по-мальчишески вихрастый врач сопровождал красивую даму в очках. Он все еще держал в руке зажженный фонарь, хотя темные и опасные переходы были уже позади. За ними, наклонив стриженную под бобрик седую голову, словно боясь удариться о низкий дверной косяк, шел огромный полковник в мундире, с костлявым и вместе с тем обрюзгшим лицом, отмеченным синеватым шрамом, пересекающим всю левую щеку от виска до подбородка. Потом печальная соседка Михала по зрительному залу, в платье из блестящего черного бархата, и еще какие-то лица, преимущественно молодые, оживленные любопытством и возбуждением, будто статисты, оробевшие от присутствия на сцене великих актеров, но на самом деле знающие себе цену и лишь маскирующие жестами внимания свое убеждение, что будущее принадлежит им. В их улыбках, в их дружелюбных взглядах ощущалась доброжелательная, немного насмешливая снисходительность в адрес уже уходящих стариков.
Но старики не замечали этого. Профессор подлетел к полковнику, не разрешая ему даже совершить церемонию приветствия.
– Вы, как старейшина выздоравливающих офицеров, должны что-нибудь сказать.
– Простите, – прервала его дама в очках, отнимая от сердца сверкающую перстнями руку. – Время позднее, мои дорогие. Пан профессор, пан полковник, стол ждет.
– Дорогой, – обратилась она к барону, – займись гостями.
Она встала в конце стола, оперлась о него кончиками пальцев, выпрямилась и следила поверх очков холодным и нетерпеливым взглядом за суетой рассаживающихся гостей, которые наперебой уступали друг другу лучшие места, двигали стульями, в рассеянности садились и снова поспешно поднимались. Барон кружил за их спинами, шепча и выразительно жестикулируя, пока наконец ему не удалось установить порядок.
Запыхавшись, как гончая, он сел рядом со своей подругой. Та издала странный вибрирующий звук. Казалось, что она сейчас запоет колоратурой, но вместо этого дама перекрестилась медленным и широким жестом. Некоторое время она о чем-то сосредоточенно думала, сложив руки и опустив голову, и только ее продолговатые бриллиантовые серьги слегка покачивались над толстыми щеками. Потом она еще раз перекрестилась, на этот раз украдкой, едва заметно, у самой груди, и села.
Некоторые вслед за ней тоже перекрестились. Полковник, тупо уставившись на скатерть, казалось, не замечал всего этого. Его вывел из задумчивости скрип стульев и вздох облегчения, пронесшийся над столом. Он грузно сел, не поднимая головы. Михала стесняло его соседство. Слишком свежи были воспоминания о воинской дисциплине, вынуждавшие его внутренне вытягиваться по стойке «смирно». Он пробовал заговорить с сидевшей справа санитаркой, смуглой девушкой с большими темными глазами и щеками, покрытыми нежным пушком, но она была занята беседой с молодым вихрастым врачом. Моника и двоюродные сестры сидели далеко, в другом конце стола. Поэтому он ел молча – чужой, далекий от их дел и занятий, не понимая чувств окружающих его людей.
Тем временем профессор возвратился к прерванному разговору.
– Дорогой полковник, – заговорил он, склонившись над тарелкой. – Мы как раз обсуждали с нашим начальником вопрос о выздоравливающих офицерах. Это касается и вас. Со своей стороны, я готов сделать все, чтобы оставить вас в госпитале.
Полковник застыл, медленно двигая челюстями.
– Как долго? – спросил он деревянным голосом.
– Насколько будет возможно. Две недели, месяц…
– А что потом?
Профессор как-то странно презрительно фыркнул.
– За это время многое может измениться. Вы не слышали о вылазках французов на линии Мажино?
Полковник не ответил. Он взял в рот кусок ветчины и жевал, рассеянно блуждая взглядом по столу. Вдруг он поднял на врача бесцветные усталые глаза.
– Пусть каждый решает за себя, – сказал он. – К сожалению, у меня нет иллюзий. Я сдаюсь в плен.
Усилившийся шум заглушил его слова. Даже барон не расслышал их. Он с удивлением смотрел на рассерженное лицо профессора. Затем поднял бокал.
– За успехи наших союзников, – предложил он. Все сразу же наполнили рюмки. Михал исправно пил после каждого тоста. Еще не поборов робости, понимая, что он здесь лишний, Михал с возрастающей надеждой доверялся водке. На «молодежном» конце стола шум усиливался. Он ждал, когда его увлечет эта волна, и он был готов без сопротивления сдаться каждой улыбке, каждому приветливому слову. Печальная женщина-врач напротив него пила в полном молчании. Медленным движением она опрокидывала рюмку и, морща брови, выпивала все до последней капли с точностью автомата, делая вид, что не замечает, когда доктор Новак наливает ей следующую. Она просто брала рюмку, словно выполняла обязанность, не требующую внимания, не вызывающую ни досады, ни удовлетворения.
За весь вечер Михал не сказал ни слова. Несмотря на то что он не пропускал ни одного тоста, он все еще не мог преодолеть свою робость, как тяжесть неуклюже сшитой шинели, как парализующую тяжесть своих подкованных сапог. Когда девушка с черными глазами легко положила ему руку на плечо, Михал от неожиданности вздрогнул. Она понимающе улыбнулась и кончиками пальцев пододвинула к нему по скатерти маленький бумажный шарик.
– Вам письмецо, – сказала она, показывая взглядом на улыбающееся лицо Моники.
Не дожидаясь благодарности, она повернулась к соседу справа. Михал развернул под столом бумажную салфетку. На ней карандашом для бровей было написано: «Не пугайся. Старики после двенадцати уйдут».
Михалу стало приятно, как будто кто-то протянул ему дружескую руку. Подняв голову, он встретился глазами со взглядом полковника и устыдился своей улыбки (буквы у Моники были непослушные и по-детски круглые, как маленькие котята), но в серых глазах полковника он заметил какой-то ободряющий огонек.
– Да. Вы еще должны попытаться, – сказал полковник. – От нас уже мало проку. Мы проиграли.
Горячая волна залила щеки Михала. Он смял салфетку и разорвал ее на мелкие кусочки. Полковник не обратил на это внимания. Глядя куда-то вдаль, он говорил:
– Как же я могу решать за других? Каждый знает свои собственные силы. А честь? В этой войне нет чести. Действует только один принцип: или ты меня уничтожишь, или я тебя.
Теперь Михал понял, что слова полковника не имели ничего общего с письмом Моники. Полковник все еще думал над предложением главного врача.
– Пан полковник, вы принимали участие в обороне Варшавы? – спросил Михал, стараясь поддержать разговор.
– Нет. Я был в Модлине.
– А я в шестой дивизии.
Полковник кивнул головой и опустил веки, словно с горечью подтверждая известие о чьей-то смерти.
– У генерала Монда.
И опять печальный кивок.
– Мы капитулировали под Равой Русской.
– Да, да.
Полковник несколько раз качнул головой, медленно и сдержанно. Михалу показалось, что они стоят над свежевырытой могилой. Он замолчал.
Тем временем за столом вспыхнуло какое-то новое оживление. Все посматривали на часы. Кася встала со своего места и несмело приблизилась к главенствующей тройке, призываемая вежливыми жестами величественной дамы. (Да, это была, кажется, жена шефа, хотя выглядела старше его.)
– Сестра Катажина, – сказала дама, когда девушка остановилась перед ней в выжидательной позе. – Будьте добры отнести это часовому.
Она пододвинула блюдце, на котором стояла рюмка коньяку.
– Немец, хоть и немец, но тоже человек, – сказала она, обращаясь к профессору.
– И еще это, – добавил барон, кладя рядом с рюмкой пачку сигарет.
Вихрастый врач с шумом отодвинул кресло.
– Я вам посвечу.
Из открытых дверей пахнуло холодом и запахом разрушения.
Соседка Михала тихо рассмеялась.
– Стопку водки кучеру, – шепнула она.
Барон медленно поднялся. Черный, сгорбленный, водил он затуманенным взглядом по лицам.
– Мои дорогие, – начал он. – Никому не надо объяснять, в каких условиях мы провожаем старый год и встречаем новый. Я не буду употреблять слово «поражение»…
Откуда-то издалека, из глубины неизвестных коридоров, донеслось металлическое эхо боя часов. Медленные, размеренные звуки с трудом пробивались сквозь темные закоулки и стены, они звучали то громче, то тише, заблудившиеся, полные усталости и отчаяния. Михал пробовал сосчитать удары. Слово «поражение» назойливо звучало у него в ушах.
– Мы не можем примириться с ним, – продолжал оратор. – Наш лозунг – надежда. Мы сделали все, что от нас зависело. Мы уходим с чистой совестью и не боимся новых обязанностей.
Часы все еще били, а может быть, Михалу только казалось, что он их слышит.
Барон говорил что-то о чести, благодарил собравшихся за достойное поведение перед лицом «жестоких противоречий».
– Мы имеем право встретить Новый год с верой. Я не сомневаюсь, что он принесет нам удовлетворение, что наши жертвы не будут напрасными…
Где-то рядом раздался винтовочный выстрел. Все повернулись к окнам. Барон стоял выпрямившись, с бокалом в поднятой руке.
Потом второй и третий, уже дальше, а затем торопливая пулеметная очередь.
– За победу, – произнес барон торжественным голосом, как бы призывая слушателей к порядку.
Тост был принят рассеянно. За окнами усиливался грохот беспорядочной канонады. К грому выстрелов примешивались обрывки каких-то выкриков и пения. У края черных штор поминутно вздрагивали спазматические вспышки.
Доктор Новак подбежал к двери и погасил свет. Кто-то раздвинул затемнение. В небе пульсировало розовое зарево. Вдруг внезапная синяя судорога прошла по горизонту и комнату наполнил холодный свет.
Михал увидел заснеженный двор и заснеженную крышу противоположного крыла здания в дьявольском свечении горящей серы, увидел согнутый фонарный столб на повороте улицы и выщербленный угол разрушенного дома. Ему показалось, что он разглядел идущие до горизонта развалины умирающего города. И в этот короткий миг, пока не погас свет ракеты, он сопоставил свою силу, свою детскую надежду с безмерностью мертвой пустыни. Он не смог бы этого выразить. Все, что он знал до этого, перестало существовать. Он стоял на пороге мира, враждебное равнодушие и жестокость которого выходили за рамки человеческого воображения. Он забыл о своем «невидимом мундире», о приключениях, предвкушением которых он внутренне наслаждался, о гордости солдата, готового сражаться даже без оружия. В нем осталась только беспомощная слабость.
– Свет, – сказал кто-то хриплым голосом. Захрустел картон затемнения. Когда свет снова зажегся, все еще стояли вокруг стола, растерянно мигая, с пустыми рюмками в руках. И тут неожиданно зазвучал дрожащий старческий баритон профессора:
Не погибла наша Польша…
Спустя мгновение гимн подхватили с удивлением и даже с каким-то смущением. Но вот уже его поддержал доктор Новак смелым звонким тенором, вот отозвался взволнованный хор женщин.
Михал не слышал собственного голоса, до глубины души потрясенный этими словами – как будто бы впервые открывая их содержание. Так было и так есть. Существовал ли на свете другой народ, который сумел выразить в песне свою судьбу с такой правдивостью и смелостью одновременно?
Михал выпрямился в приливе возвращающейся гордости. Украдкой он посмотрел на полковника. Старый офицер низко опустил голову. В уголках его сжатых губ притаилась нервная, а может быть, сердитая твердая складка.
* * *
В большой комнате теперь горела только настольная лампа, она стояла на книжной полке у окна. Было темно и душно. Пригашенный золотистый свет казался туманом, насыщенным парами алкоголя, духов и пота, почти жидкой средой, в которой тела легко общались между собой даже на расстоянии. Шарканье танцующих пар заглушало звуки охрипшего от старости патефона.
Верхний свет горел только в спальне доктора Новака, куда был перенесен стол с остатками еды и уцелевшими еще бутылками вина. Он выглядел странно на фоне белой ширмы, закрывавшей кровать хозяина, среди белых госпитальных столиков и застекленных шкафчиков с хирургическими инструментами.
Старшие, согласно предсказанию Моники, ушли сразу же после двенадцати. Когда все бросились передвигать мебель, щепетильная Кася выразила сомнение, прилично ли танцевать в такую минуту. Со всех сторон раздались крики, но окончательно вопрос решила печальная женщина-врач.
– Что, доставить немцам еще и эту радость? Тосковать из-за них? – Она сказала это сердито, без улыбки.
Теперь она сидела в кресле с рюмкой в руке, погруженная в свои невеселые мысли. Зато Кася уже танцевала в объятиях вихрастого врача, отводя раскрасневшееся лицо от его настойчивого шепота. От Моники не отходил высокий кудрявый студент-медик с ястребиным профилем и дерзким ртом. За несколько минут до этого Михал выпил с ним на брудершафт, но никак не мог вспомнить его имени.
Ему трудно было сосредоточить на чем-нибудь внимание. Одни лица казались ему совершенно незнакомыми, другие полумрак изменил до такой степени, что их знакомые черты казались ему туманными воспоминаниями детства. «Я немного пьян», – думал он и кротко улыбался. Прислонившись к стене в самом темном углу за дверями, он предавался внутренней игре противоречивых искушений, из которых ни одно не сумело овладеть им.
Михалу хотелось подойти к печальной женщине и что-нибудь сказать, чтобы вызвать улыбку на ее лице. В то же время ему хотелось сесть на тахту рядом с весело болтающими девушками. Но его не меньше привлекала и небольшая светлая комната, в которой – ему было это видно со своего места – доктор Новак разговаривал о чем-то с Эвой. Они сидели за столом по обе стороны от угла; лысая голова врача время от времени наклонялась, как бы бросая слова в атаку, а его руки с длинными пальцами порхали вокруг нее, как бледные бабочки. Эва курила, откинувшись на спинку стула; она выпускала дым через узкие ноздри. Ее выгнутая, как у лебедя, шея пульсировала от смеха.
«Он ее покорит, – подумал Михал. – Они будут спать вместе, и у них будут дети. А потом состарятся, и все станет только воспоминанием». В нем проснулась ревность. Ему стало жаль Эву, жаль Монику и Касю, которые будто бы уплывали от него, подхваченные быстрым течением. Но внезапно он вспомнил о странном, остывшем мире за окнами, и его жалость повисла в пространстве. Ни в чем не было уверенности, ничего не было известно. Каким законам подчинится жизнь? И будет ли время так же, как раньше, течь в этой холодной пустыне?
Эта мысль, вместо того чтобы испугать, как тогда, когда он увидел свет ракеты, вызвала в его груди трепет надежды. Все может сложиться иначе. Даже довлеющая необходимость может измениться. Он представил себе засыпанные снегом заросли на границе – лесные овраги с россыпью звезд среди затвердевшей от мороза чащи и не заметил, когда кончилась пластинка.
– Почему ты не танцуешь? – спросила Моника.
Михал искал объяснения.
– В этих солдатских сапогах? – буркнул он.
Она подтолкнула его к тахте.
– Пригласи Басю. Посмотри, какая она красивая.
Это была та девушка со сросшимися бровями, с нежным пушком на лице – его соседка по столу. Она сидела с краю. Из-под юбки были видны круглые, волнующе круглые колени.
– Красивая, – подтвердил он.
Патефон опять играл какое-то танго.
– Барбара, – сказала Моника, – мой брат хочет пригласить тебя на танец, только боится.
– Неправда! – крикнул Михал, уже обнимая руками плечи девушки. – Совсем не боюсь. Ничего не боюсь.
Она прижалась к нему. Он почувствовал на своем лице ее мягкие волосы.
– Кроме женщин, – сказала она.
Михал посмотрел на нее. У Барбары были ровные крепкие зубы, а чуть пониже правого уголка рта – веселая ямочка на щеке. На мгновение у Михала остановилось дыхание. Он чувствовал, как ее тепло проникает в него, идет по рукам к сердцу. Она говорила правду. Он должен был теперь обратить все в шутку, дать как-то понять, что интересуется ею и что готов пойти на все, чтобы приобщиться к ее радости и красоте. Вместо этого он опустил глаза, споткнулся, наступил тяжелым сапогом на кончик ее туфли и весь красный от смущения, несчастный стал рассказывать о битве под Александровой, с первого слова чувствуя, что это не вызывает у нее ни малейшего интереса.