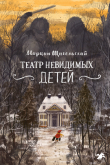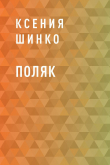Текст книги "Мотылек"
Автор книги: Ян Щепанский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
– Что за ужасное легкомыслие! – выкрикивает вторая.
Михал отчетливо видит Терезу в облегающем черном пальто с каракулевым воротником, в шляпке с маленькими, загнутыми вверх полями, из-под которой выбиваются на виски пушистые волосы. Он видит, как она сжимает под мышкой потертую сумку, сшитую из белых и черных полосок кожи, и как она смотрит на дверь широко открытыми потемневшими глазами, которые даже в испуге немного улыбаются. Какое-то мгновение ему кажется, что эта минута еще длится и что он должен что-то сделать, чтобы остановить, задержать ее дальнейший ход. Ощущение бесполезности отрезвляет его мучительным спазмом сердца. Это настоящая физическая боль. Он делает глубокий вдох, чтобы обрести голос.
– Можно войти в ее комнату? – спрашивает он. Перепуганные соседки преграждают ему дорогу.
– Лучше не надо.
– Не делайте этого.
Тогда третья фигура, не принимавшая до этого участия в разговоре, приближается из глубины к Михалу.
– Конечно, – говорит она низким, хриплым голосом. – Я провожу вас.
Михал идет через какую-то темную крытую галерею, а потом по хорошо ему знакомому кухонному коридору с голой лампочкой под потолком и с выложенным каменными плитами полом. Его проводница открывает последнюю дверь, и в темноте новым приступом боли встречает Михала запах лаванды.
Внезапно вспыхнувший свет открывает картину грубого разбоя. Зияют пустотой выдвинутые ящики, на полу валяются книги, письма, бумаги. Следы грязных подошв на клочках репродукций Утрилло, Брейгеля, Ван Гога. Ширма повалена на умывальник, сброшенная с тахты постель беспорядочно вздымается на паркете.
Михал делает несколько робких шагов. Под ногой скрипит стекло. В углу возле шкафа – смятый тоненький чулок. Повсюду валяются вещи, напоминая растерзанные живые существа. Вот испещренный квадратиками и крестиками листок. Когда-то давно они играли в «морской бой». Кого спасать? Кого защищать? Все уничтожено.
Беспомощным взглядом он смотрит на это разорение. Наклоняется (с каким трудом дается каждое движение!) и поднимает с пола почерневший серебряный портсигар. Его пальцы нащупывают маленькое углубление, оставленное небольшими острыми зубами Терезы. Он на минуту закрывает глаза.
– Вам надо уходить, – говорит тихо женщина в дверях.
Михал совсем забыл о ней. Только теперь он замечает ее лицо – наверняка виденное уже не раз, но не замеченное в свете счастья, – лицо, увядшее в самом расцвете красоты, трагично бледное, с глубоко залегшей тенью вокруг черных, огромных, неестественно блестящих глаз.
Он послушно выходит, и комнату Терезы опять наполняет темнота.
Женщина спускается с ним вместе по темной лестничке, открывает дверь на улицу. Через минуту, когда его уже охватывает свежесть моросящего дождя, он вспоминает робкое прикосновение ее руки, а до сознания доходит звук слов, произнесенных грудным голосом: «Я обо всем знала».
Он идет домой, по опустевшему городу. Он не знает, наступил ли комендантский час, – он ничего не знает.
А навстречу по блестящей от дождя мостовой приближается дребезжание металла, хрипение мотора, кашель забитой выхлопной трубы. Два луча желтого света, две пригашенные фары смотрят на него – может быть, с очень далекого расстояния, а может быть, с близкого. Слышится скрип тормозов, грузовик останавливается прямо перед ним. Какой-то мужчина что-то говорит ему из окна кабины затерянным в темноте голосом, и качающаяся колымага отправляется в свой одинокий путь.
Некоторое время Михал продолжает стоять, наконец идет дальше по середине вымершей улицы.
* * *
Мать открывает ему дверь, прежде чем он успевает позвонить. Она ждала его в коридоре, прислушиваясь к шагам на лестнице. Она внимательно смотрит на него, открывает рот и ничего не говорит. В последнее мгновение она сдерживает свое «что случилось?» – этот крик материнской тревоги, которого с таким страхом ждал Михал. В молчании входят они в комнату. В молчании садится Михал перед тарелкой супа. Он берет в руку ложку, но не отдает себе в этом отчета, не видит тарелки, он весь погружен в себя, он среди растоптанных вещей, в темноте пустых улиц.
Мать ни на минуту не отрывает глаз от его лица. Он чувствует это и встречает полный жертвенной готовности ее взгляд, и вдруг слова сами срываются у него с губ.
– Тереза арестована, – говорит он.
Мать медленно складывает руки на груди.
– Боже мой!
– Она скрывала еврейку, – говорит он.
– Боже мой!
Ему нечего больше сказать, и над столом воцаряется тишина, но Михал осознает, что он не один. В каждой морщинке материнского лица заключены скорбные, полные участия мысли о Терезе, о девушке, которую мать видела всего несколько раз. Твердый комок в груди Михала становится мягче, подходит к горлу, чтобы наконец превратиться в обычную человеческую печаль.
– Будешь есть? – спрашивает тихо мать.
Михал отрицательно качает головой.
– Я разогрею тебе это на ужин, – говорит она.
Она встает, убирает со стола. Ее заботливая, полная нежности суета приносит успокоение.
И до момента, когда приходит пора ложиться спать, ничего не меняется. Они ходят осторожно, почти на цыпочках, делая лишь самые необходимые дела, говорят лишь самые необходимые слова, дружественные и полные участия друг к другу. Они знают, что каждое неосмотрительное движение может нарушить состояние временной нечувствительности.
Вернувшись из ванной, мать долго молится возле кровати, а кончив молиться, целует Михала на ночь, и Михал обнимает ее взволнованный. Потом он садится на тахту в темной комнате не раздеваясь. Окно он оставил открытым, бумажная штора легко шелестит от ночного ветра. У него такое чувство, словно все его будущее ушло из-под ног. И некуда сделать следующий шаг. А идти дальше надо. Не думая об этом, он знает, что должен сделать еще несколько дел, которые кажутся ему унылыми, лишенными смысла призраками поступков. Когда наконец дыхание матери сменяется ритмичным сонным посапыванием, Михал тяжело поднимается и зажигает у изголовья кровати маленькую лампочку. Некоторое время он стоит, стараясь мысленно восстановить прерванную нить своих дел. Наконец он подходит к печке и из щели между кафелем и стеной достает завернутый в тряпку револьвер Длинного. Потом он становится на колени возле тахты. Из-под ремней, придерживающих пружины, он достает плотно сложенный квадратик бумаги – последнюю газету, которую не успел прочитать и пустить по кругу. Все это он заворачивает в лежащий на столе номер «Гонца». Потом осторожно поднимает бумажную штору и вылезает через окно на наружную галерейку. Дождь перестал, на крышах лежит водянистый свет луны. Он идет в тени вдоль стены, обходит две стороны двора и останавливается у винтовой лестницы. Одна из ее ступенек шатается. Он вытаскивает доску, прячет под нее свой сверток и возвращается той же дорогой.
Потом он медленно раздевается. Каждое его движение рождается из автоматизма мускулов, но почему-то сегодня в них есть некоторая скованность – так раненый человек охраняет в себе источник боли. Он должен побороть себя, чтобы погасить лампу и залезть под одеяло. Он боится воспоминаний, которые только и ждут темноты и бессонной неподвижности тела. Чтобы защититься от них, он начинает обдумывать детали завтрашней операции. Они кажутся ему совершенно нереальными. Улица, газетный киоск, ворота, дом на углу, забор автомастерской. Картины накладываются, как безжизненные фотографии, на единственную реальность – опустошенную комнату Терезы.
Он с трудом вспоминает серую фигурку Клоса, сгорбившуюся у дверей дома. Он знает, что эта картина содержит в себе самые различные возможности, которые надо предвидеть. Поэтому он начинает строить предположения над пропастью ожидающей его действительности.
«Иногда он ходит один, – думает Михал. – Это лучше. И не всегда возвращается в одно время. Он может обойти засаду, и тогда завтра это не состоится. А если он меня видел? Если он меня видел, – продолжал Михал размышлять, – он может приготовиться к обороне».
Мертвая картина улицы постепенно наполняется тревожным содержанием. Он уже не так спокоен. В душу его закрадывается страх.
Михал видит себя стоящим в тени киоска, видит идущих со всех сторон штатских – из-за угла, из ворот, с противоположной стороны улицы. Штатские с руками в карманах, в шляпах, надвинутых на глаза, хорошо знакомые штатские с собачьими лицами.
Теперь ему страшно, он сжимает зубы от страха. Выстрелы распарывают темноту быстрыми белыми полосами. Бешеный бег с сердцем в горле. Он видит немощеную боковую улочку, идущую куда-то под уклон, он бежит по ней вниз. И тогда из-за следующего угла выезжает притаившаяся машина, берет его в холодные ножницы фар. Ослепленный, он мечется из стороны в сторону, как заяц, и не находит выхода из потока света, а вокруг сверкающие звезды, все более плотный поток лучей. Он почти уверен, что так оно и будет. «Но все-таки надо через забор, – думает он. – И надо оставить один патрон. Для себя».
Он пробует и другие варианты, но этот остается в памяти самым отчетливым. Измученный, он ворочается в постели, плотно сжимает веки. Это длится очень долго. Недавняя боль содрогается где-то в глубине, как оседающий фундамент охватившего его страха. Картины все время возвращаются, полные жестоко-выразительных деталей. «Если бы я мог молиться», – думает Михал и чувствует над собой огромную черную бездну.
Вдруг он вспоминает, что цель всего этого – убийство Клоса. Он должен убить Клоса, обладателя многих тайн.
Измученного Клоса с бледным бегающим взглядом, с любовью к жене и маленькой трехлетней девочке, которые ни о чем не знают, Клоса с памятью, полной стихов.
В страхе за собственную жизнь Михал не пожертвовал ему ни одного удара сердца. Значит, вот как это бывает? Он призывает на помощь лица Терезы и Моники. Говорит самому себе, что вот он предает все, даже собственное отчаяние. Он полон отвращения, но не может освободится от страха.
Где-то в монастырском саду хрипло запел первый петух. Михал поворачивается к стене. Всем сердцем он хочет заснуть. Заснуть и никогда уже не проснуться.
* * *
Одним рывком он садится в постели. Непрерывно звонит звонок, дверь гудит от тяжелых ударов. Трещит сорванная светомаскировка. Жесткий картон с хрустом и хлопаньем падает на стол, серый рассвет врывается в комнату, вместе с ним через подоконник перелезает большая черная фигура. Твердые голенища, на фуражке блестят череп и кости. Их опережает крик:
– Auf! Hände hoch! [44]44
Встать! Руки вверх! (нем.)
[Закрыть]
И Михал спускает на пол босые ноги со странным чувством облегчения. Он видит неясный силуэт матери на кровати. Видит, как она медленно поднимает вверх худые белые руки, по которым сползают рукава рубашки.
На какой-то миг кажется, что все утихло, так как прекратились звонки и удары. Слышны лишь ворчание грубых голосов и тяжелые шаги в коридоре.
Черный стоит посреди комнаты, широко расставив ноги. Он направляет на Михала кулак с револьвером. Внезапно их становится больше. Штатский в кожаном пальто и тирольской шляпе, офицер в хорошо подогнанной шинели.
– Dort! [45]45
Туда! (нем.)
[Закрыть] – кричит черный, показывая дулом на простенок между дверью и стеной.
Михал на ощупь всовывает ноги в туфли и, шлепая, идет к стене. Твердая лапа опускается ему на плечо, поворачивает его лицом к стене.
– Nein, Sie bleiben sitzen! [46]46
Нет, вы сидите! (нем.)
[Закрыть] – Это, наверно, матери.
– И оставайтесь в кровати, мамаша, – говорит штатский тяжеловесным польским языком.
Ими наполнена вся квартира. Отовсюду слышен треск открываемых шкафов, грохот выдвигаемых ящиков. В соседней комнате пани Ядвига, мать Мачека, что-то объясняет по-немецки ясным отчетливым голосом. Бешеное, как удар по щеке, «Maul halten!» [47]47
Молчать! (нем.)
[Закрыть] заглушает ее слова.
Теперь они вытаскивают чемоданы из-под кровати. Какие-то вещи падают на пол.
Холодный металл упирается Михалу в плечо.
– Kannst du nicht die Hände recht halten, Kerl? [48]48
Ты не можешь держать руки как следует, парень? (нем.)
[Закрыть]
Это не черный и не штатский. В его голосе звучит справедливое порицание. Краем глаза Михал замечает зеленую шинель. Он выпрямляется и поднимает выше руки, которые начинают уже дрожать. Офицер не отходит.
– Isfame? [49]49
Фамилия? (нем.)
[Закрыть] – спрашивает он.
– Vorname? [50]50
Имя? (нем.)
[Закрыть]
Михал удивляется спокойному звучанию собственного голоса во время ответов.
– Geboren? [51]51
Родился? (нем.)
[Закрыть]
– Beruf? [52]52
Профессия? (нем.)
[Закрыть]
Потом шелест бумаги и брошенное куда-то в глубину «stimmt?» [53]53
Правильно? (нем.)
[Закрыть], на которое нет ответа.
В это время штатский выдвигает ящики стола. Михал чуть поворачивает голову и видит, как тяжелые лапы нетерпеливо перелистывают записи, хватают французский словарь и трясут им в воздухе, а потом пренебрежительно бросают на пол. Теперь штатский держит тетрадь в клеенчатой обложке. Перелистывает страницы. Читает. Михал смотрит на его лицо. Толстый нос, толстые красные щеки, твердые губы, от твердых, как кулаки, слов. Он читает, наморщив низкий лоб, и Михал со странным напряжением следит за выражением этой физиономии, за признаками тех впечатлений, которые могут на ней появиться.
Офицер отходит, скрипит сапогами возле шкафа.
– Na, was ist denn das, Gerhardt? [54]54
Гм, а что здесь случилось, Герхард? (нем.)
[Закрыть] – спрашивает он через минуту.
Штатский переворачивает еще одну страницу, потом хлопает тетрадью об стол.
– Ach, Mensch, Scheiss! [55]55
Ах, человек, дерьмо! (нем.)
[Закрыть] – говорит он, пожимая плечами.
У Михала начинает болеть спина. Он все чувствительнее ощущает холод, проникающий под тонкую пижаму. Его слегка знобит, но он спокоен, совершенно спокоен.
Почти с благодарностью принимает он приказ черного:
– Anziehen! [56]56
Оденься! (нем.)
[Закрыть]
Михал осторожно ступает между разбросанными книгами и одеждой. Поднимает с пола брюки, рубашку, свитер. Одевается, не обращая внимания на направленное на себя дуло. Мать выразительно смотрит на него с кровати. Она держит сжатые руки на голове, беззвучно двигает белыми губами.
– Fertig? [57]57
Готов? (нем.)
[Закрыть] – спрашивает черный.
– Jawohl [58]58
Да (нем.).
[Закрыть].
– Dann raus! [59]59
Тогда выходи! (нем.)
[Закрыть]
Они выводят его в коридор. Здесь уже стоит лицом к стене Мачек под охраной двух жандармов в касках и с автоматами.
Опять слышен голос пани Ядвиги, объясняющий что-то настойчиво и с достоинством. В глубине квартиры все еще шаркают тяжелые сапоги, хлопают двери. Коридор наполняется людьми.
– Alles in Ordnung? [60]60
Все в порядке? (нем.)
[Закрыть] – спрашивает офицер.
Кто-то легко бежит частыми шажками.
– Мачек, возьми!
Они оборачиваются вместе. Пани Ядвига держит наспех завернутый сверток – теплые кальсоны и свитер.
– Na, gut! [61]61
Ну, хорошо! (нем.)
[Закрыть] – говорит милостиво черный, показывая Мачеку, чтобы тот взял сверток.
Мать Михала тоже появляется на пороге комнаты в своем выцветшем халатике, со свертком в руках.
– Zos! [62]62
Пошли! (нем.)
[Закрыть] – говорит офицер.
Штатский открывает дверь на лестницу, жандармы в касках становятся по бокам. Тогда офицер показывает на Михала дулом и говорит равнодушным тоном:
– Der kann bleiben [63]63
Этот может остаться (нем.).
[Закрыть].
Они стоят теперь тесно сплотившейся группой: отец Мачека, в поношенной коричневой пижаме, пани Ядвига с высоко поднятой головой в облаке светлых растрепанных волос и громко всхлипывающая старая служанка Франтишка. Рука Михала крепко сжимает хрупкие трясущиеся пальцы матери.
Они прислушиваются к удаляющемуся, как гром, топоту ног на лестнице. Слушают и молчат, и только лицо пани Ядвиги становится все бледнее.
* * *
– Это приказ, – говорит Старик. – Все бросать и сматываться.
Они сидят в плетеных креслицах, среди искусственных цветов Марты, среди ее статуэток и вышитых клоунов.
– Здесь адрес. – Он подает Михалу конверт. – Это та же самая явка, где сидит Рыжий, то есть Ирена, или как его там. Только никаких глупостей.
– Я хочу в лес, в лес, – говорит Михал.
Старик кривится, поправляет пенсне.
– Посмотрим. А пока надо ждать. Никому не писать, даже матери.
– Мать уезжает в Варшаву. Она сейчас у знакомых.
– Хорошо.
– А Клос? – спрашивает Михал.
Старик сердито кашляет.
– Я сказал: все бросить. Вы сгорели. Слишком близкое попадание.
Они замолкают. В косом луче света мечутся частички пыли.
– К какой организации принадлежал этот ваш приятель? – спрашивает Старик.
– Не знаю. Учился в подпольном политехническом институте.
– Это выяснится.
Старик поднимает с пола свой портфель. Встает. Некоторое время смотрит на Михала.
– Выспаться на явке. И уходить… – Старик по-дружески кладет руку Михалу на плечо. – Да, – вздыхает он. – Все мы уже чертовски от этого устали.
* * *
Михал стоит у окна между коленями деревенских баб, между выступающими из-под лавок корзинами. За стеклами вагона опять начался мелкий обложной дождь. В его косых полосах движутся телеграфные столбы, размокшие пашни, зеленые квадраты озимых. На горизонте темным полукругом стоит лес.
Набившиеся в тамбур парни из строительного батальона поют под стук колес визгливыми голосами:
Наша жизнь пусть несется с песнею вдаль.
Наша жизнь молодая тверда, как сталь.
Михал опирается о косяк. Лихорадочное тепло усталости заливает его щеки. Он опустошен. Он страшно устал, и его клонит ко сну.
Одиннадцать трудных открытий
Говорят, что Христофор Колумб, пускаясь в плавание, имел на борту своей каравеллы старые карты, составленные арабскими мореплавателями. Если это верно, то выходит, что Атлантику он пересекал не первым и свое открытие совершил на путях, давно проложенных другими.
Повторение судьбы Колумба суждено, в сущности, каждому человеку. Сколько бы прежде составленных карт ни ориентировало того, кто пускается в плавание по житейскому морю, каждый заново открывает в нем свои материки и вместе со своим поколением накапливает новый, неповторимый жизненный опыт. Одна из самых популярных книг в послевоенной польской литературе – трилогия Романа Братного – так и называется: «Колумбы, год рождения 1920». Ян Юзеф Щепанский принадлежит к тому же поколению. Он родился в 1919 году, и его роман повествует о тех, чье двадцатилетие наступало под грохот рвущихся бомб, в багровом зареве пылающей Варшавы, в хаосе только что открытого и внезапно обрушившегося мира, в котором протекли их детство и юность. Дым пожарища заволакивал короткое прошлое и не позволял различить очертания будущего.
В том рухнувшем мире берега открываемых земель встречали юных пришельцев недружелюбно. Они вселяли предчувствие беды и рождали неясное представление о каннибальстве. Поэтому, как бы трагична ни была происшедшая катастрофа, она вселяла и надежды: быть может, мир, который поднимется из-под пепла, будет лучше и чище погребенного под обломками?
Такой надеждой проникнуты лучшие из книг, написанных от лица «Колумбов, рожденных в 1920-м». И та же надежда, питаемая неистребимой верой в то, что человек рожден для жизни справедливой и умной, является источником поэтического лиризма, отличающего все главы грустной – и вместе с тем очень светлой – книги Яна Юзефа Щепанского «Мотылек».
Литературная судьба автора этой книги необычна и нелегка. Писать он начал рано, первые вещи его датированы 1940 годом. Но встреча с читателем состоялась куда позднее: его первая книга «Штаны Одиссея» вышла лишь в 1954 году – далеко не сразу после того, как была написана. А еще год спустя появилась написанная дважды «Польская осень». Впервые она писалась во время войны, в партизанском подполье, где находился молодой писатель в год гитлеровской оккупации; рукопись была утеряна; автор взялся за нее во второй раз, когда война закончилась. И только после этих двух книг увидели свет его первые рассказы. Однако в литературных кругах имя Щепанского было известно до выхода первой книги. Критик Влодзимеж Мацёнг писал, что Щепанский долгое время был автором, о котором говорилось, что в ящиках его письменного стола лежат шесть книг, напрасно дожидающихся издателя.
Быть может, эти сложные обстоятельства литературной биографии явились причиной того, что Щепанский так никогда и не появлялся перед читателем как новичок-дебютант. В польскую литературу он сразу вошел как зрелый и своеобразный мастер с богатой и хорошо разработанной палитрой красок. Он писал о пережитом, о том, через что прошел он сам вместе с большинством своих читателей. И, продолжая возвращаться к одному и тому же кругу тем и переживаний, он всякий раз находил иную точку зрения, и потому иным становилось его отношение к героям. Он был патетичен в «Польской осени», ироничен в «Штанах Одиссея»; в «Мотыльке» он повел своего читателя в мир, полный лирических воспоминаний об открытиях, которые совершал в нем ребенок, потом подросток и, наконец, юноша, ввергнутый в жестокую бурю войны и подхваченный ее опаляющим ветром.
Одиннадцать глав романа – это одиннадцать воспоминаний, одиннадцать открытий, и каждое из них приносит новому Колумбу разочарование, сталкивая его с неясной угрозой, с новыми проявлениями затаенной враждебности, со внезапно возникающей тайной смерти, которая так и остается нераскрытой, даже и тогда, когда война делает смерть событием самым обыденным, и герой книги – сам «Колумб» – вынужден идти на предумышленное убийство человека по слепой случайности доставшегося ему жребия.
Щепанского никогда не увлекала литературная мода. Он избегает нарочитых построений, чурается всяческих формальных изысков. Его проза реалистична, его стиль стремится к лаконизму, язык сочен, обогащен диалектизмами народной речи; в ранних повестях и рассказах забота о том, чтобы с фонетической точностью передать доподлинный говор крестьян, одолевает его с силой, вызывающей в памяти такие русские аналогии, как «Партизанские повести» молодого Всеволода Иванова с ворвавшейся в них свежестью сибирской чалдонской речи пли «Россия, кровью умытая» Артема Веселого, где стихия революции привольной речью «братишек» взорвала привычный литературный язык. Это стремление к точной передаче слышимой речи не влечет за собой никакого разрушения традиционной литературной формы. Как только герой уступает место автору, тот сразу приводит все в порядок и продолжает свой обстоятельный, неторопливый, полный точных наблюдений и склонный к тщательному анализу рассказ. Именно память на живые детали и умение вдумчиво их анализировать во всей совокупности составляют наиболее сильную сторону таланта Щепанского.
Давно, вскоре после выхода первых своих книг, Ян Юзеф Щепанский обронил о себе фразу, как бы винясь перед критиками и опережая упрек, который ожидал он от них услышать. Он писал, что герои его недостаточно положительны, а их поступки слишком мало годятся для примера. Смысл признания был таков: что поделаешь, пишу о тех, с кем сталкивала меня жизнь, и изображаю их такими, какими видел…
Но ни сам Щепанский, ни критики, которые говорили о его книгах, не сказали о главной примете героев этих книг: в каких бы сложных (и чаще всего трагических) обстоятельствах ни являлись они перед читателем, они заставляют ощутить, что рождены все они для иной жизни, для иных дел, что обладают они человеческим талантом, погибающим втуне в силу различных неблагоприятных и от них не зависящих обстоятельств, и что они – в преимущественном своем большинстве – по природе добры, а не злы. И если они вынуждены разрушать и убивать, то это происходит не по присущим им склонностям, но вопреки им.
Одна из излюбленных Щепанским ситуаций, дающая возможность для таких именно размышлений, появляется уже в рассказе «Конец легенды», принадлежащем к числу самых ранних вещей Щепанского, но опубликованном лишь в 1956 году в сборнике «Сапоги».
Начало рассказа приводит читателя в вокзальную толпу времен оккупации. Из толпы – как бы кинематографическим приемом, крупным планом – выхватывается один человек. У него нет имени, только кличка, и кличка эта Серый. «Действительность оборвалась для него на последнем ночном постое… Называли там друг друга именами животных, деревьев и птиц, поминали в разговорах названия глухих лесных нор и мельниц, неведомых картам ручьев и болот, причем все эти названия были полны для каждого живым, почти одушевленным содержанием». Серый – партизан, который впервые за все время войны соприкасается с давно покинутым миром, и самым большим потрясением для него оказывается то, что мир этот почти не переменился, «что он увидал его таким же, каким был им покинут». Тут наступает и второе потрясение: Серый начинает сопоставлять со вновь обретенным миром самого себя и убеждается в том, насколько переменился он сам.
Все это происходит в дни рождества, накануне встречи Нового года. И вот Серый попадает в знакомый с детства дом добрых знакомых, где за время его отсутствия девчонки успели превратиться во взрослых девушек, где оживленно и весело готовятся к новогоднему маскараду и где вокруг него сразу начинается веселая суета, такая страшно далекая от всего, что он оставил в лесу.
Тут никто не менял имен. Тереза осталась Терезой, Иза – Изой. Хозяин дома, господин Войно, не изменил ни одной из своих привычек, запомнившихся Серому с тех пор, как он в последний раз был в этом доме. И к самому Серому внезапно возвращается его собственное полузабытое имя – Юзек… Казалось бы, все складывается так, что утомленный и выбитый из колеи герой должен наконец отогреться в этом обойденном войною доме и обрести давно утраченное равновесие. Однако равновесие не возвращается. Напротив, война настигает его и здесь, от нее нет отпуска; то, что было пережито в лесу, безвозвратно разлучило его с прошлым, поставило непереходимые рубежи, лишило общего языка с теми, кого он вновь повстречал в этот новогодний вечер и кто невредимым дошел сюда со своими привычками, взглядами, увлечениями. Было все это прежде и у Серого – интерес к искусству, склонность к философским абстракциям, защита абстрактных идеалов, – и все это оказалось давно растерянным в лесных укрытиях, в грязи и крови последних месяцев его жизни. Он не может ответить собеседникам даже на простые вопросы. «Ведь были у вас бои? – спрашивают его. – Были успехи?» Но что толку рассказывать здесь об этих боях и успехах? В лесу говорилось: «Сегодня у нас будет пу-пу!..» – и все знали, что это означает предстоящую схватку, из которой не все возвратятся живыми. И после схватки тоже говорилось немного и чаще всего о самом незначительном. У людей там была общая судьба, и они привыкли понимать друг друга без слов. А тут нужно выискивать поражающие воображение сюжеты, вспоминать нечто необычное, умалчивать о вещах, не подходящих для девичьего уха. Да что там девичье! Неосторожное упоминание о том, что они не могли обременять себя пленными, оказалось непонятным хозяину дома. «Ведь это ненужная жестокость!»
Но особенно постылым и глубоким становится для Серого его отчуждение от людей, окружающих его в этот новогодний вечер, когда он постигает все суесловие привычных диалогов, всю пустоту звучащих вокруг многозначительных речей и громких слов. «Исторический эпос… Легендарные подвиги…»
«Так легко уйти от ответственности за конкретное дело, если знаешь немного литературу…»
И тогда возникает самый важный вопрос, настойчиво и неотступно требующий ответа: «За что вы боретесь? За какую Польшу?» Этот вопрос возникает с разных сторон. На него нужно ответить – не спрашивающему, а самому себе. Здесь, в доме Войно, его задает сверстник Серого, который вообще избегал всякой борьбы, отсиделся в сторонке. Но тот же вопрос был уже однажды задан Серому в лесу, когда невдалеке от их отряда расположились парашютисты Армии людовой. Серый заговорил с одним из них и услышал от него: «За какую Польшу вы боретесь? За такую же, какой она была раньше? За санационную, капиталистическую, помещичью?» Серый не был готов к ответу – ни тогда, ни долгие месяцы спустя, в канун последнего военного года.
Не заданный вслух, тот же скрытый вопрос снова явственно звучит в «Мотыльке».
Это может показаться анахронизмом. Разве сама история не дала ответа на этот вопрос уже четверть века тому назад? Кто же не знает, кому досталась победа и какую Польшу построили победители, очистив от захватчиков свою землю?
И все же вопрос этот, как один из самых насущных, продолжает возникать в современной польской литературе, и на него по-своему отвечают и Тадеуш Конвицкий в своем «Современном соннике», и Адольф Рудницкий в новых «Голубых страницах», и Ежи Анджеевский, и Юлиан Стрыйковский, и с ними Ян Юзеф Щепанский в «Мотыльке».
В этом заключается один из важнейших элементов долга писателя: объяснить не только своему поколению, но и последующим, почему история складывалась так, как она сложилась, а не по-другому.
Для того чтобы найти свой ответ, Щепанский обращается к детским и юношеским воспоминаниям. Они дороги ему каждой своей подробностью, и тем сильнее боль, которую он испытывает, обнаруживая во всем, что с самых ранних истоков формировало его жизненный опыт, симптомы смертельной болезни, уже тогда обрекшей этот мир на гибель.
Первое соприкосновение с темой смерти происходит в главе «Мотылек», открывающей книгу и давшей ей название. Это одно из самых ранних воспоминаний лирического героя, ведущего повествование. Память возвращается в безоблачные годы самого начала жизни. В сад, который казался огромным как мир и заключал в себе для ребенка его Вселенную. К детской игре, когда обыкновенные сосновые шишки – «большие, коричневые, блестящие, будто их кто-то почистил пастой», – так легко одушевляются и могут превратиться в коров. А другие, «маленькие, мягкие, влажные от смолы, со слипшимися зелеными лепестками, розовыми по краям», – это овечки. А стоит только захотеть, и коровы тут же превратятся в лошадей, а овечки станут жеребятами. И все это будет совсем взаправду.
Это свойство – творить чудеса, по-своему пересоздавать мир и убежденно верить в свое всемогущество – присуще всем детям, и об этом очень точно писал Юлиан Тувим. Он сказал, что рано или поздно это свойство утрачивается. Но некоторым удается сохранить его, и такие люди становятся поэтами.
Глава «Мотылек» написана, как стихотворение. Точнее, как лирическая притча.
Несложная на первый взгляд тема обретает поэтическую глубину. В притче появляются подспудные, еще непостижимые для героя смыслы, и короткий эпизод оказывается развернутым символическим образом, вмещающим в себя главное содержание книги.
Среди шишек-жеребят, среди капель росы мальчик видит сухой листик, которого только что не было. Листик движется. Он вползает на детскую ладонь. Раскрывается, блеснув на миг «черно-коричневыми крапинками на пушистом бархате». Листик оказывается мотыльком. Он «не прилетел, а пешком вышел из травы. Может быть, он болен?»
Мальчик заговаривает с ним как с приятелем. «Здравствуй… Где ты живешь?.. Покажи, какие у тебя крылышки…» Детский глаз изменяет масштабы. Все видно крупно, ясно. У мотылька волосатые ножки. За детскую руку он хватается словно бы маленькими коготками. Мальчик хочет помочь ему раскрыть крылья, но вот они уже не те, что были: бархат местами вытерт. Это, наверно, плохо.
Начинается дождь. Надо помочь мотыльку спрятаться, не промокнуть. Мальчик находит ямку-домик и принимается заталкивать мотылька туда. Нет, это не насилие. Ведь мальчик очень осторожен. И он очень искренне хочет, чтобы все было «как лучше». Но, «коснувшись этой беззащитной хрупкости, он почувствовал дрожь, похожую на отвращение. Мотылек отчаянно хватался ножками за его руку, нужно было немного дернуть, чтобы его оторвать». Но ведь нельзя же, чтобы мотылек промок. А отверстие слишком маленькое. «Голова мотылька входила в него без труда, но крылышки не пролезали. Теперь, уже сложенные, они качались из стороны в сторону, а ножки беспомощно перебирали воздух».