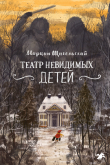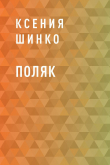Текст книги "Мотылек"
Автор книги: Ян Щепанский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
Он был уже за углом. Здесь она уже не могла его видеть. Он услышал за спиной свист и бросился бежать.
Неужели она его презирает? Узнала, что убежал, и презирает? На следующий день он напрасно несколько раз высвистывал куранты. Она даже не подошла к окну.
И на следующий день было так же. Вот какая-то тень на стене. Нет, это ее мать. Покружила, наклоняясь над чем-то. Потом вышла, и опять ничего. Отвергнут. Какой ужасный, лишенный добра мир! Он ходил по своей комнате, садился на стул, брал в руки книги, тетради и клал назад. Все было бессмысленным, поникшим. Каждый шаг зиял тоской бессмысленности. Товарищи звали его с улицы. Он не отвечал. Значит, вот как выглядит страдание! Ему казалось, что, если бы не надежда увидеть ее в субботу на уроке, он перестал бы жить – просто из-за отсутствия смысла существования.
Он упорно продолжал убегать по вечерам, заранее зная, что идет только убедиться в своем поражении.
Его насторожил взгляд отца за ужином. У отца были карие, глубоко посаженные глаза, в которых всегда таилась незаметная усмешка – иногда одобрительная, иногда пронзительно холодная. Она означала, что самый мелкий штрих замечен им и по достоинству оценен. За ужином отец задержал на Михале свой взгляд, направленный из-под густых бровей, дольше обычного, а затаенная усмешка была как бы и приветливая, и холодная одновременно. Это могло быть началом одной из тех бесед, начинающихся сказанной суровым голосом, формулой: «Ну, Михал, давай поговорим». В этот день он, как обычно, побежал на улицу, где жила Ксения. Окно по-прежнему было пусто, и над несчастьем покинутого мира висела дополнительная угроза отцовского «поговорим». Подавленный, прокрался он на цыпочках к себе на мансарду. Внизу, за закрытыми дверями кабинета, были слышны голоса. Он остановился с бьющимся сердцем.
– Надо с этим покончить, – говорил отец. – Мы не должны делать вид, что принимаем всерьез все эти басни про собрания и вечерние визиты к товарищам.
Шорох шагов по ковру, и – наверно, в ответ на какой-то жест или тихое слово – опять отец:
– Хорошо, но есть какие-то границы терпению!
А потом мать примиряющим голосом:
– Ромек, это самые счастливые минуты в его жизни!
Он взбежал наверх. Какой позор, эти спазмы в горле! Столько чувств сразу. Такое смятение. Немного успокоившись, он вырвал из блокнота листок и написал сверху: «Ксения!» А через полчаса разорвал начатое письмо, как и все предыдущие, на мелкие кусочки.
Пришла суббота. Они с Моникой одевались так, как будто школьная форма была изысканным туалетом, требующим особой тщательности. Перед самым выходом Михал пошел в ванную в последний раз вымыть руки, которые все время казались ему недостаточно чистыми. Моника перед зеркалом поправила белый воротничок.
– Кажется, сегодня Ксения не придет, – сказала она, перехватывая в зеркале его взгляд. Он почувствовал, что бледнеет.
– Почему? – выдавил он.
– Я тебе не говорила? – удивилась она, как будто речь шла о самой безразличной вещи на свете. – Она простудилась. И со вторника не ходит в школу.
* * *
Михал никогда не предполагал, что он такое интересное существо. Как будто только сейчас он начал узнавать себя, полный любопытства, восторга и благожелательности. Этому была причиной она. Теперь ему уже не надо было простаивать под ее окнами. Когда они расставались после урока танца, она говорила ему тихо, чтобы никто не слышал: «В среду в пять» – или: «В четверг, после музыки». На уроки музыки ей приходилось ходить очень далеко – а часто, поскольку теперь он хорошо знал расписание ее занятий, происходили еще и другие «случайные» встречи.
Во время прогулок он создавал себя в соответствии с потребностями ее чувств и воображения. Михал смутно понимал, что сейчас он может предложить немного, поэтому он старался понравиться ей своим будущим. Он не лгал. Он мечтал вслух. Из этих его монологов вырастала фигура странная и таинственная – не то безумный рыцарь, не то бродяга, не то авантюрист, не то странствующий аскет.
– Не знаю, найду ли я женщину, которая захотела бы разделить мою судьбу, – говорил Михал. – Она должна будет отказаться от удобств, денег и родины. Легкую жизнь я не смогу ей обещать. Я знаю это точно: все что угодно, только не легкую жизнь.
Он презрительно надувал губы, почти с отвращением произнося «легкую жизнь», а Ксения широко открывала голубые глаза и с удивлением смотрела на него. Это выглядело так, как будто он уже вернулся к ней, опаленный ветрами морей и пустынь, полный мудрости далеких стран. И он становился чужим самому себе, источающим обаяние загадочности, лишенным скуки обыденности.
Ее имя было теперь как магический пароль, открывающий не только мир ее чар, но и клад неизвестных ему собственных тайн.
Ксения, КСЕНИЯ, Хеша – страницы его тетрадей были заполнены бесконечными пробами начертания этого слова. Он даже вырезал украдкой ее инициалы на парте. Эти несколько букв заключали в себе зародыш такого волнения, что писание их стало чем-то вроде страсти.
Он пробовал также рисовать ее. Это было нелегко, потому что выражение ее лица складывалось из постоянно меняющихся отблесков, мерцаний и теней, словно отбрасываемых какими-то нежными, проплывающими по небу облаками. Неуловимый прищур глаз, вздрагивание губ, вскидывание бровей – из этого возникало все ее обаяние, которое не могли передать ни овал пухлых, довольно широких щек, ни линия короткого и совсем неправильного носа, ни округлость подбородка. Михал занялся «кошачьей» улыбкой Ксении. Целые страницы он покрывал набросками сжатых губ со слегка приподнятыми уголками. Этими упражнениями он занимался преимущественно в школе, делая вид, что внимательно записывает урок.
Скучный голос учителя непонятно жужжал, вопросы, как снаряды на поле боя, падали то ближе, то дальше. Михал даже не поднимал головы, потому что как раз в это время он схватил в изогнутой линии сходство, и эта ускользающая улыбка была здесь, здесь, парила в воздухе. Любое неосторожное движение, любая невнимательность могли ее спугнуть. К едва намеченным губам он осторожно дорисовал лицо. Это требовало огромной сосредоточенности. Он ведь не видел ее. Он только чувствовал ее в себе, как мелодию. Карандаш дрожал у него в руках, легко вырисовывая брови, горизонтальные эллипсы глаз. Но как передать потрясающую нежность щек? Как обозначить границу волос и света? Ему казалось, что он на правильном пути и что возникающий рисунок содержит в себе отблеск жизни.
Это случилось на уроке немецкого языка. Низенький учитель пан Кноп сухо стучал высокими каблуками – от окна к двери, от двери к окну – и скрипел, упиваясь собственной иронией, злобным презрением в адрес того, кто не мог ответить на вопрос. Михал с вдохновением созерцал свое произведение. Из пышных заглавных букв и различных вариантов начертания имени «Ксения» вырисовывалась девическая головка, еще не законченная и, может быть, не очень похожая, но полная обаяния, именно ее неуловимого обаяния. Подумав, он сделал на шее еще два вертикальных штриха. И хотя это был схематичный набросок, Михала охватило нежное беспокойство, так как он увидел гладкую и тонкую округлость, а губы его задрожали от желания прикоснуться к этим теплым чертам. Он почувствовал удивительную слабость, от которой закрыл глаза. В этот момент сосед по парте сильно толкнул его локтем. Он услышал свою фамилию – ее произнесли враждебным тоном, с каким-то шипением, свидетельствующим о том, что это делается не впервые.
Он вскочил, пряча рисунок под открытую книгу. Пан Кноп внимательно всматривался в него бесцветными глазками. При этом он медленно раскачивался, с носков на пятки, посапывал носом и слегка шевелил маленькими ладонями, большие пальцы которых были заложены за вырезы жилета. У него было сморщенное личико старого мопса, на которого надели очки, его тонкая шейка свободно вылезала из старомодного воротника с закругленными уголками, и неожиданно круглый, вздувшийся, как шар, торчал живот.
– Na, ja, wir träumen, – говорил он с наигранным добродушием. – Wir sind ein Schöngeist, ein Wolkenschieber [4]4
Ну вот, мы мечтаем. Мы фантазируем, парим в облаках… (нем.)
[Закрыть].
Он ожидал одобрительного смеха, которым несколько верных подхалимов обычно приветствовали ею остроумие.
Михал отчаянно напрягал слух. «Erlkönig» [5]5
«Лесной царь» (нем.).
[Закрыть], – уловил он среди разнообразных шорохов класса.
– Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? [6]6
Кто мчится, кто скачет… (нем.)
[Закрыть] – начал он.
– Выйди из-за парты, – прервал его учитель.
Маленькими шажками, не торопясь подошел он к Михалу, наклонив голову набок, зорко поблескивая очками. Михал паническим движением засунул руку под книжку. Он был готов на все. Он готов был драться с учителем.
Маленькая, покрытая коричневыми пятнами ручка опустилась на парту с неожиданной ловкостью.
– Halt, mein Kerl [7]7
Стой, парень (нем.).
[Закрыть].
И вдруг Михал онемел от удивления. Листка с рисунком под книжкой не было.
– Что ты там делал?
– Ничего, пан учитель.
Кто-то засмеялся. По задним партам прошла волна веселого шепота. Он не сразу понял, что случилось. Но когда наконец обманутый учитель отошел и Михал сел на место, за его спиной послышался издевательский вздох и с отвратительной дрожью на все лады произносимое: «Ах, Ксения!»
Спазм ярости сжал ему челюсти. Он сидел сгорбившись, ничего не чувствуя, кроме растущей в нем ненависти. Это был последний урок. И едва только звонок возвестил его конец, он вдруг повернулся с силой внезапно освободившейся пружины.
– Отдай! – зарычал он в смеющуюся рожу Пинделы.
Тот весело ощерил неровные желтые зубы.
– Что?
Кулак Михала был быстрее, чем решение. Его удар был сильным. Со всех сторон раздался радостный рев. Вцепившись друг в друга, они упали на пол в тесном проходе, стукаясь головами о парты. А сверху обрушился ливень подзадоривающих криков:
– В морду!
– Дай ему! Дай ему!
Кто-то пискливо пел:
– Ксения! Ксения!
Их придавили чьи-то мечущиеся тела. Михал вскочил. В воздухе мелькали набитые книгами портфели. Он подлетел к плечистому, неистово размахивающему кулаками Гондеку. Костистое колено угодило Михалу в живот. У него остановилось дыхание и он упал под кафедру. Раздался всеобщий хохот. Весь класс гоготал, ржал, выл в экстазе веселья. Почему? Все смотрели на доску. На ней висел измятый грязный листок. К головке Ксении кто-то чернилами пририсовал неуклюжее туловище. Он видел это лишь одно мгновение. Насмешливая толпа преградила ему путь. Но он увидел все. Тончайшая улыбка из облачков, из лучей, улыбка, предназначенная только для него, была обесчещена, затоптана в грязь. Большие, обвислые груди с черными кляксами сосков, по-жабьи раскоряченные ляжки и то таинственное место девичьего тела, которое он со страхом приказывал своему воображению обходить, было намалевано схематично, непристойно, грубо, упрощенно, как на рисунках, нацарапанных на стенах школьных уборных.
– Ксения! Ксения! – кричали они. – Вот так Ксения!
Он отступил к стене, схватил прислоненную к ней тяжелую палку, служащую обычно указкой. О, как кстати эта твердая гладкость дерева в руке! Он страстно хотел причинять боль.
– Хамы! Хамы! – кричал он, метя в увертывающиеся головы и ударял с такой силой, на какую только был способен, не зная, куда попадет. Рев усилился, теперь уже полный ярости и страха. Портфели падали с грохотом, как тяжелые снаряды. Звякнула разбитая чернильница.
Кто-то сзади стал выкручивать ему руки.
– Михал, успокойся! Михал…
Он пытался вырваться, но Збышек был сильнее. Прямо перед ним Юрек дрался с Пинделой, губы и подбородок которого были в крови.
– Ребята, хватит… – сопел Збышек.
Вдруг ни с того, ни с сего их охватила усталость. Отовсюду слышались успокаивающие голоса. Маленький Людвиг, запыхавшийся и взлохмаченный, подошел к Михалу, которого все еще держал Збышек, и протянул руку со скомканными обрывками бумаги.
Класс опустел. Мальчишки с обычным шумом выбежали в коридор. Михал, не разворачивая листка, разорвал его над корзинкой на мелкие кусочки. Гондек добродушно похлопал его по плечу.
– Поди умойся, парень.
В умывальной Пиндела прикладывал мокрый платок к рассеченной губе.
– Что ты ко мне полез? – сказал он. – Это Майхерский у тебя взял, а не я.
– Свиньи вы, – ответил Михал. Но в нем уже не было злости.
Его провожали Юрек и Збышек. С наслаждением они вспоминали подробности боя.
– Ну, брат, ты ему и дал!
– Майхер замахнулся на тебя атласом, а я его как тресну! Он так и рухнул.
Михал сначала молчал, но вскоре и он заговорил о перипетиях баталии, как будто причиной ее была глупость, о которой не стоило вспоминать. Впервые за долгое время он до самого вечера почти не думал о Ксении.
Но когда Михал остался один на своей мансарде, он почувствовал огромную внутреннюю усталость и понял, что все время отчаянным, хотя и неосознанным усилием избегал мысли о ней. Не хотел вспоминать ее имени, ее лица, потому что знал, что оно явится исковерканным, опошленным. И теперь, в одиночестве, ему не хватило сил. В наушниках бренчали мелодии, полные воспоминаний. Мелодии уроков танца. Но от них уже не веяло приятным, призрачным волнением. От них шел резкий болезненный жар, неприятный и вместе с тем чарующий. Каждый нерв, каждый мускул был напряжен, словно по ним проходил ток жестокой и сладкой муки.
Крепко сомкнув веки, Михал, как в горячке, ворочался в постели, полный презрения и ненависти к себе. Он ничего не мог с этим поделать. В темноте роились грубые, непристойные картины. Он бросался к Ксении, насильно обнажал ее, обращался с ней, как с вещью, как с отданным на растерзание врагом. А его пересохший рот с трудом хватал воздух мира, свежесть, туманность и аромат которого были превращены в горячий пепел.
* * *
Теперь об этом знали все. Явность требовала совершенно иного поведения. Гордо поднятая голова, дерзкий взгляд. «Пусть только попробуют что-нибудь сказать!» Это было мучительно, но не лишено очарования. «Я боролся за нее. И каждую минуту готов за нее бороться». Только в присутствии Ксении Михала охватывала робость – иная, чем раньше, как будто он был в чем-то перед ней виноват. Разговаривая или танцуя с ней, он с большим трудом преодолевал свое смущение, которое душило слова, сковывало движения.
– Ты изменился, Михал, – сказала она ему как-то.
– Нет… Почему?
– Ты теперь такой странный.
Он видел в ее глазах что-то, чего никогда до этого не замечал. Заботу, беспокойство, почти страх. До сих пор он знал только ее улыбку. Возможно ли это? Ему казалось, что в их отношениях заинтересован только он. Что она только так, для развлечения позволяет ему себя обожать, но в любой момент может отвернуться от него без сожаления и с такой же улыбкой будет дарить свое внимание Станко, Юреку, Збышеку – кому угодно.
– Разве… – Ксения опустила голову. Они шли по вечерней улице, он провожал ее с урока музыки и нес под мышкой ее ноты. – …разве ты разлюбил меня?
Они прошли несколько шагов в молчании, пока он смог ответить.
– Я люблю тебя все больше. Люблю так, что даже боюсь этого.
* * *
Наступило время карнавала. Для старших классов устраивались вечера – с настоящим оркестром, с буфетом и катильоном. Кроме того, собирались и на домашних вечеринках с патефоном или с участием бренчащих на пианино теток. Далеким казалось время первых танцевальных уроков, неуклюжего шарканья подошвами по паркету, с глазами, уставленными на носки туфель. Теперь танец стал стихией, которая преображала мир. Ритмы были послушны им, недавним молокососам, слышавшим всегда одну и ту же фразу: «Когда вырастешь». Они были послушны ритмам, в которых угадывали освобождение. А упоение недавно достигнутым совершенством отодвигало в сторону все, что не было связано с танцами.
В большинстве домов взрослые гостеприимно принимали их. В гостиной со скатанным ковром, с мебелью, отодвинутой к стене, они пользовались правом завоевателей, как будто это был бивак победоносной танцевальной армии. Если же какая-нибудь заботливая мамаша хотела «ассистировать», они относились к ней с великодушной, немного преувеличенной вежливостью, иногда приглашая на вальс, шутливо делая вид, что не замечают ее принадлежности к побежденному племени. Отцы, вероятно более гордые и менее склонные к капитуляции, вообще избегали показываться на вечеринках.
Жесты примирения с одной и другой стороны выглядели искусственно, потому что никто не говорил о конфликте. Никто, может быть, о нем и не думал. То, что происходило, носило характер явления природы. Но Михал не задумывался над этим. Просто определенные привязанности и интересы утратили для него значение. Просто знакомый ему мир, мир изведанных чувств, перестал казаться ему интересным. Это приводило в повседневной жизни – той, которая продолжалась между танцевальными встречами, – ко многим тревожным ситуациям.
– Здесь кое-что для тебя… – Отец, сидящий глубоко в кресле, отодвинул газету и, наклонив голову, наблюдал из-за очков за сыном быстрыми карими глазами.
Еще не зная, в чем дело, Михал чувствовал рождающееся в нем сопротивление. Этого выжидания в отцовском взгляде, этой его надежды попасть на этот раз в чувствительное место было вполне достаточно, чтобы вызвать замешательство.
– …Доклад о культуре народа майя с диапозитивами.
– Правда?!
И вот щеки Михала запылали, так фальшиво прозвучал этот возглас. Ведь он интересовался культурой этого народа. Ведь отец хотел сделать ему приятное.
Почему вдруг так поблекли руины Юкатана?
– Ну, что? Может быть, пойдем вместе?
– Очень хорошо. – (Но нет, он не смог притворяться перед самим собой. У него не было никакого желания.) – Когда это будет?
Минутная надежда, когда лицо отца скрылось за газетой.
– В четверг в пять.
– Как жалко! В четверг мы собираемся потанцевать у Терезы.
– О да, это действительно серьезная причина.
Михал выскользнул из комнаты. Он был обижен на отца за свой стыд и за насмешку, таящуюся в его снисходительной улыбке. Моника была проще в своих реакциях. Поэтому между ней и матерью часто вспыхивали бурные сцены. Причины были преимущественно пустяковые, но обе стороны быстро теряли равновесие, в глубине души зная, что речь идет совсем о другом. А начиналось все это с какой-нибудь чепухи – та или иная прическа или воротничок, теплые рейтузы или простые толстые чулки.
– Потому что ты меня не понимаешь, не понимаешь! – кричала Моника.
– Не ори. Мне тоже когда-то было столько, сколько тебе.
– Да, но это было в девятнадцатом веке!
На лице матери появлялись красные пятна.
– Хорошо, делай как хочешь. Я не желаю выслушивать твои дерзости. Когда-нибудь, когда меня уже не будет, ты вспомнишь эти глупые скандалы и тебе будет стыдно.
Моника разражалась рыданиями.
– Ну что ты опять воешь?
– Потому что, мамуся, ты так трагично…
«Трагично» – это было очень широкое понятие. Оно означало: «серо», «слезливо», «скучно», «серьезно» и попросту «старомодно». В нем была выражена вся противоположность того упругого, веселого и полного соблазнов мира, в который вводили их ритмы барабанов, гнусавые завывания саксофона, соблазнительно вздрагивающие ноги. Не успевал улетучиться аромат одной вечеринки, как начинало нарастать напряжение нового ожидания. У Терезы, у Збышека, у Ксении…
Из-за белых дверей Ксениной квартиры уже доносились голоса ранних гостей, сливающиеся с неясным хрипением патефона. Когда им открыли, там гудело, как в улье. Все выбежали их встречать. Ксения была в розовом платье, смеющаяся и грациозная. Михал захлебнулся запахом – тем удивительным запахом, который здесь был настолько сильный, что почти раздражал его. Мать Ксении посмотрела на него внимательно, когда он коснулся губами ее холодной, костлявой руки. Она была высокая и худая, с серым лицом и такими же бесцветными, словно увядшими, волосами. В ней было что-то тревожащее, что-то чего он хотел бы не видеть. Но напрасно он пытался отогнать от себя это впечатление. Слишком велико было сходство с дочерью. Это подобие Ксении, лишенное ее свежести, красок, улыбки (подлинное ли?), на какое-то мгновение испугало его. К счастью, серая фигура сразу же исчезла, но, переступая порог завешанных портьерами дверей, еще раз остановилась и, вытянув вперед руки, сделала два сухих хлопка.
– Проходите, проходите! – нетерпеливо приглашали их, весело подталкивая. – Проходите, есть новые пластинки.
Михал все видел отчетливо. Каждую мелочь. Даже желтую жестяную банку с «Флитом» на низкой полочке с калошами в углу передней. Теперь на эту столько раз виденную таинственную сцену он входил со стороны кулис. Вот эта картина в золоченой раме. Ему была известна только ее правая половина. Скользкие темные скалы, погруженные в бело-зеленую пену. Поодаль мрачный замок над обрывом – да, он мысленно дорисовывал его, и над островерхими башнями, на фоне дико изорванных туч, черные вороны, уносимые ветром, как клочья сожженной бумаги. Но под этим грозным пейзажем стоял огромный уютный диван с кожаными подушками, на котором уже удобно расположились девочки. Квадратные стулья с выпуклыми сиденьями были пододвинуты к дивану, и только один остался на своем обычном месте, в углу, под окном, возле высокого торшера. Это отсюда неожиданно появлялись фигуры. Откуда он знал, что стол, сдвинутый сейчас к книжному шкафу и заставленный подносами с бутербродами, имеет овальную форму? Видимо, его форму вычертили движущиеся по комнате тени. И вот теперь он сам был одним из существ, оказывающих знаки внимания Светловолосой. Он мог бы себя увидеть оттуда, из-под забора, увидеть, как он раскланивается, как ходит, как наклоняется над каким-то скрытым подоконником предметом, который оказался патефоном с деревянными выпуклыми дверцами. Мог бы увидеть себя танцующим с ней – здесь, среди стен и предметов, наэлектризованных тоской стольких вечеров.
В продолжение всего этого первого визита к Ксении он ощущал эту странную раздвоенность. Может быть, он даже немного позировал перед самим собой, придавал своим движениям определенную уверенность и четкость, старательно акцентировал ритм, выдвигая вперед челюсть, подчеркивал свою мужественность. Он знал, что здесь, возле окна, он виден по пояс, а чуть поодаль, возле дивана, показывает «своему» взору только плечи и голову. У него даже появлялось желание сказать ей: «Знаешь, я там стою», – но в конце концов он решил промолчать. Ему казалось (и в этом была дрожь тайного волнения), что таким образом он увеличивает своеобразную коллекцию удивительных мыслей, чувств и признаний, которыми когда-нибудь одарит ее, в решающий момент, в момент, который увенчает их… любовь (да, он мысленно употреблял иногда это слово) высшим счастьем и славой. Как и когда это произойдет, этого он четко себе не представлял. Но он мечтал о чем-то вроде самосожжения. О какой-то полной передаче себя в ее руки, а вместе с тем и о том, чтобы окончательно овладеть ее отчужденностью. Он не мог этого объяснить. Он лишь испытывал блаженство оттого, что преодолевал какое-то табу, – преодолевал стыд, и вошел в такой мир, где будут только они вдвоем, будут принадлежать друг другу и только друг от друга зависеть. Тогда все станет возможным. И этот случай с рисунком и жгучие мысли перед сном – все будет принято и понято и станет прекрасным и общим. Но этот порог, эта граница были вместе с тем и пределом желаний. Дальше Михал не заходил. А поскольку время не играло еще для него большой роли, он утешал себя уверенностью (не лишенной трепета тревоги), что мечта сбудется и ничто этому не помешает, как ничто не может помешать падению спелого яблока с ветки. Поэтому-то ожидаемая Великая Минута была не столько целью его стремлений, сколько украшением каждого его переживания – чем-то, что придавало действительности глубокий, переполненный чувством смысл.
На первой же вечеринке у Ксении установился обычай, ставший потом традицией, что на последний танец «дамы» приглашают «кавалеров». Нескрываемый смысл этой идеи – желание выявить взаимные симпатии – имел в себе предвкушение того открытия, перспектива которого так волновала сердце Михала. Оттого-то, сидя на кожаном диване, который по этому случаю девочки уступили мальчикам, он с трудом сдерживал трепет. Он громко шутил с товарищами, как и они, строил клоунские рожи, но ему казалось, что через минуту он взлетит на воздух или куда-то провалится, бессильно кружась, не в силах больше переносить это напряжение. Между тем «дамы» не торопились. Собравшись вокруг кресла под лампой, они тихо разговаривали и смеялись, поминутно бросая взгляды на покинутых партнеров, чтобы насладиться видом их нарастающего нетерпения.
Умею целовать, как Танголита…
– доносился страстный женский голос из патефона. В мелодии была сладкая истома, от которой сжималось горло. И вот, когда пластинка уже наполовину была проиграна, Ксения внезапно повернулась, по диагонали пересекла комнату и, остановившись перед Михалом, раскрасневшаяся и улыбающаяся, очаровательно сделала книксен, придерживая кончиками пальцев подол юбочки.
Этот девичий поклон навсегда слился с этой мелодией. Он стал неотделим от нее.
Сегодня губы ждут тебя для ласки…
Именно здесь, когда альт певицы становился бархатным, переходил почти в ласковый шепот, волнение достигало потрясающей силы, и Михал заново испытывал состояние восторга.
У каждой вечеринки было свое настроение. Одни были дикие, полные буйного веселья, другие лирические, приглушенные и печальные. Но «Танголита» проходила через все, и для него очарование карнавала заключалось в этой песенке.
Квартира Ксении, так же как и она сама, казалось, имела неисчерпаемые ресурсы таинственной непостижимости. Сколько бы он ни приходил сюда, всякий его визит поражал его такими же недосказанными, такими же поэтическими впечатлениями, как и созерцание театра теней в окнах. И он нисколько не удивлялся тому, что каждая обычная на вид вещь содержала в себе что-то удивительное. Вот хотя бы заурядная лысина Ксениного отца, который преимущественно скрывался где-то в глубине или неуклюже проходил среди гостей через переднюю, надевал пальто и направлялся к выходу именно тогда, когда они приходили. На это нельзя было не обратить внимания и сразу поверить в то, что солидность этого отяжелевшего человека была связана интимными узами с обаянием и легкостью пушинки. Или, например, моль – причина неожиданных хлопков Ксюшиной матери… Она попадала в полосу приглушенного света торшера, напоминая порхающие золотые опилки. Оказывалось, что и моль может быть восхитительной.
Дверь гостиной, в которой танцевали, была открыта в темный кабинет. Массивная мебель этой комнаты пахла застоявшимся табачным дымом. В кабинете можно было спрятаться во время танцев и смотреть из мрака на пропитанную теплым светом сцену, наполненную ритмичными движениями, музыкой, шорохом шагов, блеском многозначительных взглядов и улыбок. Иногда Михал ускользал таким образом, не в силах противиться искушению посмотреть на свое счастье с расстояния, которого было вполне достаточно, чтобы придать его чувствам легкую окраску грусти.
Как-то, желая усилить чувство одиночества, он обошел кресло, за которым обычно прятался, и на цыпочках подкрался к следующей двери. Она была открыта, а за ней зияла тьма, еще более густая, не разжиженная, как в кабинете, отблеском гостиной. С минуту он стоял на пороге, жадно втягивая воздух. Это был ее запах, опять такой же сильный, и словно бы затаивший живое тепло. Понемногу глаза привыкали к темноте. Сквозь задернутое прозрачной занавеской окно проникал бледный свет уличного фонаря. Да, это было четвертое окно, если считать от балкона гостиной. Он осторожно вошел, сдерживая дыхание. Справа, поперек комнаты, кровать. Он почувствовал под рукой упругий шелк покрывала. Он обошел ее, заслонив на мгновение мерцание зеркала на туалетном столике, где-то в глубине, и стал у окна. Осторожно отодвинул занавеску. Вокруг фонаря плавно кружились хлопья снега. Они были мокрые и таяли на черной мостовой, а ветви над забором были похожи на белые извилистые прожилки. Его охватила тихая тоска – неведомо почему. И неизвестно отчего какая-то удивительно приятная. Он ни о чем не думал, но ему казалось, что вот сейчас он настоящий, лишенный всякого позерства, к которому принуждает чужой взгляд. Невольно он засмотрелся на пустую улицу, застывшую в молчании и вместе с тем как будто бы плывущую куда-то из-за беспрерывно падающего снега, он даже перестал ее видеть и удивился, когда на другой стороне улицы из темноты появилась небольшая тень – робкий заблудившийся силуэт мальчика в школьной шинели. Его удивило не само движение, такое странное здесь, а впечатление, что вот сейчас принимает живые черты образ, которого он подсознательно ждал. Ему были очень знакомы эти полные сомнений шаги то в одну, то в другую сторону и эти сгорбленные плечи, выражающие и отчаяние и упорство. «Сейчас он посмотрит», – подумал он, а мальчик остановился возле освещенного круга и поднял лицо к окнам гостиной. Это было лицо Станко, но приятное и беззащитное, совершенно Михалу неизвестное. Все это продолжалось одну минуту. Потом Станко опустил голову и ушел в темноту.
Михал задернул гардину. Взволнованный, отошел он от окна и сел на пол возле кровати, прикоснулся щекой к мягкому покрывалу. В темноте он улыбался с нежностью, которая относилась и к Ксении, и к Станко, и к нему самому, и ко всему наполненному тоской миру. Он почти забыл, где находится, и пришел в себя только тогда, когда послышались шаги по ковру кабинета. Кто-то вошел туда и остановился, словно в ожидании. Сердце Михала учащенно забилось. После долгой паузы голос Ксении тихо позвал его по имени:
– Михал? – И опять через несколько секунд: – Михал, ты здесь?
Он не ответил. Она ушла, и вскоре из гостиной поплыла мелодия «Танголиты».
* * *
Михал ждал эту весну, как никакую другую в своей жизни. Она должна была принести ему необыкновенные дары. Она должна была быть полна смысла. Не только предчувствий, не только неясных мечтаний и грусти. Ее бодрость, терпкая и мягкая, должна была украсить вполне определенные чувства, а также, как ему казалось, вызвать их полный расцвет.
Он напряженно ждал, нетерпеливо и зорко наблюдая за каждым признаком приближения этой благословенной поры. Иногда он заходил в парк. Санная колея превратилась в грязный ручей. Черный от сажи снег покрывал газоны и клумбы ноздреватой жидкой кашицей. Посыпанные дробленым кирпичом аллеи были затоплены водой и напоминали размякших мертвых змей. Кусты ощетинились отталкивающей путаницей колючих веток, а деревья с сухими узловатыми ветвями напоминали обуглившиеся кораллы.
Зима утратила силу. Это была ее смерть. Разложение. Но ничего нового еще не начиналось. Из-под истлевшего покрова торчали только клочья прошлогодней травы и пласты сгнивших листьев. Воздух был пресным, безвкусным. Михал забредал в конец парка, до зарослей на пригорке. Здесь кончался город. Из огромной, раскинувшейся до дальних лесов чащи кое-где торчали копры шахт, окруженные беспорядочно разбросанными красными и серыми постройками. Было видно, как на вершинах копров медленно вращаются спицы колес. Горизонт здесь был широкий, залитый ветреным, меняющим краски небом. Оттуда должны были прийти первые запахи и звуки весны. А сейчас только быстрое шипение автомобильных покрышек по мокрому асфальту таило в себе что-то от радости новой жизни. В городе свирепствовали ангина и грипп. Все разладилось, в последнюю минуту отменялись встречи и вечера. Жили ожиданием. Но опять появлялась сырая мгла, а ведь совсем уж казалось, что вот наконец-то началось, потому что накануне вода бойко бурлила по канавам, а небо под вечер затянула прозрачная улыбающаяся зелень. По временам налетал теплый ветерок. Из школы возвращались в расстегнутых пальто, шарфы перекочевывали в карманы. А потом кашель и холодный озноб.