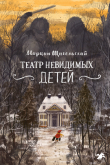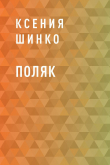Текст книги "Мотылек"
Автор книги: Ян Щепанский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
– Не делай глупости, Лида, – бормочет Михал. И, надвинув на уши лыжную шапку, выбегает.
Роман живет на первом этаже большого дома в стиле модерн начала века, с матерью и бабкой. Они снимают томную комнатку у солидного врача. Вход к ним через большую приемную. Как всегда, здесь много пациентов. Главным образом деревенские женщины в платках, под которыми они тщательно скрывают пустые корзинки. Да, у крестьян теперь есть деньги, они не жалеют их на лечение. В воздухе стоит кислый запах творога и пота. Иллюстрированные журналы – «Фаля» и «Ди Boxe» – лежат нетронутыми на столиках.
Сопровождаемый горничной в белой наколке, Михал энергичным шагом проходит приемную, стучит в дверь. Он чувствует на себе ленивые любопытные взгляды. Стучит еще раз. Ему кажется, что он ждет очень долго. «Если бы что-нибудь случилось, – думает он, – служанка, наверно, предупредила бы. Она знает меня в лицо».
Наконец за дверью слышится шлепанье туфель. Ему открывает бабка Романа, обрюзгшая морщинистая женщина в не застегнутом на груди черном фланелевом платье. Волосы у нее всклокочены, на дряблых щеках отпечатки складок подушки.
– А, это вы, – удивляется она. – Ромека нет дома.
Михал входит в комнату, закрывает за собой дверь.
– Простите, – говорит он, – у меня к нему очень важное дело.
– Что-нибудь случилось? – Маленькие слезящиеся глазки смотрят на него с испугом. – Он вернется только к обеду. Он все время где-то носится, – добавляет старуха плаксиво. – Не сидится ему дома.
Михал рассматривает маленькую комнатку, тесно заставленную тяжелой мебелью, которая стояла когда-то в большой квартире. На шкафах возвышаются чемоданы и коробки. Под окном на плетеных подставках целые джунгли растений. В комнате темно и душно, как в бане.
– Прошу вас, успокойтесь, – говорит он, – ничего не случилось. Речь идет о простой предосторожности. Ромек должен отсюда уйти… По крайней мере на какое-то время, – добавляет он, видя, как старая женщина мягко сползает в кресло.
И все-таки лучше разговаривать с ней, чем с матерью Романа. Та уже засыпала бы его беспокойными вопросами. Старуха бессильно складывает увядшие руки.
– Если бы я знала, где он… я пошла бы, побежала бы… Но он никогда нам ничего не говорит.
Михал нарочито беспечно улыбается.
– В этом нет необходимости. Нет никакой спешки. В самом деле, ничего не произошло. Я, пожалуй, напишу ему несколько слов. Только, – он строго смотрит на сморщенное обрюзгшее лицо, – эту записку передать лично ему. Никто другой не должен ее читать.
Старуха медленно кивает головой, как послушная девочка.
– Можете мне доверять, – говорит она слабеньким, дрожащим голосом. – Для меня тайны Ромека священны.
Михал достает блокнот. Склонившись над нелепым столиком, покрытым металлическим листом с выбитыми на нем турецкими узорами, выпадающим из общего стиля обстановки, он коряво выводит плохо зачиненным карандашом: «Клос попался. Немедленно смывайся из дому. Предупреди тех, чьи адреса он знал (Короткий? Вацек? Оса?). Ящик у Лиды ликвидирован. Скажи ребятам. Старик поручил мне принять дела Клоса. Держись. Павел».
Михал на минуту задумывается, не добавить ли еще чего-нибудь, потом складывает записку до размеров очень маленького квадратика и протягивает ее старухе. Он видит, как прямые синеватые пальцы опускают ее в декольте.
– Спасибо вам, – говорит он.
Бабка Ромека встает с кресла, подходит к нему так близко, что он слышит мышиный запах ее седых волос. Она жалобно мигает и вздыхает:
– Бедные вы мои. Затравленные, как звери. Какая же у вас ужасная жизнь!
Она протягивает к Михалу руки. Он наклоняется и дает ей запечатлеть на своем лбу влажный мягкий поцелуй. Но сразу же выпрямляется, как пружина.
– Не жалейте нас, пожалуйста, – говорит он, дерзко улыбаясь. – Наша жизнь прекрасна.
Проходя через прихожую, Михал посмотрел на часы. Прошло уже полтора часа, как он оставил своих возчиков. Он выбегает на холодную светлую улицу. Трамвай как раз приближается к остановке. Задевая людей, Михал бежит большими прыжками и уже на ходу вскакивает на подножку. В его ушах звучит ироническое эхо его собственных слов: «Наша жизнь прекрасна».
В воротах товарной станции царит неописуемая суматоха. Телеги и грузовики пробираются в обе стороны, кучера ругаются, растаявший на солнце снег фонтаном бьет из-под колес.
Михал побежал на первый путь, но здесь не было ни его товарной платформы, ни его вагона. Он спрашивает проходящего железнодорожника. Тот равнодушно пожимает плечами. Для достоверности Михал еще раз обходит здание таможни. Доверху нагруженный «фаэтон» стоит с другой стороны у стены. Головы лошадей скрыты в мешках, из которых через дырки вылезает сено. Неподалеку на пустых ящиках, сваленных у дома, сидят люди. Они курят. Среди них конвоир с завязанными шарфом ушами. Он сосредоточенно жует пайку черного хлеба. Они заметили Михала и смотрят на него с осуждением. Михал подходит к ним. Он ненавидит их в эту минуту.
– Уже погрузились? – неуверенно спрашивает он.
– А что вы думали? – ворчит Данец.
– Надо было подписать и ехать.
Конвоир задерживает в воздухе руку с хлебом.
– Если будет недостача, кто будет отвечать? – прошамкал он с полным ртом.
– Дайте спецификацию, – просит Михал.
Он с яростью вырывает из рук конвоира розовую бумажку, расправляет ее на ящике и не глядя подписывает.
* * *
Контора фирмы «Экспедитор» гнетет Михала еще больше, чем конюшня. Он всегда чувствует себя здесь виноватым. С широкой лестницы старинного дома через застекленные двери он попадает прямо пред очи шефа. Нет даже прихожей, чтобы перевести дух.
Когда-то это был бальный зал какого-то магната. На высоком потолке еще виднеются почерневшие лепные украшения. Теперь это большое помещение разделили временными перегородками из фанеры. Окна одной из его частей выходят на рынок, и здесь, среди великолепия светлого пространства, на фоне узорчатого турецкого платка, висящего на стене, за огромным дубовым столом, восседает сам шеф. Его окружают многочисленные знаки жизненного успеха и силы. Перед ним на зеленом сукне лежит плетеный хлыст с серебряной рукояткой. Рядом, за маленьким, по-детски хрупким столиком, сидит секретарша, панна Кика – большеглазая, гибкая, как змейка, тщательно накрашенная. Она без устали хлопает выгнутыми ресницами. Кажется, что она едва сдерживает дрожь восторга, которая охватывает ее в ожидании приказов начальника. В глубине из золоченых рам глядят изображения породистых собак и лошадей. Это, разумеется, лошади не из конюшни на Цельной. Самые изысканные англо-арабы с втянутыми боками, сухими, жилистыми ногами и маленькой плоской головой, обращенной к зрителю нервным и гордым движением длинной блестящей шеи.
Между шефом и этими животными существует заметное сходство. Он тоже соединяет в себе рафинированную элегантность и силу. У него длинные стройные конечности, молодое костлявое лицо, тонкие губы, высокий лоб с вдавленными висками и выражение холодной надменности в серых глазах. Тщательно прилизанные волосы так светлы, что издали шеф кажется лысым и, несмотря на молодость и энергичную линию челюсти, он напоминает хорошо сохранившуюся мумию.
Остальной персонал, две пожилые стенотипистки дворянского происхождения и бухгалтер с больным пищеводом, сидят в другой, более темной части зала. Там же, в углу возле перегородки, стоит столик Михала, за которым он проводит каждый день по несколько минут, составляя сводки о расходе фуража и отчет о сделанных рейсах, согласно доставленным ему накладным. Розовые, желтые и белые бумажки – все они враги жизни, все они делают ее невозможной.
Сейчас, входя через стеклянную дверь, он сразу же замечает, что этот день не такой, как все. Повсюду звучат веселые возгласы. Кика стоит за высокой спинкой кресла шефа и трется о плечо работодателя тугой грудью. Шеф, наклонив к ней голову, смеется, обнажив ровные белые зубы. Его волосатые костлявые руки свободно лежат на зеленом сукне, издали блестит массивный перстень с печаткой.
Михал окидывает контору быстрым взглядом. Деревянная стенка делит зал до половины, поэтому, стоя в дверях, можно видеть все помещение. На каждом столе он замечает перевязанные цветной лентой кульки со сладостями и пряничного, покрытого глазурью святого Николая. Только его столик в углу пуст. На нем нет ничего, кроме стопки накладных.
Михал говорит себе, что это его не трогает, что ему все равно, но вместе с тем он знает, что от него смердит конским навозом, и понимает, что вторгся в это веселье, как Пилат в символ веры.
Он неловко кланяется и спешит в свой угол.
– Алло, уважаемый, – останавливает его голос шефа, еще трепещущий от смеха, но уже холодноватый. – Алло, почему так поздно?
Направляясь сюда, он пробовал найти какое-нибудь оправдание, но так и не придумал. Он начинает импровизировать на ходу.
– Каштанка опять легла, – говорит он. – Мы ее утром с трудом подняли и выехали с опозданием. Самое время избавиться от этой клячи, – добавляет он.
Тишина, воцарившаяся после этих слов, звенит у него в ушах. Покрытые рыжими волосами пальцы шефа лениво шевелятся на сукне.
– Да, Каштанка с брачком, – через некоторое время отвечает он сдержанным голосом, – но пока еще тянет.
Михал чувствует, что это только начало. Все смотрят на него. И действительно, шеф встает из-за стола и начинает расхаживать по ковру. Выглядит он прекрасно. На нем грубошерстный пиджак с разрезом сзади, пепельного цвета бриджи и узкие красноватые сапожки из крокодиловой кожи.
– Дело в том, – говорит он, – что вы не следите за перевозками. Час тому назад с вокзала звонил конвоир, сказал, что вы куда-то пропали и нет никого, кто бы мог подписать накладные.
Да, этого Михал не может объяснить. Движимый отчаянной надеждой, он загораживает шефу дорогу и пробует заглянуть ему в глаза, чтобы тот понял.
– Поверьте, у меня было дело. Такое… Ну, бывают в наше время такие вещи…
Шеф садится в свое высокое кресло, иронически смотрит на него.
– В конце концов, у кого вы работаете? У меня или где-то в другом месте?
На это Михал не находит ответа. Он чувствует, что становится маленьким-маленьким, как червь, выползший из конского навоза.
– И еще один вопрос, – добавляет неумолимо шеф, барабаня тупыми ногтями по столу. – Я сегодня провел ревизию фуража в конюшне. Не хватает четырех мешков овса.
Михал опускает голову, чувствуя, как щеки его заливает краска. Не глядя, он угадывает улыбку панны Кики, ту сладострастную улыбку, которой женщины приветствуют падение боксера на ринге. Должен ли он сказать, что передавал ключи Данецу? Нет, он не может этого сделать.
– Я всегда выдавал корм под расписку, – бормочет Михал. – Если вы недовольны мной… – уставив глаза в пол, он ждет приговора.
Стенотипистки за перегородкой свистящим шепотом обмениваются какими-то своими замечаниями, бухгалтер щелкает на счетах.
– Я надеюсь, что вы сделаете из этого выводы, – объявляет наконец шеф сухим любезным голосом. – Я в любую минуту могу найти другого заведующего конюшней, но мне рекомендовали вас люди, к которым я испытываю уважение.
Не поднимая глаз, Михал подходит к своему столику. Берет в руки накладные. «Есть вещи существенные и несущественные», – думает он. Но несмотря на это, руки у него дрожат, он не может прочесть написанных химическим карандашом заявок.
– Прикажите запрячь гнедого в одноконную бричку, – доносится до него голос шефа, – и пошлите Кулика к Гнотке. Там надо перевезти диван. А большой «фаэтон» отправьте к Бойко за гвоздями.
Михал знал, что Гнотке является управляющим дома, в котором живет шеф, и что этот рейс будет бесплатным. Он знал также, что гвозди с фабрики Бойко будут отправлены по железной дороге не раньше, чем в понедельник. Он обещал матери прийти сегодня обедать, но что он может сделать? И на вечернюю раздачу кормов он тоже должен остаться. С передачей ключа покончено.
«Есть вещи существенные и несущественные, – повторил он про себя с отчаянным упорством. – Есть вещи существенные и несущественные».
Но в данную минуту он не видит между ними разницы. Он не может поверить философам.
Позвякивая стеклами, дребезжа венками из жести, покрытой серебрянкой, во двор въезжает катафалк. Черные кони заворачивают в галопе, сталкиваясь боками. Внезапно осаженные, они фыркают, беспокойно бьют копытами. От них пышет влажным жаром. Темно. Над островерхой башенкой на крыше конюшни горит звезда. Катафальщики в перекошенных треуголках – гротесковые тени наполеоновских маршалов или полишинелей – качаются на козлах.
Они начинают блеять нестройными пьяными голосами:
Был я как-то, уха-уха!
В Радомышле, уха-ха!
Там упала, уха-уха!
Баба с дышла, уха-ха!
Служащие «Экспедитора» окружают их дружелюбным участием. Вишневский, ни о чем не спрашивая, распрягает лошадей.
– Видно, неплохие похороны были, – говорит Данец.
– Как отсюда до Прошовиц! – отвечает с воодушевлением один из полишинелей, валится вниз, попадает прямо в объятия Пацулы и достает что-то из кармана.
– Ребята, есть четвертинка, – вопит он торжествующе. Михал незаметно выскальзывает за ворота.
В трамвае от голода и усталости у него подкашиваются ноги. Он опускается на освободившееся место, делая вид, что не замечает стоящую в проходе старую женщину.
«Пойду к Терезе», – думает он. До комендантского часа есть еще немного времени. Он пойдет к Терезе. Он имеет право на какой-нибудь отдых. И сразу мир становится терпимым, почти приятным. Он представляет, как будет рассказывать Терезе о Каштанке, о том, как ее поднимали рабочие, о благородном негодовании шефа, о возвращении катафальщиков. Он слышит свой голос, полный сарказма, и видит, как дрожит кончик носа у Терезы от сдерживаемого смеха, как ее глаза, темные, с обведенными фиолетовой каемкой зрачками, то поблескивают веселым удивлением, то снова щурятся в ожидании главного. И вскоре вся горечь дня превратится в нелепую шутку, в кошмарный юмор висельника. Но вместе с тем он будет знать, что она понимает и чувствует подоплеку его веселья, и, смеясь до изнеможения – как он только может смеяться с нею, – будет ощущать тепло ее духовной близости.
Обрадованный перспективой встречи, он звонит в дверь, условный сигнал: два длинных, два коротких, – окончательно просветлев, когда вместо матери ему открывает Мачек, сын хозяйки. Мачек – щуплый юноша с густыми светлыми волосами и забавным носом, усеянным коричневыми веснушками. Он посещает занятия подпольного политехнического института, дома клеит из картона модели самолетов, у него вид человека, довольного жизнью.
– Привет, Михал, – говорит он, – как дела?
– Как сажа бела, – отвечает Михал, но без горечи, и в эту минуту ему кажется, что действительно все в порядке.
В комнате матери тоже нет, но он уже слышит, как она идет из глубины квартиры, – наверно, заболталась с Ядвигой. Она ускоряет шаги, почти бежит. В звуке этих шагов заключена история долгого, полного муки ожидания. И вот, не успев еще взглянуть в ее прозрачное лицо, в эти глубоко запавшие неспокойные глаза, Михал начинает бунтовать.
– Я не мог прийти к обеду, – говорит он раздраженным, обороняющимся тоном, застывая в приветственном объятии. – Я действительно хотел, но не мог.
– Почему ты сердишься? – спрашивает мать.
Чуть отступив, она смотрит на него с нежностью и печалью.
Михал зол на себя, что не смог сдержать этого взрыва, но сложный механизм семейной любви уже действует.
– Ты не представляешь себе, – говорит он с обидой, – как мучит меня сознание, что ты беспокоишься безо всякой причины.
Она продолжает смотреть на него, и страдальческая снисходительность этого взгляда погружает его в бездну стыда. Наконец мать с трудом улыбается.
– Есть клецки и немного картошки. Сейчас я тебе подогрею.
Когда они уже сидят друг против друга, по обе стороны стола, Михал думает над тем, как бы это все загладить. Он часто мечтает о том, чтобы был какой-нибудь способ, дающий возможность заглянуть непосредственно человеку в сердце, без необходимости пробиваться сквозь несущественные мелочи, сквозь капризную пену нервного возбуждения, высокомерия, сквозь бесчисленные рефлексы самообороны.
Мать кажется ему сегодня более усталой и сгорбленной, чем обычно. Она тупо глядит на слепое от черной шторы окно, веки у нее покраснели. Он нежно кладет руку на ее узкую, глянцевую, как пергамент, ладонь. Тогда она встает, подходит к ночному столику у постели, молча возвращается и кладет перед Михалом зеленоватый твердый конверт, покрытый уродливыми печатями и штемпелями. Это письмо от Моники. Письмо из лагеря.
Несмотря на черных орлов, напрягших жадные когти, несмотря на толстые цифры, копошащиеся на бумаге, словно черви, письмо от сестры было все таким же по-детскому отважным.
«Liebe Mutti! Ich bin gesund und fühle mich gut» [38]38
Дорогая мамочка! Я здорова и чувствую себя хорошо (нем.).
[Закрыть]. Несколько следующих строчек грубо замазано фиолетовой тушью. Вид этого причиняет боль, как будто рот зажала чья-то гнусная рука. Из-под этого кляпа вырывается уже только несколько слов в нижнем углу: «Ich begrösse Dich herzlich, Deine Monika» [39]39
Сердечный тебе привет, твоя Моника (нем.).
[Закрыть].
Михал не говорит ни слова, мать тоже молчит. Никакие утешения не имеют смысла. Это и так самое лучшее, чего они могут ждать. Единственное, что им остается, – это сдерживать свое воображение. Но в итоге этого большого напряжения, испытываемого сейчас Михалом, появляется крупица раскаяния. Он не пойдет к Терезе. Не оставит мать одну.
Михал украдкой поворачивает голову к стене, у которой стоит кровать. Там, рядом с фотографией покойного отца, висит фотография Моники. Она смотрит веселыми, умными глазами, безгранично веря в свою молодость, счастливая своим дерзким гимназическим обаянием. Не впервые соседство этих снимков вызывает в Михале дрожь мистического страха.
Он наклоняется к матери и говорит:
– Не беспокойся. Все будет хорошо. Увидишь.
Старая женщина вздрагивает, как будто вдруг очнувшись ото сна. Ее лицо неестественно спокойно.
– Ах, я совсем забыла! Сюда заходил твой приятель. Такой молодой, симпатичный…
– Рыжий?
– Да, рыжий. Он просил передать тебе вот это.
Она лезет за вырез платья. «Если бы я был гестаповцем, – думает Михал, – я бы знал, где искать эти записки». Он разворачивает сложенный маленьким квадратиком листок. «Я живу у Гольчей. Приходи сразу, как только сможешь. Рыжий».
* * *
Стоит мороз. Спокойный, прозрачный мороз без ветра. В высоком небе ярко горят звезды, похожие на осколки стекла. С грохотом опускаются жалюзи закрываемых магазинов. На улицах еще много людей. Они пробираются мелкими, скованными холодом шажками в ущельях между стенами домов и белеющими в мутном свете снежными сугробами. Мостовые почти пусты. Изредка проедет автомашина, светя узкими щелочками затемненных фар. Михал любит мороз, суровое веселье мороза. Но сейчас он очень сердит. Ему хочется отругать Романа. Поселиться у Гольчей! Если бы он хоть немного подумал, то сообразил бы, что тот так и сделает. У Гольчей! Збышек Гольч, щуплый, субтильный, как девушка, умник, с которым он познакомился на подпольных семинарах по философии – еще летом, когда не работал в «Экспедиторе» и у него было время заниматься, – уже три месяца как сидит в тюрьме. Его упрятали за торговлю сукном. В этом как будто нет ничего особенно опасного, но Роман не должен отдавать себя в руки глупой капризной Ирены. Михал обязан сказать ему об этом во имя их будущей безопасности, но вместе с тем он знает, что Рыжий высмеет его и не даст себя уговорить. Михал чувствует бессилие своего гнева, и это его злит.
Из-за угла выкатывается дребезжащая пролетка. На ее заднем сиденье, развалившись, сидит огромный святой Николай с ватной бородой, в высокой красной митре, с подпрыгивающим посохом в руках. Перед ним на узкой скамеечке трясутся две детские фигурки – черный чертик и белый ангелок.
Михал лезет в карман, нащупывает в нем плитку краденого шоколада. Он забыл отдать ее матери. И вдруг весь прошедший день кажется ему одной мучительной цепью нелепостей.
Роман – в спортивном свитере и серых гольфах. Он шлепает домашними туфлями, попыхивает трубочкой, у него вид счастливого домоседа.
– Будь как дома, – говорит он Михалу, и его маленькие зеленоватые глазки светятся гордостью хозяина.
Почти пустая, похожая на ящик комната в новом доме. Низкая, покрытая домотканым шерстяным покрывалом тахта, низкая полка для книг, два кресла, напоминающие садовые стулья, и круглый стол светлого дерева. Стенные шкафы, никаких картин, никаких цветов. Из-за покрытых бесцветным лаком дверей доносится звон моющейся посуды.
– Предупредил ребят? – спрашивает Михал.
– Конечно.
Садятся. Роман с любовью трет ручки кресла мощными руками, его широкое, покрытое юношеским пушком лицо светится счастьем.
– Ирка, Павел пришел, – кричит он в закрытую дверь.
– Сейчас закончу, – отвечает пронзительный девичий голос.
Михал знает, что не сможет говорить свободно.
– Новый «ящик», – шепчет он, – устроим временно в чайной «Розочка». Предыдущий провал ее не затронул. Я думаю, что можно снова активизироваться.
Роман кивком головы выражает согласие.
– Теперь надо бы подумать, откуда это идет…
– Наверняка из «Семерки», – говорит Роман, – из этой шпиковской забегаловки. Клос ходил туда последнее время. Хвалился, что у него стукачи раскалываются.
– А теперь он сам расколется.
Роман кладет трубку на стол.
– Думаю, что не расколется. Он большой ловкач.
Михалу кажется, что Рыжего мало волнует создавшееся положение. Видно, что он наслаждается внезапно обретенной свободой.
Кухонная дверь открывается, и входит жена Гольча. На ней вишневый шелковый халатик, голубые туфли без пяток с пушистой белой оторочкой спереди, на босу ногу. Тяжелые каштановые волосы спадают на ее низкий лоб, посредине маленького личика вызывающе горят красным пятном губы.
– Привет, Павлик, – подает она Михалу худенькую холодную руку.
Роман не спускает с нее глаз, кажется, что он светится изнутри. Достаточно на него взглянуть, чтобы понять бесполезность всяких нравоучений. И Михал отказывается от нравоучений. Он ощущает почти болезненную зависть. Ему хочется перестать быть собою – ему хочется быть таким же беглецом в страну молодости.
– Знаешь что? – говорит Рыжий. – Я думаю, надо тяпнуть. Ну-ка, Ирка, принеси, что у тебя там есть.
– Я должен идти, – защищается Михал.
– Не темни, старик. У нас есть время.
Ирка приносит из кухни бутылку водки, две рюмки, тарелку с нарезанным соленым огурцом. Роман наливает.
– Иди сюда ко мне, Ирусь. – Он сажает ее на колени, обнимает. – Ну, поехали!
Рыжий и Ирка попеременно пьют из одной рюмки. Ее губы оставляют на стекле красный след. Роман старательно прикладывает к нему губы. Они все теснее прижимаются друг к другу. Правая рука Романа исчезает в вырезе вишневого халатика.
Михал сидит взбешенный, одинокий, с рюмкой в руках. Он догадывается, что на Ирке под этим халатиком ничего нет. Каждым своим нервом он угадывает шелковистую, горячую гладкость ее кожи.
А они слились устами, закрыли глаза. Их лица побледнели и застыли. Кажется, что они умирают пронзительной, сладкой смертью. Голубая туфелька падает на пол с сухим, как будто бы забытым стуком, пола халата распахивается, открывая смуглую детскую ногу.
Вдруг Ирена вскакивает с колен Рыжего, задевая стол.
– Что о нас подумает Павел? – восклицает она, ища ногой туфель и поправляя растрепанные волосы.
В ответ Роман разражается радостным, грохочущим смехом. Продолжая смеяться, он подливает водки.
– Принеси-ка лучше вилку, – говорит он. – Нечем поддеть огурец.
– И еще один вопрос, – говорит Михал сдавленным голосом, когда Ирена исчезает за дверями. – Мы должны изменить клички.
– У меня уже есть, – отвечает громко Рыжий. – С этого дня я называюсь Ирена.
И Рыжий, вызывающе глядя в лицо Михала, поднимает рюмку.
Когда он возвращается, город почти пуст. Приближается комендантский час. Большой белый рынок залили голубые воды луны. Чернеет матовая мостовая. От остановки на углу отходит одинокий, наполненный голубым светом трамвай. Постепенно выплывает бетонный островок между путями. Михал останавливается как зачарованный. На краю этого островка вделана в мостовую красная сигнальная лампочка. И над ней, как над угольком угасающего костра, стоит маленький ангел в золотой короне. Белая рубашка складками ниспадает до самой земли, крылья криво свисают с худых опущенных плеч. Ребенок молитвенно сложил руки над мерцающим внизу светом. Может быть, он пытается согреть их? Розовым светом светятся маленькие пальчики.
Сдерживая волнение, Михал идет быстрее. Из-за угла долетает каменное эхо шагов патруля.
Он застает мать уже в постели. Она сидит выпрямившись, с лицом, обращенным к двери.
– Мне стало как-то нехорошо, – объясняет она. – Я устроила себе отдых. Решила почитать в кровати.
– Ну, конечно. Правильно.
– Я все тебе приготовила. Сыр и хлеб. В кастрюльке немного брюквы, разогрей ее на плитке.
– Хорошо. Обязательно.
Михал садится за стол, жует кусок сухого белого сыра. Он слышит шелест переворачиваемой страницы, потом легкий протяжный вздох и через минуту ритмичное дыхание. Он на цыпочках подходит к кровати. Рука с книгой лежит на одеяле, мать спит с раскрытым ртом. Михал осторожно снимает с нее очки, кончиками пальцев робко поправляет упавшие на лоб волосы.
Он очень устал. Он с тоской поглядывает на свою уже постланную тахту в глубине комнаты. Ему жаль этих часов одиночества и тишины. Он гасит верхний свет, зажигает маленькую лампочку на столе и достает из шкафа толстый том «Истории искусств» Гаммана. Он читает о трудностях, которые испытывал Харменс Рембрандт ван Рейн, работая над своим «Ночным дозором». Этот отчаянный спор со старшинами цехов, с тупыми, почтенными мещанами, кажется ему тривиальным и бессмысленным. Он зевает, каждый абзац перечитывает по нескольку раз, потому что имена и факты вылетают из головы, не оставляя в памяти никакого следа. Наконец он понимает, что ничего из сегодняшних занятий не получится. Но все-таки ему не хочется прекращать их. Тогда он достает из ящика блокнот и черную клеенчатую тетрадь. С тревогой думает он о том, что сейчас ему будет стоить меньших трудов. Ему хочется описать свою встречу с ангелом на пустом рынке. Он пробует представить себе белую фигурку в короне, такой, как видел ее, покорно склонившейся над маленьким источником тепла. И тут он снова вспоминает о шоколаде. Оп тихо выходит в коридор, на ощупь находит карман висящего на стоячей вешалке кожуха. Под дверью кабинета отца Мачека виднеется тоненькая полоска света. Михал возвращается в комнату, кладет плитку шоколада на ночной столик возле матери. Он понимает, что этим он окончательно завершил сегодняшний день.
«Не буду писать, – решает он. – Поболтаю немного с Мачеком и лягу спать». Он берет со стола сигареты и снова выходит в коридор. Полоска под дверями гаснет. В этом кабинете Мачек спит и занимается. Его отец редко бывает дома. У него какие-то таинственные дела в городе.
Михал на цыпочках подходит к двери.
– Мачек, ты спишь? – спрашивает он вполголоса.
Через некоторое время до него доносятся заглушенные расстоянием слова:
– Входи быстрее и не зажигай свет.
Затемнение отодвинуто, длинный треугольник лунного света разрезает комнату, извлекает влажные блики из ручек кожаных кресел. Мачек стоит у окна.
– Посмотри, – говорит он.
В первый момент Михал видит только мозаику густых теней под деревьями.
– Там, на той стороне, – говорит Мачек.
На той стороне, напротив, из приоткрытых дверей парадного сочится желтоватый туманный свет. Отблеск его падает на гладкий верх черного автомобиля. Если пристальнее всмотреться, то можно увидеть перед радиатором полоску голубого света и дрожащее красное облачко под задними колесами. Машина ждет, можно себе представить ее приглушенное пульсирование.
– Видишь их?
Теперь Михал различает в тени, возле парадного, две неподвижные фигуры.
Вдруг желтый свет темнеет от движения каких-то теней. Идут. Первый – громадный верзила в тирольской шляпе и клеенчатом плаще. За ним изможденный мужчина в одном пиджаке, с руками, сложенными на непокрытой голове. Последними идут двое в больших черных шляпах с высокими тульями. Свет в парадном гаснет, все заливает темнота. Отчетливо слышен металлический стук дверцы, и машина медленно трогается с места, приседая и слегка похрапывая.
Мачек и Михал продолжают смотреть на замершую улицу.
– Черт, – говорит Мачек, – опять кто-то попался. Михал не отвечает.
– Черт. Сидишь тут, как мышь в ящике, – шепчет Мачек.
Они не могут оторваться от окна. Наконец Михал отходит, присаживается на подлокотник кресла.
– У меня к тебе просьба, Мачек, – неуверенно начинает он.
– Я слушаю.
– Знаешь, если у нас в доме будет что-то не того, ну, ты понимаешь, нужно будет установить какой-нибудь сигнал.
– А что? Уже чем-то попахивает?
– Да нет, ничего серьезного. Но некоторое время я должен быть начеку. Видишь ли, – добавляет он, – наше окно выходит во двор, а кроме того, я не хочу пугать мать.
Мачек на минуту задумывается.
– Хорошо, – говорит он. – В случае чего здесь будет стоять горшок с примулой.
– Спасибо тебе.
Мачек подходит и сильно, от всей души пожимает Михалу руку.
* * *
Приближалась весна – как всегда, полная надежды. Когда на рассвете он поднимал затемнение, небо вплывало в комнату жемчужной зарею. За окном виднелась деревянная галерейка, окаймлявшая двор с трех сторон. Лоснящиеся перила и покрытые облупившейся коричневой краской балясины были шершавыми от росы. Кирпичная стена напротив отделяла двор от монастырских садов. Он давно приглядел их как путь к отступлению. Лишь бы добраться до винтовой лестницы в конце галерейки. С нее одним прыжком можно перепрыгнуть на стену. Сейчас ветки деревьев набухали пурпуром почек, и по ним уже прыгали лоснящиеся веселые дрозды.
Он открывал окно, захлебывался чистым холодом, терпкостью и сладостью земли. Горький осадок городского дыма был лишь маленькой капелькой на дне этого утреннего бокала.
В воскресенье он ходил на прогулку с Терезой. В колеях загородных дорог отсвечивалось бледное небо, река была полноводная, темно-коричневая, шумела глубоким, торопливым голосом. Они не могли нигде сесть. Земля была пропитана водой, как губка. Они целовались, опершись о ствол прибрежной вербы. Возвращаясь домой, Михал смотрел на окно Мачека, не испытывая никаких предчувствий. Он не ожидал увидеть на нем горшок с примулой. У него было впечатление, что дело Клоса заглохло.
В течение зимы попался только связной Зыга. Его сцапали в поезде на маленькой станции недалеко от города – может быть, это была чистая случайность. Он пытался убежать и, к счастью, получил автоматную очередь в легкие. Умер в полицейской машине.