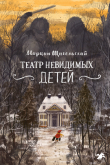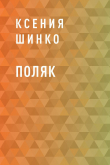Текст книги "Мотылек"
Автор книги: Ян Щепанский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
– Наша шестая дивизия – бормотал он. – Мы из шестой дивизии…
Взгляд девушки блуждал где-то, рассеянный, ее тело, в первый момент такое податливое, стало холодным и недоверчивым. Он знал, что она с нетерпением ждет окончания танца.
– Извините, пожалуйста, – сказал он. – Разучился. И еще эти проклятые сапоги…
Кончиками пальцев она слегка сжала его руку и засмеялась.
– Вы еще очень молоды, – сказала она, не то с сочувствием, не то с осуждением.
Они остановились у двери в маленькую комнату.
– Выпьем? – предложил он.
Она кивнула головой, но в это время перед ними вырос кудрявый студент-медик.
– Разрешите? – И не ожидая ответа, поклонился Барбаре.
Они уже ускользали в радостном бегстве. Студент небрежно раскачивал бедрами, крепко прижимая к себе партнершу; он беспрерывно о чем-то говорил, время от времени поблескивая зубами в узкой, жестокой улыбке. Он был красивым хищником, уносящим добычу.
Михал вдруг увидел себя их глазами. Он выпил в одиночестве две рюмки горькой, как хинин, наливки. Зачем он плел эту чепуху? Война вовсе не была увлекательным приключением. Она была сплошной мукой и горечью. В нем не осталось ни следа воинственного пыла. Единственная картина, которая все время к нему возвращалась, – это бесконечный марш по песчаной равнине в неподвижной жаре, в удушливой туче пыли, по краю вздрагивающего вала черного дыма над горящими лесами.
Михал снова потянулся за графином, но задержал руку на его холодном горлышке.
– Нет, – сказал он громко.
Потом повернулся и неожиданно решительным шагом вышел в другую комнату. Все плыло у него перед глазами: танцующие пары, фигуры, примостившиеся на тахте, даже мебель.
Печальная женщина-врач по-прежнему сидела в своем кресле, но уже в окружении нескольких человек. Ее лицо успокоилось и оживилось, на нем блуждала едва уловимая тень улыбки. Она о чем-то говорила, но Михал не слышал ее голоса.
Он подошел к ней все с той же решительностью и низко поклонился.
Она удивленно посмотрела на него и отрицательно покачала головой.
Все вокруг замолчали.
– Не отказывайте мне, – сказал он. – Я очень вас прошу.
– Но я ведь не танцую, – сказала она таким тоном, словно напоминала ему о раз навсегда установленной и очевидной истине.
Он не хотел уступать.
– Сделайте, пожалуйста, исключение для солдата.
Кто-то дернул его за локоть. Это была Кася. Она подняла вверх левую руку, готовую лечь на его плечо.
– Потанцуй со мной.
Когда они оказались в центре комнаты, она приблизила губы к его уху.
– Ты что, не видишь, что она в трауре. У нее погиб муж в сентябре.
Михал пришел в себя.
– Боже, какой я идиот!
Она попробовала его успокоить.
– Ничего не случилось. В конце концов, почему ты должен об этом знать?
Но вдруг Михал расклеился.
– Скажи мне, Кася, почему так получается? Что ни скажу, что ни сделаю, каждый раз попадаю пальцем в небо. Я весь – сплошные солдатские сапоги. Я так хочу, чтобы все было иначе.
Она нежно погладила его по плечу.
– Не преувеличивай. Ты хороший, только слишком много выпил.
– Нет, Кася. Я трезвый. Но у меня ничего не получается. Не могу. Ты знаешь, мне ужасно нравится та черненькая сестра, та…
– Бася? Бася – высший класс.
– Чудесная! – воскликнул он горячо. – Ну и что? Нагнал на нее тоску во время танца, наступил ей на ногу, и она от меня убежала.
– А ты сказал ей, что она тебе нравится?
Он отрицательно покачал головой.
Кася прыснула от смеха. Ее веселость была лишена иронии и была красноречивым подтверждением того, что мир не такой уж сложный и враждебный, как кажется.
– Ты думаешь, я могу еще попытаться? – спросил он с надеждой.
– А ты еще и не пытался.
Приободренный, Михал склонен был теперь более снисходительно взглянуть на себя. Но он не сразу решился снова пригласить Барбару танцевать. Он давал опередить себя и в глубине души чувствовал облегчение, когда чье-нибудь более быстрое решение перечеркивало его колебания. Он еще несколько раз ходил в маленькую комнату выпить рюмочку в случайной компании. Ему казалось, что водка перестала на него действовать.
Только когда он заметил, что шум затихает и многие уже ушли, его охватило нервное беспокойство.
Он нашел Барбару у окна, она разговаривала с Эвой и доктором Новаком. В руках у нее был стакан чаю, который она время от времени медленно подносила к губам и делала маленький глоток. Она явно отдыхала, уже насладившись весельем, успокоившись, охотно покоряясь приливу приближающейся усталости.
Когда он поклонился, она украдкой посмотрела на часы. Ну да. Все начиналось совершенно иначе, чем он себе представлял. Она приняла его приглашение только потому, что прочла в его глазах обиду, страх перед унижением. Он понял это. Он чувствовал это по тому, как старательно ласковы были ее улыбки, по той рассеянности, с которой она отдалась ритму. Но Михал решил бороться. С трудом изобразил он на лице бездумное веселье, пробовал свободно покачивать бедрами. Но слова, которые он должен был произнести, упорно застревали в горле. За спиной у них открывали и закрывали двери, из углов веяло тягостным ожиданием, точно в воздухе висел какой-то огромный зевок.
Михал в отчаянье проглотил слюну.
– Панна Барбара, – сказал он, – вы восхитительны.
Он сразу понял, что не вышло. Услышал это по звуку своего голоса. Он должен был сказать это легко, задиристо, с жестом завоевателя, а у него получилось как просьба. В благодарность за комплимент она слегка сжала его пальцы, но в этом не было никакого тепла.
– Знаете ли вы, что это для меня значит? – впадал он все больше в тон лирической исповеди, хотя прекрасно понимал, что это худший из возможных путей. – Знаете ли вы?
Опять хлопнула дверь. Вокруг суетились, шептались, может быть, выносили или вносили какую-то мебель. Михал не обращал на это внимания.
– Именно сейчас… – продолжал он, – встретить вдруг вас, такое чудо очарования. Теперь, когда я прощаюсь со страной. (Господи! Что я мелю? Это невозможно!) Когда я через несколько дней перейду границу…
Внезапно она отстранила его от себя. Михал заметил, что Барбара не слушает. Расширенными глазами она смотрела куда-то поверх его плеча.
– Боже мой! – воскликнула она.
Михал обернулся. Четыре склоненные фигуры хлопотали над чем-то. Лысина доктора Новака была красной, черные вьющиеся волосы студента-медика ниспадали на блестевший от пота лоб. Из другой комнаты бежала Кася с полотенцем в руках.
– Доктор Богачевская, – шепнула Бася, прикладывая беспомощным движением руку ко рту.
– Кто? Что случилось?
Она убежала, не обратив внимания на его вопрос.
Теперь Михал увидел между сгорбленными спинами мужчин бессильно свисающую женскую голову, необычайно бледные щеки, разбросанные волосы удивительного пепельного цвета. Печальную женщину внесли в спальню Новака, кто-то поддерживал пошатнувшуюся белую ширму. Сквозь приглушенный шепот Михал услышал не то стон, не то вздох – звук неосознанной боли, который иногда вырывается из глубины горячечного сна. В большой комнате трепетал пьяный женский смех. Какая-то пара все еще танцевала под звуки старинного фокстрота «Если тетку встретишь ты».
Михал стоял возле стола, заставленного остатками еды, грязными рюмками и стаканами. Он вошел сюда, следуя за Барбарой, и сейчас ждал, когда она выйдет из-за ширмы. Их танец был прерван, но он не терял надежды, что они продолжат его, когда уложат эту бедную Богачевскую на кровать. Наверно, выпила слишком много, а может быть, споткнулась, вывихнула ногу. Михал поискал взглядом Монику, но ее нигде не было. Он смутно помнил, что она уже давно ушла, что она говорила о каком-то дежурстве.
Там, за экраном из белого ситца, царила тишина – такая зловещая, точно через минуту должно было что-то произойти. Внезапно в уши Михала, наполненные глупой мелодией, в его смутные разбредающиеся мысли вонзился, как раскаленное острие, короткий рыдающий вопль. Михал сжал пальцами край стола. Что ей сделали? И одновременно послышался спокойный, рассудительный голос Новака.
– Да. Позвоночник.
А вслед за ним голос Эвы, полный сдерживаемого негодования:
– Сколько раз говорили, что надо огородить лестницу!
Кто-то тронул Михала за плечо.
– Что случилось?
В спальню вошли несколько человек, отодвигая с дороги стулья.
Из-за ширмы показался Новак, без пиджака, с расстегнутым воротом, со сдвинутым набок красным галстуком.
– Попрошу всех выйти, – сказал он. – Выйдите отсюда. Ничего особенного. Обычный несчастный случай.
В противоположном углу, над раковиной, зашумела вода. Барбара мыла руки. Склоненное сосредоточенное лицо, насупленные брови. Он понял, что не имеет права ждать ее взгляда.
Михал вышел вместе с другими. За ними закрыли дверь. Все в нерешительности стояли посреди темной комнаты, в чаду холодного табачного дыма. С угасающей пластинки блеял тягучий, но не лишенный элементов гаерского юмора голос певца: «Если тетку встретишь ты, поклонись ты ей…»
* * *
Кровать, на которую ему указали, стояла возле дверей, у короткой стены длинного зала.
– Только что освободилась, – сказала Эва.
Под потолком горели два молочно-белых шара. В их белом свете тяжелое дыхание больных, вздохи и бессвязное бормотание казались притворными.
Некоторое время Михал сидел на краю матраса, не раздеваясь, опершись головой на руки, и ждал, когда кто-нибудь погасит свет. Но дежурная сестра в противоположном конце зала разложила на маленьком столике какие-то бумаги и не спеша линовала их, педантично прикладывая угольник. Она подняла голову только раз, когда Эва и студент-медик привели его сюда. С этого момента он видел лишь склоненную белую шапочку и руки, занятые работой, которая в три часа утра, среди не прикрытого мраком сна, казалась бессмысленной.
В конце концов Михал понял, что такова здесь ночь и он должен с этим смириться, но тяжелый запах лекарств, гноя и пота совершенно обессилил его, и так уже ослабленного алкоголем. Он клевал носом, чувствуя, что заснет сидя.
Больной на соседней кровати время от времени стонал, то громче, то тише, с монотонной регулярностью. Голова его была прикрыта одеялом, наверно, он задыхался во сне.
«Ты страдаешь от боли, – думал Михал. – А я только пьян. Со мной ничего не случилось. Но это еще не конец, братец. Черт его знает! Может быть, как раз ты останешься в живых, а не я…» Мысли его текли лениво – алкогольная риторика, имевшая подобие глубокой задумчивости, без всякой эмоциональной окраски. Эдакое покачивание на волне.
Он с трудом нагнулся и непослушными пальцами принялся расшнуровывать ботинки.
Человек под одеялом на минуту замолчал, видимо собираясь с силами, потому что вдруг застонал еще громче, с тяжелым, скорбным придыханием.
– Вот курва! – сказал он.
Михал выпустил из рук шнурки, не зная, открыть ли ему лицо больного.
– Вот курва! – стонал раненый и несколько раз мотнул головой под одеялом. – О, господи!
Эти слова были только жалобой. В них не было ничего, кроме беспомощности и боли!
– Может быть, вам что-нибудь надо? – спросил Михал, наклоняя голову над серым мешком, перекатывающимся по подушке то в одну, то в другую сторону.
– О, господи! – вздохнул раненый.
Наконец он успокоился. Казалось, что он к чему-то прислушивается. От его постели исходил тошнотворный, удушливый запах. Пряди липких темных волос разметались на влажной подушке.
«Может быть, ему стало легче? – думал Михал с трусливой надеждой. – Может быть, он заснул».
Но край одеяла коробился и дрожал. Из-под него высунулись серые костлявые пальцы. Они, дрожа, по-паучьи пошарили по краю одеяла и потянули его вниз. Теперь Михал оказался лицом к лицу с раненым. Желтоватые виски, вылепленные с ужасной точностью, твердые и ломкие, как яичная скорлупа, нос, обтянутый тонкой, почти прозрачной кожей, и неразличимые под землистой щетиной щеки цвета высохшего ила. В тени глубоких впадин блестели глаза неизвестного цвета и формы – просто искры темного огня. Они встретились со взглядом Михала и остановились на спинке кровати. Михал обернулся. В ту же минуту его обдало горячим смрадом выдоха.
– Юзек… – прохрипел раненый, – так давит… под коленом. – Некоторое время он сопел. – Так жмет!
– Я позову сестру, – предложил Михал. Голова в отчаянии заметалась по подушке.
– Юзек, ради бога… ослабь.
– Хорошо, сейчас. Скажу сестре…
– Юзек!
Михал остановился. Он был уже в конце прохода между койками. Ему был виден торчащий над постелью острый щетинистый подбородок, странно трясущийся в такт прерывистым жалобным звукам.
Михал в нерешительности склонился к ногам больного и вдруг почувствовал слабость в руках. От бедер одеяло лежало прямо на матрасе.
Михал выбежал на середину зала. Волоча шнурки по полу, он шёл, бежал к столику в глубине.
Дежурная сестра перестала линовать бумагу. Она ждала его, вопросительно подняв маленькое бледное лицо, маленький тонкий нос, маленькие голубые глаза за толстыми стеклами очков. Он остановился, осаженный на месте ее недоброжелательным спокойствием.
– Сестра, там раненый, на предпоследней кровати…
– Сержант Скупень, – поправила она сухо.
– Сестра, ему надо помочь…
Ее лицо приняло выражение холодной рассеянности.
– Что случилось? – спросила она без интереса.
– Он плачет, сестра…
– Сестра, судно, – раздался где-то близко заспанный, капризный голос.
Она поднялась, шелестя крахмальным фартуком, блеснув стеклами очков. Ее руки, словно подчиняясь внутреннему чувству дисциплины, четко и деловито двигаясь, прибирали на столике. Положили карандаш в центр бумажного листа, передвинули на несколько сантиметров пузырек с каким-то лекарством, футляр от термометра выравняли с краем металлической коробочки для шприца.
– Он жалуется на боль в колене, – продолжал Михал. – А ведь…
– Да, – прервала она его коротким кивком головы. Ей не надо было объяснять слишком хорошо известные вещи.
– И все время звал какого-то Юзека.
– Да.
– Сестра, судно!
– Иду, иду, – ответила она. А Михалу: – Ложитесь, Я сейчас туда подойду.
Он раздевался, уже не обращая внимания на свет, повернувшись спиной к тихо стонущему соседу, внутренне сжавшись в тревожном ожидании новых просьб. Но сержант Скупень ничего не говорил. Он стонал, по временам всхрапывал, иногда его голова подпрыгивала, как агонизирующая рыба.
Михал проскользнул под шершавую простыню, как в надежное укрытие. Он лежал притаившись, с закрытыми глазами. В другом конце зала шлепали туфли дежурной сестры, звякнуло поставленное судно.
«Иди, – звал он ее мысленно. – Иди, сделай ему укол. Слышишь? Он все время стонет. Сейчас начнет говорить».
Пытаясь уснуть, Михал ловил открытым ртом затхлый воздух и крепко сжимал веки, но не мог выключить чуткого, вспугнутого слуха.
Наконец идет. Нет – разговаривает с кем-то, что-то приказывает, о чем-то спрашивает. А этот опять стонет. Колена нет. Осталась одна боль. Где? Боль-привидение. И все-таки настоящая. Ну вот, наконец идет. Спасение, покой. Снимет боль, вместе со зловонными бинтами. Может быть, еще можно что-нибудь сделать. Кажется, имеются такие протезы на пружинках, которые сами сгибаются. Можно ходить, можно класть ногу на ногу. И кто не знает, тот даже не заметит. Разве что по скрипу. Скрипят. Скрипит пол. Пришла.
Михал очнулся. Сестра стояла у изголовья сержанта Скупеня. Большим пальцем правой руки она измеряла пульс на похудевшем запястье, левую осторожно положила на лоб раненого. Голова у нее была высоко поднята, глаза под стеклами очков прищурены. Больной перестал стонать и метаться. Его грудь ритмично поднималась под одеялом, искры темного огня погасли на дне глубоких впадин.
С этой картиной в глазах Михал, успокоенный, повернулся на другой бок.
Должно быть, он спал. Он не знал наверное. Беспрестанно кто-то обращался к нему. Кто-то называл его Юзеком. Тетки объясняли ему, что это его имя по прадеду-повстанцу и поэтому в целях безопасности его никогда не называли. Сестра Барбара укоризненно хмурила свои черные брови. «Вы наступаете мне на ноги, пан Юзек. Мне больно». Напрасно он отрицал это, призывал в свидетели Томаша. Но тот только улыбался, таинственно и иронически. А потом он тоже открыл рот и громко, быстро сказал: «Юзек!»
Видимо, Михал опять повернулся на правый бок, потому что, когда он открыл глаза, перед ним было лицо сержанта Скупеня. На покрытом неопрятной щетиной лице шевелились голубоватые губы.
– Юзек, не оставляй меня, курва. Я боюсь, Юзек.
Михал попробовал улыбнуться.
– Не бойся, брат. Я с тобой.
Теперь раненый смотрел прямо на него, не ища никого за ним. Но Михал знал, что его горящие глаза видят в нем кого-то другого.
Раненый подвинул голову к краю подушки.
– Слушай, – шепнул он. – Скажи… что будет… – он глубоко вздохнул, – потом?..
Под темным навесом бровей тлело полное напряжения ожидание.
– Все будет хорошо, – ответил Михал. – Немцы войну проиграют.
Сержант упал навзничь со вздохом горькой досады. Он громко глотал слюну. Выступающий кадык с трудом двигался вверх и вниз.
– Что… потом? – прорыдал он через минуту. – Что… там?
Михал беспомощно последовал глазами за его взглядом, направленным в потолок.
– Увидишь, все будет хорошо, – повторил он.
Уже произнося эти слова, он чувствовал, что уклоняется от какой-то очень важной обязанности, от тяжести сверх своих сил. «Чего, собственно, он от меня хочет? – думал Михал с раздражением. – Я не Юзек. Я не знаю». Но он знал, что это безразлично, кто он. Брат – так он сказал ему только что. Брат.
Теперь раненый что-то невнятно бормотал про себя. Можно было разобрать только отдельные слова.
– Столько лет… не думал. Ох, боже! Столько лет…
Михал наклонился к нему со своей кровати.
– Слушай, не терзайся этим, – произнес он. – Ты должен отдохнуть. Спи.
Сержант умолк, подтянулся на локтях, медленно повернул голову. Со страхом смотрел он на Михала, потом вдруг неожиданно громко крикнул:
– Нет! – и обессиленный упал на подушку.
Больше они уже не разговаривали, и вскоре Михал снова заснул.
В следующий раз Михал проснулся от ощущения того, что рядом кто-то ходит. Он открыл глаза и увидел матовый свет ламп, такой неестественный среди ночи, что в первый момент ему было трудно сориентироваться во времени.
У кровати сержанта стояли три белые фигуры. Главный врач в расстегнутом кителе, из которого торчал живот в полосатой пижаме, дежурная сестра и Эва со шприцем в руке.
Они не смотрели на больного, который лежал совершенно спокойно, закрытый, как и раньше, до самой макушки одеялом. У них был такой вид, как будто они ждали чего-то или пытались понять, не совсем уверенные, удалось ли им отогнать боль.
«Ну, наконец-то, наконец-то!» – подумал Михал с благодарностью. Он подмигнул Эве, когда она повернула голову в его сторону, но она не заметила, даже как будто не узнала его. Это его совсем не задело. Вообще он уже ничего не чувствовал, кроме благословенной тишины в зале, приглушающей слова, картины и огни.
Когда утром он проснулся, у него ужасно болела голова. Он привстал на кровати и сразу осознал, что не имеет никакого отношения к окружающему и что должен как можно скорее уйти отсюда. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, любое движение приносило страдание. Сгорбившись, Михал сжимал руками виски, тер горящие веки. Всплывали обрывки каких-то воспоминаний, он должен был что-то делать. Зевнув, он поднял голову и сразу забыл о головной боли и о себе. Кровать рядом была пуста. На ней был один голый матрас с пучками грязных черных волос, торчавшими сквозь дыры в истлевшем чехле – желтоватом, грязном, с ржавыми пятнами.
Ищущим взглядом Михал обвел зал. Сестры суетились между койками с полотенцами и жестяными тазиками, большинство больных сидели в своих выцветших голубоватых пижамах и разговаривали довольными голосами. Все заполнял широкий яркий день, плывущий через высокие окна в бодром сверкании снега.
– Желаю вам счастья в Новом году, сестра, – сказал кто-то очень отчетливо.
– И вам также, пан Кальковский.
– Всех благ.
– Желаю вам счастья в Новом году.
* * *
С Моникой и двоюродными сестрами Михал попрощался в вестибюле у дверей. Они обменялись пожеланиями, но голоса их звучали неуверенно. Несмотря на бодрые улыбки, в них чувствовалась тревога. Он должен был идти. До его отъезда вечером у них еще было время, чтобы проститься. Но они колебались в каком-то беспокойстве между прошлым, прервавшимся так тревожно, и будущим, в которое они не решались войти.
– Как тебе понравился наш вечер? – спросила Моника.
– Было очень… – начал было Михал и споткнулся, словно не нашел в темноте ожидаемую ступеньку. Он шел не задумываясь, руководимый привычкой, а тут вдруг пустота, сомнение в мировом порядке и стыд. Он посмотрел на Эву. Она не выспалась и вежливо зевала в платок.
– Не удалось спасти того сержанта? – спросил он.
Она устало замотала головой.
– Ему ампутировали ноги все выше и выше, – сказала она. – В конце концов уже нечего было ампутировать. Сгорел.
Из боковой двери в зал вошли Новак и кудрявый студент-медик с ястребиным лицом.
– Привет, старик! – воскликнул медик, подходя к Михалу. – Уходишь?
Он энергично пожал ему руку. Михал так и не мог вспомнить, как его зовут. Не без иронии он подумал, что, наверно, они уже никогда в жизни не встретятся.
– Всего хорошего. Держись, старик.
– У Богачевской не так уж плохи дела, – говорил тем временем Новак девушкам. – Но, во всяком случае, добрых два месяца ей полежать придется.
В его голосе чувствовался тот неуловимый пренебрежительный тон, которым врачи любят подчеркивать правильность своего диагноза.
Михал заметил, что щеки Каси потемнели и глаза смотрели хмуро. Ясная до самой глубины, чистая в каждом своем чувстве, она все еще не могла ко всему этому привыкнуть.
Новак протянул ему руку.
– До свидания. Еще увидимся?
– Не знаю. Может быть…
Моника испытующе смотрела на него. «Сказать ей или нет? Наверно, она кое о чем догадывается. Скажу в последнюю минуту», – решил он.
Врачи ушли.
– Ну, до свидания, – сказал он, потянувшись к дверной ручке. Но не нажал на нее. Все еще ждал, окруженный топорщащейся белизной халатов.
– Я хотел бы попрощаться с Барбарой, – сказал он.
– Бася наверху, – сказала Кася.
Они повернули голову к лестнице, по которой как раз в эту минуту сбегала вниз Барбара, неся перед собой поднос с какими-то наполненными ватой баночками, блестящими коробками и инструментами. Он заметил, что под глазами у нее синяки, нос заострился, лицо как-то отвердело. Ему показалось, что облако обаяния, в котором Барбара была вчера, исчезло, что она сняла его с себя, как вечернее платье, и сейчас стоит совсем обычная, без прикрас. Но когда он преградил ей дорогу, она чуть приподняла сросшиеся брови и ямочка на правой щеке дрогнула, приводя сердце в трепет. Он почувствовал болезненный укол жалости. Ее он, наверно, тоже не увидит. Что-то могло начаться и никогда не начнется. Словно за окном поезда промелькнул чарующий пейзаж. Даже руку ему пожать она могла лишь мельком, в спешке, потому что поднос, который она держала в левой руке, опасно наклонился.
– Спасибо за вчерашний вечер, – сказал он.
– Не за что, – ответила она, и была в этом не вежливость, а совершенно не связанная с его мечтаниями правда.
Он быстро вышел, чтобы скрыть краску, заливающую щеки.
Холодный, разреженный воздух внезапно ворвался ему в легкие. Он зажмурил глаза. Протоптанные в снегу тропинки перекрещивались посреди двора, от окон отражался яркий свет. За искореженной осколками оградой тянулись пустынные, залитые бледной голубизной развалины. Он испытал то же противоречивое чувство, похожее и на отчаяние и на ожесточение, которое он испытывал когда-то в детстве при виде рассыпанного домика из кубиков. И он с завистью подумал о том, что оставляет другим этот труд, что и от этого он уходит, а если и вернется, то уже не сможет принять участия во всем том, что с сегодняшнего дня начинает рождаться в этой пустыне.
Он прошел мимо серого часового в каске, беспомощно сгорбившегося под чужим небом.
Он спешил встретиться с человеком, который назвал себя Анджеем.
«А может быть, не удастся?» – подумал он с неожиданной смесью надежды и страха.