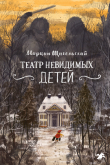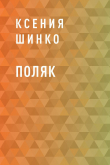Текст книги "Мотылек"
Автор книги: Ян Щепанский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Ян Юзeф Щепанский
Мотылек
Мотылек
Он играл в дальнем углу сада, отгороженного от дороги живой изгородью из молодых елочек. Собственно, это был не сад, а часть луга с редко растущими деревьями, твердые корни которых извивались по земле, с ямками, вырытыми в песке курами, с множеством валявшихся в траве шишек и камешков. Все это было деревней, потому что над елочками виднелись покрытые темным лесом горы, а над ними – огромное небо и с дороги доносился запах конского навоза. Он любил деревню. В деревне много места и много животных, и все веселое и интересное. Вот и сейчас кто-то едет по дороге. Он подбежал к изгороди. Сквозь кривые ветви он увидел двух вспотевших, запыхавшихся лошаденок, тянущих в гору длинное-предлинное бревно с всаженным в толстый конец топором. Задние колеса под бревном так далеко находились от передних, что он не смог бы их нарисовать на одном листе бумаги. Ободья стучали по камням, спицы скрипели, а конец бревна забавно подпрыгивал. Рядом с лошадьми шел настоящий гураль [1]1
Житель горных районов Польши. – Здесь и далее примечания переводчика.
[Закрыть] в выцветших суконных штанах, грязной рубахе и черной шляпе, украшенной красным ремешком с ракушками. В зубах у него была медная трубочка, а в руках длинный кнут, которым он только взмахивал, потому что настоящие гурали любят лошадей и никогда их не бьют. На мальчика пахнуло крепким конским потом и сырым, ободранным от коры деревом. Гураль подпер шкворень плечом и грубым, гортанным голосом закричал:
– Ло, гайт, гайт, – чисто по-гуральски.
Подпрыгивая, он вернулся в свой угол, где под черностволой сосной стал строить загон из палочек. В середине он поместил коров и овец. Коровы – это большие коричневые шишки, блестящие, как будто их кто-то почистил пастой. Волы – покороче и тверже, сероватые, с ощетинившимися жесткими чешуйками. Больше всего ему нравились овечки – маленькие, мягкие, влажные от смолы, со слипшимися зелеными лепестками, розовыми по краям. Он нежно гладил их кончиками пальцев и блеял: бэээ-ээ, бэээ-ээ. Вдруг он решил все изменить. Коровы будут простыми лошадьми, а те, колючие, – скакунами. Мягкие же зеленые шишечки – жеребятами. Жеребята останутся в загоне, потому что они еще маленькие и могут потеряться. А скакуны… Скакуны пусть себе скачут по лугу. Он взял одного и швырнул. Копавшаяся неподалеку курица с громким кудахтаньем шарахнулась в сторону. Это было так смешно, что он швырнул ей вслед вторую шишку. Скакун понесся как бешеный, тряся гривой, а курицы и след простыл. Исчезла за домом, и только издалека доносились ее крикливые жалобы.
Простые лошади будут возить бревна. Он положил на траву палку, а перед ней две коричневые шишки. Н-но, гнедые! Ло, гайт, гайт!
Тяжело лошадям тащиться в гору. Здесь пригодился бы кнут, чтобы щелканьем подбодрить их. Он огляделся вокруг в поисках прутика. И тут ему на лоб упала большая теплая капля. Откуда эта капля, если светит солнце? Но вот еще одна шлепнулась на руку чуть ниже локтя, и еще одна на колено. Дождь!
Он запрокинул голову. Раскаленное добела солнце по-прежнему полыхало вверху, слепя и обжигая зыбким сиянием, и от этого небо казалось темным, не голубым, а серым, и это серое небо поблескивало и даже слегка переливалось, как оцинкованное железо.
Капли косого дождя падали и падали ему на лицо, и он слышал, как они уже шелестят в кроне сосны. Если смотреть вверх, они совсем не видны, но стоит опустить голову – и они вспыхивают возле самых глаз, ярко сверкая на фоне деревьев и далеких гор, редкие и вовсе неторопливые. Стало как-то по-особенному приятно. Воздух пах свежестью воды и травы, все засверкало вокруг, стало чистым и отчетливым.
Он с беспокойством оглянулся в сторону дома. Конечно, бабушка прикажет ему, чтобы он сейчас же вернулся. Миха-ась! Миха-ась! Ему почти казалось, что он слышит этот зов, этот крик, смешно ломающийся в середине, начинающийся гулко из глубины груди и кончающийся пронзительным писком.
Нет, никто его не зовет. Из-за дикого винограда, оплетающего крыльцо, маячит светлое пятно. Белая летняя юбка в черный горошек прикрывает большой живот и бедра и неподвижно покоится на шезлонге. Он представил себе, как прекрасно спится бабушке под тихий шум дождя, шуршащего в листьях дикого винограда. У нее широко раскрыт рот, из-под несомкнутых век поблескивают белки, живот слегка поднимается и опускается, а из ноздрей вырывается равномерное нежное похрапывание. Ему совсем не нужно подходить близко, чтобы все это видеть.
Успокоившись, он вернулся к игре и стал выводить из загона жеребят одного за другим, весело бормоча:
На травку, жеребятки, на травку. Не беда, что она мокрая. Хотите пить? Смотрите, какие прекрасные капельки!
А это что такое? Он отдернул руку и отпрянул назад. Ему показалось, будто сухой листок ожил и, став вертикально, медленно пополз по руке, щекоча ее. Только когда листок на минуту раскрылся и блеснули черно-коричневые крапинки на пушистом бархате, он увидел, что это мотылек. И вовсе он не прилетел, а пешком вышел из травы. Может быть, он болен? А может быть, у него где-то здесь домик и он только выглянул на минутку?
– Здравствуй! Где ты живешь, дорогой мотылек? Покажи, какие у тебя крылышки. Ну, покажи, покажи…
Он попробовал пальцем раскрыть его сухие сомкнутые крылышки. Мотылек присел на волосатых ножках, ухватился за руку, словно маленькими коготками.
– Ну покажи, не бойся. – И вдруг крылышки на мгновение опять раскрылись, как книга, и он увидел черно-коричневые или, пожалуй, черно-оранжевые крапинки на коричневом, кое-где вытертом бархате, обрамленном причудливой черной каемкой.
Он посмотрел на свой палец. На нем осталось немного серебристого порошка, как после убитой моли. Это была пыльца. Когда-то он слышал от кого-то, что она мотыльку очень нужна. А мотылек тем временем продолжал сидеть на запястье, и его плотно сомкнутые в прожилках крылышки слегка покачивались, точно парус над лодкой. Вдруг рядом с ним упала большая капля и разбилась на мелкие брызги.
– Намокнешь, – сказал он. – Не ходи под дождем. Простудишься, дорогой мотылек, и умрешь. Где твой домик?
Он внимательно осмотрелся вокруг, прикрыв мотылька от дождя, как навесом, другой рукой. Но долго держать так руку не смог. Она начала дрожать. К счастью, он заметил в траве, возле загона с жеребятами, круглое отверстие. Он видел не раз, как из таких отверстий вылетают толстые мохнатые шмели. Наверно, и мотыльки живут в таких же норках. Конечно, это и есть его квартира.
Все так же сидя на корточках, он придвинулся ближе к загородке и, согнув кисть, оперся ею о землю.
– Видишь, это твой домик. Иди спрячься. Как только дождь перестанет, ты выйдешь опять.
Но мотылек и не думал двигаться с места. Он сидел как приклеенный. Не помог даже легкий толчок пальцем.
– Какой же ты глупый. Ну, иди, иди, мотылек. Знаешь что? Я помогу тебе.
Он осторожно, двумя пальцами взял крылья у самого основания. Коснувшись этой беззащитной хрупкости, он почувствовал дрожь, похожую на отвращение. Мотылек отчаянно хватался ножками за его руку, нужно было немного дернуть, чтобы его оторвать.
– Отпусти, слышишь? Посмотри, глупышка: вот дверь в твой домик. Влезай! Нельзя ходить под дождем.
Отверстие было маленьким. Головка мотылька входила в него без труда, но крылышки не пролезали. Они качались из стороны в сторону, а ножки беспомощно перебирали воздух.
– Подожди.
Он обернулся и свободной рукой взял «бревно», которое тащили гнедые. Вот оно и пригодилось. Гнедые для того его и везли. Он стал палкой расковыривать дырку и очень был доволен собой. Если б не он, кто бы позаботился о бедном мотыльке? Довольный, он напевал:
Глянь на нас, Костюшко, с неба,
Трам-та-там-там, трам-та-там-там…
Еще немного, и все будет хорошо. Сейчас, сейчас, мотылек. Крылышки у него немного помялись, но он уже почти весь влезал внутрь. Мотылек, видимо, понял, в чем дело, и перестал перебирать ножками. Иногда одна из них слегка вздрагивала, но вообще он проявлял большое терпение.
– Ну вот и все, дорогой мотылек. Видишь, как хорошо?
Среди мокрых стеблей, на которых капли дрожали, как маленькие, полные солнца лампочки, из земли торчал кусочек перепончатой тонкой пленки в прожилках.
– Вползи чуть поглубже, – попросил мальчик, – там сухо. Знаешь что? Я тебе помогу.
Он осторожно подтолкнул мотылька палочкой. Когда он подтолкнул его во второй раз, словно ток прошел у него по руке – он уткнулся во что-то мягкое. Он отбросил палку, конец которой был выпачкан чем-то белым. У него, наверно, насморк, и это такой густой плевок, объяснил он себе. Но краешек крыла все еще высовывался из норки. Он взял плоский камень и прикрыл ее. Теперь на него не будет капать. Когда дождь пройдет, я его открою.
Он поднялся. Ноги от долгого сидения на корточках одеревенели. С волос на лоб и щеки стекали теплые струйки. Он задумчиво смотрел на лежащий в траве камень. Никто бы не догадался, что находится под ним. Но он уже не был доволен собой. Ему даже становилось как-то не по себе, и все сильнее, и тогда он повернулся и пустился бегом к дому. Остановился он у крыльца. Из-за дикого винограда раздавалось спокойное, шелестящее посапывание бабушки. Он постоял минуту в нерешительности, ему вдруг показалось, что он совсем один на свете. Что-то зашевелилось под ступеньками крыльца. Он заглянул туда. Во мраке, насыщенном затхлым запахом опилок и мокрого дерева, куры пережидали дождь. Нахохлившаяся наседка, склонив набок голову, подозрительно смотрела на него желтым глазом. Когда он вошел, они шарахнулись в разные стороны, наполнив шумом тесное помещение, и с кудахтаньем вылетели наружу, подняв облако пыли и пуха.
С бьющимся сердцем присел он на кучке опилок. Наверху заскрипел шезлонг, потом половицы. Он ждал того, что сейчас должно было произойти.
– Миха-ась! Миха-ась! Где ты?
Он позволил ей позвать себя еще раз и наконец ответил «здесь», выходя из укрытия.
Он стоял перед бабушкой на ступеньку ниже, стараясь не смотреть, как она заламывает толстые белые руки.
– Побойся бога, что ты выделываешь! Такой большой пятилетний мальчик, а ни на минуту нельзя тебя оставить без присмотра. На кого ты похож? Весь мокрый! Вот мама приедет, я ей расскажу, что ты не слушаешься и бегаешь под дождем. Иди сюда сейчас же.
Он видел, что дождь стихает, слышал из соседнего сада радостные крики детей. И знал, что не пойдет и не отодвинет плоский камень. Он покорно давал подталкивать себя к дверям. Но на пороге задержался.
– Бабушка, где живут мотыльки?
Она остановилась, застигнутая врасплох его вопросом.
– Нигде не живут, – начала она, но тут же потащила его за плечо в коридор. – Хитрости тебе не занимать, зубы мне не заговаривай. И не думай, что ты сразу же побежишь играть на «Эдельвейс». Сейчас я тебя вытру, переодену и дам выпить чего-нибудь горячего.
Он не ответил. Он покорно сносил строгие наскоки бабки. Ему совсем не хотелось идти на «Эдельвейс». С детьми из «Эдельвейса» у него уже не было ничего общего.
Когда, вытертый досуха и переодетый, он сидел за столом и ждал горячего молока, ему казалось, что он уже какой-то другой и что все приятные, смешные вещи, которые недавно так радовали его, перестали для него существовать.
Бабка быстро вошла в комнату, поставила перед ним молоко, видно было, что ей еще хочется поворчать, но, взглянув на него, она хмыкнула и только сказала: «Пей». Потом начала вертеться по комнате, поглядывая на него время от времени из-под нахмуренных бровей. Наконец остановилась у окна.
– Михась, – сказала она уже совсем спокойно. – Поди-ка посмотри, какая красивая радуга.
Он послушно подошел и молча посмотрел на радугу, которая была всего-навсего цветной полоской на небе.
Черный
Опавшие листья устилали аллеи парка. Они резко пахли чем-то горьким и кислым, особенно под вербами, у пруда. Много их плавало на воде. Они были похожи на маленькие золотистые лодочки. Холодный ветер неторопливо гнал их вместе с хлопьями осевшей сажи. Бесконечные флотилии проплывали мимо опор горбатого мостика из гнилых березовых бревен. Деревья стояли почти голые. На черных ветках судачили галки, поминутно взлетая в серое небо крикливыми стаями. Только дубы еще хранили темный багрянец и в редких лучах бледного солнца время от времени вспыхивали бессильным гневом.
Пани Эльза поминутно подзывала детей, поправляла им шарфики и ворчливо напоминала, чтобы они не ходили по лужам.
Над каменным рвом вольера для медведей стояло всего несколько человек. Звери метались по бетону у подножия искусственных скал. Они мягко переваливались с боку на бок и время от времени поднимали свои мотающиеся головы, косо поглядывая на белеющие вверху человеческие лица.
Еще недавно дети так любили мишек. Бегали наперегонки к железной ограде, с карманами, полными конфет и яблок. Сейчас они смотрели на них недоверчиво, со страхом в глазах, а маленькая Моника судорожно сжимала руку пани Эльзы. Они, правда, сами не видели несчастного случая, но в городе об этом рассказывали во всех подробностях, и заметка на эту тему появилась даже в газете. Можно было ясно представить себе, как это произошло, – так ясно, что Михал и Моника вспоминали о случившемся с ужасом очевидцев. Фокстерьер, падая, жалобно скулил и быстро перебирал лапками, а потом было слышно лишь урчание зверя, хруст ломаемых костей, чавканье и истерические крики хозяйки. Остался один окровавленный ошейник. Искушение погладить мишек пропало бесследно.
– Гадкий Шварц, – сказала Моника, – он самый плохой.
Черный зверь, косолапо ступая, подошел к стене, присел, показав коричневое брюхо, и начал попрошайничать, размахивая лапами. Нижняя губа у него отвисла мясистой петлей, влажный нос непрерывно двигался, а в маленьких желтых глазках мерцали красноватые искорки.
Его назвали Шварц, решив, что только немецкое имя может передать зловещую природу изверга.
– Пошел! – крикнул Михал, и топнул ногой.
– Он сюда не вспрыгнет? – забеспокоилась Моника.
– Ни в коем случае, – сказала пани Эльза.
– Ну, а если очень разозлится?
– Михась, почему ты дрожишь? – Пани Эльза окинула мальчика критическим взглядом. – Ну, конечно! Ботинки совершенно промокли. Я сто раз говорила: не ходи по лужам. Идем домой, – приказала она.
В прихожей пахло горелым. Дети с беспокойством нюхали воздух, покорно отдав себя в руки пани Эльзы, стягивавшей с них пальто и свитеры.
– Ничего особенного, – ворчала она. – Тряпка загорелась на кухне. Моника, куда ты бежишь? Надень туфли! Что за ребенок!
Девочка исчезла в глубине квартиры. Через минуту громкий плач наполнил все комнаты. У нее был резкий голос, и плакать она действительно умела. Михал и пани Зльза мигом пронеслись через столовую. Из открытых дверей детской комнаты валил дым.
– Макака, макака, макака, – кричала Моника. Она стояла возле печки в облаке серого дыма, размахивая большой плюшевой обезьяной, из которой валил дым, как из кадила.
– Я же говорила, чтобы ты не прятала ее за печку! – закричала пани Эльза. – Дай мне эту дрянь! – И она схватила обезьянку за ногу.
– Сами вы дрянь! – завопила Моника.
Из брюха макаки посыпались опилки. Пани Эльза энергично шлепнула Монику, и плач девочки перешел в яростный вой.
Пользуясь замешательством, Михал схватил игрушку и спрятался с ней в угол, за кроватью. Плюш на животе обезьянки продолжал тлеть, и темная дымящаяся рана неумолимо расширялась.
Пани Эльза подбежала к окну, распахнула его настежь. Потом крадучись приблизилась к Михалу.
– Дай макаку, ее надо потушить.
Моника ухватилась за юбку бонны.
– Не давай! Она ее выбросит!
Михал сел на обезьянку, прижимая обожженный мех к полу.
– Ах вы, сопляки! Сейчас я с вами расправлюсь.
– Что здесь происходит? Дети! Пани Эльза!
В дверях стояла мать. Она не успела снять меховую шубу, вбежав прямо из передней и только сейчас стягивая перчатки с узких рук.
– Почему вы держите их при открытом окне? Вот Михась уже кашляет.
Все трое наперебой стали рассказывать о случившемся. Моника обливалась горькими слезами, но каждый чувствовал облегчение. Даже макака перестала тлеть. За обедом об инциденте уже говорили в шутливом тоне. Отец, который пришел с работы усталый и молчаливый, улыбался, когда Моника рассказывала об операции «отросткообразного червячка», которую она сделает пострадавшей.
Моника умела громко реветь, но и быстро утешалась. Целый день она нянчила макаку. Постелила ей удобную постель в картонной коробке, делала уколы, ставила компрессы и пела колыбельную. Михал отводил глаза от потертой обезьянки с нашитой на животе белой заплаткой. Его преследовал запах паленого. Он старался не думать о том, что произошло, но печальный запах все время напоминал ему, что это он спрятал за печь старую добропорядочную макаку, такую хорошую, не причинившую никому зла. Он ходил по дому с тяжелым сердцем, отказался от полдника, сказав, что у него болит голова, так что в конце концов голова у него разболелась на самом деле. Он знал, что не сможет никуда деться ни от запаха, ни от пения Моники, ни от этой невыносимой тяжести в груди. Во всем доме он не нашел ни одной интересной вещи, которая могла бы его развлечь. Потому что такой вещи не было на свете. Он отчетливо это чувствовал. Для этого он должен перестать быть Михалом, должно никогда не быть ни макаки, ни осени, ни этого города с мокрым парком. Теперь все ушло и ничто не будет таким, как раньше.
По-прежнему лил дождь. По улице двигались блестящие черные зонты, а по стеклам текли маленькие струйки с капельками на конце. Наверху у соседей кто-то разучивал гаммы, вверх вниз, вверх вниз, без надежды на какую-нибудь перемену, с печальным смирением. Михал принялся рисовать уланов, но у всех у них получались одинаковые лица. Напрасно он дорисовывал им по-разному закрученные усы: лбы и носы создавали одинаковые остроугольные лесенки. Было серо, холодно и неуютно, и ничего не хотелось делать.
Только за ужином он немного повеселел, потому что были русские пироги, хотя они ему понравились гораздо меньше, чем обычно.
На этот раз Михал не торговался из-за каждой минуты и пошел спать безропотно, в глубине души надеясь, что ночь восстановит прежнее течение жизни. От его печали осталась только неопределенная подавленность, которую ночь, может быть, сумеет бесследно развеять, и все-таки в постели его снова настиг запах горелой шерсти. Зачем, зачем он спрятал обезьянку за печь? Ей, конечно, было неприятно сидеть в таком тесном пыльном углу. Как же она страдала, когда кафель нагрелся и начал тлеть ее красивый мягонький мех, наполняя удушливым смрадом темный закуток. А он в это время гулял по парку, полному терпкого запаха осенних листьев. Он вспомнил о медведях, кружащих по дну своей каменной ямы, и огорчился еще больше. Макака была кроткая и веселая, не способная ни на какое предательство, целиком зависящая от его любви.
Моника спокойно посапывала в своей кроватке, а Михал не мог найти себе места – то постель казалась ему влажной от жары, когда он лежал минуту без движения, то опять жесткой и холодной, когда придвигался на край. Страшный запах пропитал подушку и одеяло, проникал во все возникающие в его сознании картины. Макака продолжала тлеть за печью, брошенная и беспомощная, и Михал страдал вместе с нею. Это его собственное тело, охваченное жаром, источало этот невыносимый чад. И длилось это бесконечно. Темень, жар, чад, непроходящая тоска по вещам, которые уже невозможно вернуть. Руки тяжелые, одеревеневшие – ими трудно шевелить. А потом ощущение падения, глубокого падения, в хаос мрака, удушья и тесноты. При этом тело его то Непомерно расширялось, то сжималось до микроскопических размеров. Михалу казалось, что он погружен в какое-то вещество неопределенной консистенции и размеров, единственным осязаемым качеством которого был с каждой минутой сгущающийся страх. Вдруг, без всякой видимой причины, этот страх стал таким невыносимым, что Михал открыл глаза и отчаянным рывком вылез из-под одеяла. Весь дрожа, он прижался к подушке. Он знал, что в комнате кто-то есть, кто-то очень страшный, караулящий его всей мощью своего зла. Он еще защищался, не желая его видеть даже широко открытыми глазами, но не смог ни повернуть головы, ни опустить век, а воля его слабела и всякое сопротивление было напрасным.
Этот «кто-то» сидел там, под круглым столом напротив кровати. Огромный, едва помещающийся под доской красного дерева, черный, как ночь, но видимый в темноте благодаря гладкому блеску жесткой шерсти. Его длинные кривые руки напоминали мощные лианы. Одна рука обвивала поджатые колени, а другая – ножку стола. Голова втянута в сутулую спину, и только из-за того, что она была наклонена, не был виден блеск маленьких глаз. «Он» сидел неподвижно, налитый огромной силой и какой-то зловещей радостью. В самой этой неподвижности было обессиливающее колдовство. Ее невозможно было выдержать, но и нарушить ее равновесие было тоже невозможно. Михал не осмеливался даже думать. Где-то на дне сознания у него была готовая картина конца, слишком ужасная, чтобы вытащить ее на поверхность и рассмотреть. «Он» встанет в полном молчании, не спеша подойдет на своих кривых коротких ногах, протягивая страшные лапы… Стол спадет с «него», как скорлупа, без всякого шума. Это когда-нибудь случится. Через минуту или спустя целую вечность, потому что время для «него» не имеет значения. Именно поэтому молчание и неподвижность таили в себе невыразимый ужас.
Несмотря на свой испуг, Михал не мог оторвать от чудовища глаз. Он все больше убеждался в реальности того, что видел: покатые плечи, массивный торс, гибкие щупальца. Парализованный любопытством, Михал ждал первого движения. И тут произошло то, чего он не мог предвидеть, но чего подсознательно ждал. Черная фигура даже не вздрогнула, но в ней в одно мгновение произошла перемена, показавшая, вне всяких сомнений, что все это угрюмое ожидание имеет прямое отношение к нему. Он увидел глаза. Они мутно блеснули, неожиданно появившись во мраке. Может быть, поднялись невидимые веки, а может быть, эти глаза давно смотрели на него, только теперь загоревшись от возросшей сосредоточенности. Они были маленькие, близко посаженные, желтые, полные красноватых искр. В их взгляде не было ни ненависти, ни гнева. В них было что-то значительно более страшное. Холодная проницательность, равнодушным презрением оценивающая страх своей жертвы. Непонятная отчужденность хищника, до ужаса зверская и издевательская, без каких бы то ни было следов человеческого.
Михала пронизал леденящий холод. Он услышал слабый, сдавленный крик, едва отдавая себе отчет в том, что это его собственный голос дрожит в темной комнате. Он все еще продолжал смотреть в эти маленькие глаза, когда дверь открылась и из столовой упала узкая полоска света. Шелест платья и запах одеколона приблизились вместе с приглушенными словами:
– Спи, спи, сынок. Тебе что-то приснилось?
– Там… сидит… горилла, – простонал он с трудом.
Мать наклонилась над ним облаком сладкого тепла.
Ее губы слегка прикоснулись к влажному лбу, неся в себе нежный, беспокойный и проникновенный вопрос.
– Ложись. И укройся, – сказала она.
С каким огромным облегчением выполнил он эти несколько движений, диктуемых теперь чужой заботливой волей.
– Пани Эльза, – позвала мать, – идите сюда! У мальчика высокая температура.
В столовой зашлепали туфли и глухой голос пани Эльзы приблизился, говоря что-то о лужах в парке и промоченных ботинках.
Михал принимал с благодарностью эти наивные уловки, чувствуя, что они дают ему единственную возможность к спасению.