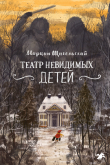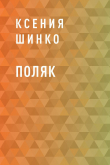Текст книги "Мотылек"
Автор книги: Ян Щепанский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
IV
Они маршировали через город в костел. Затянутые в гладкое сукно, со скрипящими портупеями, в кожаных «парадных» перчатках. Левой рукой они придерживали ножны шашек, а правой свободно и ритмично размахивали. В ритме их шагов колыхались длинные шинели и звонко бряцали шпоры. Загоревшие щеки пружинисто вздрагивали в такт шагам. Каждое лицо было подрезано полоской белоснежного подворотничка.
Они шли по широкой улице, скользкой от размокшего конского навоза. За заборами, где таяли остатки снега, виднелись деревянные домики с крылечками. Стекла в окнах дрожали от ударов сотен сапог о мостовую.
На деревянных тротуарах останавливались прохожие. Чиновники в вытертых демисезонных пальто, купцы, врачи и адвокаты в шубах с меховыми воротниками, бабы в клетчатых платках и мужских сапогах и хилые бородатые евреи в черных халатах. Все приветствовали подхорунжих улыбками, а офицеры и солдаты других частей гарнизона вытягивались и отдавали честь.
– Батарея, запевай! – крикнул ведущий колонну старший унтер-офицер.
– Три… четыре!
Я ходил по полю,
– затянули в первой четверке.
Залитом росою,
– гаркнули сотни голосов.
Полюбил девчонку, полюбил девчонку
С золотой косою.
Песня взлетала в небо громкими, четко рубленными фразами, в блестящее водянистое небо, раскинутое над большой равниной. Вскоре они, перешептываясь, будут стоять, как дети, на коленях на пахнущем плесенью и ладаном полу, во мраке костельных сводов, склонив бритые головы. Но сейчас они пели во всю мощь молодых легких:
С золотой косою,
Синими глазами…
Михалу казалось, что в его горле вибрирует голос всей батареи. Он пел громко, как только мог, размахивая рукой, четко печатая шаг и втайне мечтая, чтобы кирпичный костел был на краю света. Он не выносил этого возбуждения и всегда старался его скрыть от себя, замаскировать искусственной серьезностью. Ему вспомнилась сладкая овсяная каша – кошмар детских лет, и скучные визиты, полные тошнотворной вежливости. Напрасно он убеждал себя, что в этом нет никакого смысла. Когда он пробовал принудить себя к покорности, то сразу чувствовал, как в нем вырастает гипсовый святой со сложенными ручками и глазами, поднятыми к небу в слащавом экстазе. Когда он пытался уловить слово правды, то не мог пробиться сквозь хриплый фальцет ксендза Пщулки, вещавшего с амвона. Иногда его охватывал какой-то ужас, когда он осознавал размеры этой лжи. Несчастный проповедник, плетущий гирлянды риторики полным пафоса писклявым голосом, болтающий о добродетели, любви и искуплении, и шеренги крепких солдатских голов, в которых вынашиваются планы воскресных развлечений, жадное ожидание утех в «Красном Домике», водочного веселья, возбуждающих кабацких споров. А над всем этим, во всем этом какая-то непостижимая действительность, для выражения которой еще не найден язык. За столько веков, думал он, и все еще не найден. А может быть, его просто забыли? И совершенно невозможно было вынести, когда капеллан, как будто бы охваченный теми же сомнениями, отказывался от проповеднического тона и пробовал «покорить» свою паству крепким словцом, грубой шуткой, вызывающими еле сдерживаемый смех. Михал краснел со стыда. Но себе он говорил, что это так защищается его гордыня, что это она критикует все и презирает.
И теперь, когда с песней на устах они маршировали к пасхальной исповеди, он думал о том, что прежде всего долгой покаяться в своей гордыне. Но к ксендзу Пщулке он не пойдет. Этого ксендз от него не дождется. И Михал пел во все горло:
Сладко поцелует,
Прижмет, приголубит…
– Отставить! – крикнул старший унтер-офицер.
Колонна сворачивала в обсаженную липами аллею, ведущую на вершину небольшого холма. Громче зазвенели шпоры, правофланговые увеличили шаг, и четверки четко поворачивали, словно прикрепленные к оси.
На липах уже появились почки, и небо сквозь сетку красноватых точек казалось чище и мягче.
На костельном дворе дали команду разойтись. «И чтобы никто не пикнул, – наставлял их старший унтер-офицер, – здесь не кабак. Сосредоточиться, думать о своих грехах, а не о Маруськиной заднице».
Большая часть седьмой батареи, которая прибыла раньше их, уже ждала построения, куря и приглушенно разговаривая.
Михал сел на теплую каменную кладбищенскую ограду. Солнце приятно согревало его лицо. Он сдвинул шапку на затылок, прищурил глаза. Отсюда, с высоты, виднелись сельские домики пригорода, беспорядочно разбросанные вдоль тракта, а за ними – обширные поля, разделенные на черные и белые полосы, сверкающие лужами в бороздах, с нежными облачками молодой зелени на межах. Блестела петляющая река, уходящая к далекому холму с пучком куполов-луковок монастыря базильянцев. На горизонте виднелась черная полоса леса.
В нежной свежести этого первого весеннего дня было предвестие пасхи, и Михал думал о доме, пахнущем куличами, полном радушия и покоя.
Неподалеку, на штабеле досок, грелись львовяне из третьего расчета.
– Ты к кому пойдешь, Тадзик?
– Да все равно. К кому меньше очередь.
– Я к Пщулке, – сказал Гулевич.
– Пщулка – болван.
– Что ты от него хочешь? Мировой ксендзуля.
– Грех – это еще ничего, мои дорогие, – запел Матзнер, имитируя гнусавые дрожащие модуляции ксендза, – но не забывайте, дорогие, что при этом Можно схватить кое-что на всю жизнь.
Они засмеялись. Гулевич сверкал большими зубами, выпуклые голубые глаза его покрылись влагой. Он разбух от красок, как спелая слива. В самом центре его красных щек были бледные пятна, словно источники, излучающие здоровье и жизнь.
– Этот совет лишь для фраеров, – изрек он. – Надо знать, с кем получаешь удовольствие. Я, когда приезжаю в отпуск, иду к тете. Тетя – молодая соломенная вдова, пухленькая блондиночка. По квартире ходит в халатике, а под халатиком – ничего. В буфете всегда имеется вишневочка, модные пластиночки…
– Заткни ты свою поганую пасть, – буркнул Цвалина. – Перед самой-то исповедью!
Гулевич опять ощерил зубы.
– А чего тебе надо, браток? Именно перед исповедью – как рукой снимет.
Сидящий одиноко возле группы львовян подхорунжий повернул голову, и Михал только сейчас заметил Стефана. Он слегка улыбался своими ореховыми, немного раскосыми глазами, с выражением холодной снисходительной веселости. Заметив Михала, он по-приятельски поднес к козырьку палец. Встал, с вежливым поклоном обогнул сапоги Гулевича и подошел, протягивая руку.
– Привет, Михал.
Его приветствия всегда заключали в себе начало доверительной беседы. Даже о погоде он говорил, как о тонком и таинственном деле. Они завернули за кладбищенскую ограду, где никого не было.
– Надо будет обязательно посмотреть монастырь базильянцев, – сказал он. – Наверно, там есть прекрасные старые иконы.
– Я тоже об этом думал, – сказал Михал.
– Отлично. Если ничего не имеешь против, пойдем вместе.
Некоторое время они смотрели на медные луковицы, увенчанные золотыми искрами маленьких православных крестов.
– Ты идешь на исповедь? – спросил неожиданно Стефан.
Михал удивленно посмотрел на него.
– Почему ты спрашиваешь.
Стефан слегка, словно в рассеянности, пожал плечами.
– Да так. Потому что ты мне нравишься.
Михал посмотрел на далекие луга. Он чувствовал за этим вопросом десятки других, требующих ясного «да» или «нет». Он попал в ловушку.
– А ты? – спросил он.
Стефан отрицательно покачал головой.
– Почему?
– Пытаюсь быть честным.
– Ты неверующий?
Теперь глаза Стефана блуждали над блестевшей в весеннем солнце равниной. Он задумался.
– В том-то и дело, – сказал он наконец. – Что значит быть верующим? Если веришь в таинство, надо верить во все. Это логическое единство. Здесь нельзя притворяться. Ты понимаешь, что я имею в виду: «И то и другое беру под сомнение, но на всякий случай использую систему». В конце концов наступает момент, когда надо нести ответственность перед самим собой…
Михал молчал. Носком ботинка он рыл канавку во влажном гравии.
– Прости меня, что я об этом говорю… Михал очнулся.
– Ну, разумеется. Нужно. Эти вопросы всегда стыдливо обходят, как будто в них есть что-то неприличное.
– В конце концов они становятся неприличными, – сказал Стефан. – Как всякая механическая привычка. Почистить зубки, пописать, помолиться…
Со стороны штабеля досок донесся новый, быстро подавленный взрыв смеха.
– Это, наверно, одна из форм невинности, – сказал Стефан, поглядывая на львовян, – но тот, кто начинает думать, перестает быть невинным.
Двор наполнился радостным гомоном исповедавшихся. Запах нагретой земли смешивался с запахом сукна и начищенной ваксой кожи.
– Седьмая батаре-е-я!
Вслед за предупреждающим криком послышался топот торопливых шагов.
– Ну, пока. – Стефан протянул руку. – В монастырь соберемся как-нибудь в воскресенье после отпуска.
– Хорошо. Можно нанять лодку на пристани.
– Это идея.
Стефан небрежной походкой подошел к выстраивающейся колонне. Михал вернулся на свое место. Львовян на досках уже не было. Они вошли в костел. Толпа в дверях густела. Поодиночке протискивались из костела те, которым уже было дано отпущение. Михал расстегнул воротник, снял шапку и подставил лицо солнцу.
– Батарея, запевай! – крикнул старший унтер-офицер, когда из обсаженной липами аллеи они свернули на улицу.
Хлопцы, э-гей!
– грянула первая четверка.
Синеет моря даль,
И в мачтах ветер песню поет…
Шли молодые, затянутые в сукно, звеня шпорами. Шли полные веры в себя, полные надежды и любви к жизни.
Граница
Когда он последний раз видел Варшаву, все окна были заклеены крест-накрест полосками бумаги. Это должно было предохранить их от взрывной волны. Но тогда никто не верил во взрывы. Казалось, что окна весело подмигивали этими скрещенными белыми линиями. Дома выглядели нарядными. В новых кварталах бегонии, настурции и астры струились с балконов. Осенний конкурс цветов. Везде висели огромные плакаты: маршал Рыдз-Смиглый с протянутой булавой на фоне неба, полного самолетов. Люди толпились на тротуарах в радостном возбуждении. Они хотели показать, что ничего не боятся, и действительно ничего не боялись в этой толпе, под этим августовским солнцем, под гирляндами цветов, под окнами, изрезанными веселыми треугольниками. Такой он представлял себе Варшаву во время жарких маршей, во время боя на опушке затянутого дымом леса, среди плетней опустевших деревушек, черпая котелком воду для своего коня с илистого дна выпитых колодцев. Из земли выжали весь сок, высосали ее грудь. Осталась влажная зловонная грязь, и конь печально отворачивал дрожащие ноздри. Но воспоминание о Варшаве, живой, нарядной, бурлящей жизнью, как огромный источник, осталось неизменным.
Удивительно: и все-таки это была она. Слепая, темная, с окнами, забитыми фанерой, или зияющая чернотой пепелищ, без цветов, без радости, с пустыми балконами, прикрепленными к мертвым стенам, с серым холодным небом в рваных ранах стен, с могильными крестами, криво торчащими в снегу во дворах и скверах. Эти кресты сколачивали из старых гнилых досок, валявшихся в подвалах, из штакетника, из оконных рам. Веселые варшавские окна опустились на землю. Многие годы никто не подозревал, что их форма имела свое предназначение. Это было висевшее в пространстве кладбище, ожидающее своего часа.
Теперь этот час настал. И уже проходил. Проходил вместе с уходящим годом – правда, непохожим на другие, но уже прожитым, уже костенеющим среди могил и руин.
В другие времена в эти часы тротуары и мостовые были скользкими от огней. Люди толпились в магазинах, покупая пирожные и вино на рождество. На мужчинах белели шелковые шарфы. Продавщицы, нарезая тонкие розовые ломтики ветчины, ловили рассеянными взглядами отражения своих лиц в стеклах витрин, украдкой поправляя волосы. Все спешили. Уже можно было увидеть на улицах первые бальные платья, видневшиеся из-под меховых манто. Садясь в такси, женщины бережно подбирали их узкими руками в перчатках, в то время как мужчины с поклоном открывали дверцы.
На перекрестках даже в дождь или снежную метель стояли продавцы воздушных шаров. Огромные цветные гроздья колыхались, поскрипывая, над втянутыми в воротники головами.
Но это не могло длиться вечно. «Те года» прошли, и ничто уже не могло быть таким, как прежде. Вино, шары, бальные платья перестали существовать. И те люди тоже перестали существовать, даже если уцелели от бомб. Они носили теперь – неизвестно зачем – синие лыжные шапки и толстые ботинки, женщины же охотно надевали на голову шерстяные шлемы или пилотки, никогда не виданные раньше на улицах Варшавы. Прохожие, робко пробирающиеся вдоль стен, большей частью вообще не были похожи на городских жителей. Грубые крестьянские поддевки, куртки из военного сукна, бараньи воротники, шерстяные платки, сапоги.
Они тоже спешили. Как будто что-то искали. Иногда кто-нибудь из них держал под мышкой какой-то сверток или полбуханки хлеба. И тогда в его взгляде можно было заметить отблеск того прежнего, праздничного, полного надежды возбуждения, какое было написано когда-то на лице человека в белом шарфе, с бутылкой вина в руках.
Все было совсем иным, но не чужим. Как хорошо знакомое лицо, измененное болезнью. Измененное почти до неузнаваемости, но все же – и, может быть, тем более – близкое.
Было еще довольно светло. В другие времена в эту пору огни окон, огни фонарей и неоновых реклам ускоряли наступление ночи. Теперь желто-синие сумерки долго цеплялись за стены домов, за протоптанные в снегу среди развалин тропинки на больших пустынных улицах, с которых уже убрали горы щебня.
Чуждость кружила по этим пустым пространствам, не связанная с жизнью города. Серые автомашины победителей проносились по мостовым, с грохотом подскакивая на вырытых снарядами воронках. Иногда едущие на машинах солдаты – каска к каске, между колен винтовки – пели хором. И песня, скандируемая хриплыми голосами, смешанная с ревом мотора, прерываемая икотой встрясок на выбоинах мостовой, неслась без эха, до ужаса одинокая. Никто с тротуаров не оглядывался ей вслед. Редкие велосипедные тележки да крестьянские повозки на резиновых шинах – единственный транспорт побежденных – уступали ей дорогу. Город не принимал эти голоса. Его слух был настроен на иную волну. Он не обращал внимания и на плакаты, расклеенные на стенах.
Еще видимые в сгущающихся зимних сумерках, они изображали обтрепанного солдата с диким заросшим лицом, с безумным взглядом и ртом, перекошенным криком отчаяния. Окровавленная повязка поддерживала его правую руку, левая указывала на горящие руины, перевернутый поперек улицы трамвай, валявшиеся на мостовой трупы женщин и детей. «Англия – это дело твоих рук!» – взывал он черными, наклонными буквами.
Солдат был плохо загримированным провокатором. На нем была конфедератка, какой в польской армии не носили уже много лет. Его отчаяние было наигранным, его крик фальшивым. Даже руины и трупы лгали – больше чем несуществующие эскадрильи Рыдза-Смиглого. Те по крайней мере выражали подлинную волю к сопротивлению. Здесь все было наигранным. Лицемерно горькая картина поражения, нарисованная победителем, фальшивое обвинение, вложенное в уста побежденных, в уста, которые были лишены голоса.
Взгляд людей обходил эти афиши. Город не хотел отчаиваться. Он никого не обвинял. Тихий, сурово задумавшийся над своей судьбой, он был подлиннее, чем когда бы то ни было. Теперь в нем не было никакого притворства, никакого чванства. Его недавняя веселость была пустячной и внешней, его уверенность в себе – по-детски легкомысленной. По сути, ему всегда было известно, что никакой он не шампанский «Северный Париж», блестящий издали, завоевываемый во имя любви и обезоруживающий захватчиков своим бессмертным обаянием. У него были свои воспоминания. Не впервые заставляли его говорить чужим голосом, не впервые ослепляли. Его настоящую силу можно было постичь только через глубокие раны.
Теперь это чувствовалось. Эта неистребимая сила была опять обнажена. Среди опустошения, среди сплошной серости каждая деталь находила свое выражение, и не было ничего мелкого, тривиального, ни даже красивого или уродливого, потому что город погрузился в глубь предметов, достиг твердой почвы своего существа.
Гипсовые кариатиды, поддерживающие декадентские балконы над подъездами зданий, получили наконец героическое содержание, которое до этого было только позой. О их обнаженные груди разбивались настоящие шквалы, как о торсы фигур на бугшпритах старинных кораблей.
Они имели такое же право на уважений, как полуразрушенные башни костелов, как пробитые пулями памятники героям.
Символы вернули себе свое прежнее значение. Христос, согнувшийся под тяжестью каменного креста у входа в костел Святого Креста, говорил о подлинном страдании, и прохожие, снимающие перед ним шапки – эти дурацкие лыжные шапки, – преклонялись перед ним искренне, потому что формальные жесты, потому что привычки savoir-vivre [20]20
Житейской мудрости (франц.).
[Закрыть] не имели уже применения.
Наверно, кто-нибудь из этих обшарпанных лыжников без лыж написал мелом рядом с одним из плакатов, на стене, побитой оспой выстрелов: «Мы войну выиграем». Без восклицательного знака, как будто сказал это вполголоса, сквозь стиснутые зубы.
Никто в этом не сомневался. Хотя никто также и не задумывался, как это должно произойти. Тот, кто писал мелом лозунг на стене, говорил «мы», так его и понимали. «Мы», то есть оборванные, голодные, безоружные люди, щелкающие зубами в холодных квартирах. Единственной логической посылкой было убеждение, что несправедливость не может удержаться. Верили странным расчетам. По рукам ходили истрепанные затертые листки с текстом, напечатанным на машинке. Это были копии коммюнике, опубликованного и подписанного неким майором Хубалой, который все еще не сложил оружия и якобы воевал где-то в Свентокшиских горах. С ним было несколько десятков человек – может быть, сорок, а может быть, пятьдесят. Они передвигались на лошадях по лесам и устраивали засады. «Вооруженная борьба продолжается», – писал майор Хубала в своем коммюнике. Это означало лишь одно: эти сорок кавалеристов выступили против десятков моторизованных дивизий, против тысяч орудий, танков и самолетов. Но, видимо, это означало еще нечто большее, потому что никто не пожимал плечами, читая это коммюнике, не смеялся, не плакал. Наоборот, говорили: «Мы не перестали сопротивляться» – и верили в победу.
В этот последний день года – года поражения – Михал видел Варшаву впервые за четыре месяца. Он приехал в грязном переполненном поезде, забитом чемоданами, в которых булькала водка. Он тоже привез две пол-литровые бутылки и сразу же продал их на вокзале какому-то заросшему типу в потрепанной кепке. Он продал водку в два раза дороже, чем за нее уплатил, но теперь это было в порядке вещей. Так делали все.
Потом Михал отнес по указанному адресу записку, написанную одним знакомым капитаном артиллерии, и навестил уцелевших родных и приятелей. Но самое главное – он ходил по городу, ходил до изнеможения, пока не заболели колени и не стали гореть ступни в тяжелых сапогах. Он смотрел на руины, на людей, вдыхал, впитывал, стараясь понять все, услышать сокровеннейший голос минуты, набраться сил у самого источника. Он знал, что спазм горла, с каким он осматривал картину опустошения, не имеет значения.
* * *
– Что ты собираешься делать? – спросил его Томаш.
Теперь все задавали этот вопрос. Было ясно, что надо за что-то приниматься, за что-то такое, чего человек до этого никогда не делал и что раньше вообще не пришло бы в голову.
Томаш, например, стеклил окна. У него была замазка в жестяной коробке, алмаз и деревянный ящик с оконным стеклом. Но этим он занимался временно. Кроме того, «делать что-то» не означало зарабатывать только на хлеб по карточкам.
У Михала было большое желание сказать приятелю, что этот вопрос для него уже решен, потому что до того, как они встретились с Томашем, записка капитана артиллерии возымела свое действие и на квартиру теток, у которых Михал остановился, пришел неизвестный мужчина в лыжной шапке, некий «Анджей» (как он представился), и между ними произошел разговор с глазу на глаз в неотапливаемой теперь гостиной. Но содержание разговора было строго секретным, поэтому Михал отвечал сейчас с уклончивой, хоть и многозначительной улыбкой, что «ведь война еще не кончилась». К тому же ему казалось, что на нем мундир, который каким-то образом освобождает его от повседневных забот. Этот невидимый мундир он надел во время разговора с Анджеем и с той минуты постоянно чувствовал его на себе.
– Не кончилась и скоро не кончится, – ответил Томаш деловым и, как обычно, ворчливым тоном.
– Ты действительно так думаешь? – спросил Михал. В его голосе звучал легкий упрек. Повсюду твердили, что война кончится весною, если не раньше.
– Действительно, – сказал Томаш.
Они разговаривали в небольшой комнатушке Томаша, окно которой выходило на заснеженный садик. Комната мало чем изменилась, разве что появилась трещина на потолке, идущая зигзагами, как молния. Комната по-прежнему напоминала «детскую», неприбранную, полную странных поломанных предметов – типичных «сокровищ», не представлявших для взрослых никакой ценности, но что-то в ней уже было от студенческой холостяцкой каморки: тахта, покрытая грубошерстным одеялом, пепельница, до краев наполненная окурками, и прогибающиеся под тяжестью книг полки. Книг стало даже больше, так как Томаш притащил снизу все, что было поинтересней, из остатков разграбленной библиотеки родителей.
В сгущающихся сумерках они едва различали свои лица, но свет не зажигали, потому что его не было. Теперь он был только в тех районах, в которых находились важные для немцев объекты.
– Ты должен переехать в Варшаву, – сказал Томаш. – Здесь скорее ты устроишься учиться.
Михал пожал плечами.
– Учиться будет время и потом.
Они замолчали. Томаш взял с белевшей на столе бумаги щепотку измельченных табачных листьев – их покупали у крестьян в подворотнях возле вокзалов, – набил трубку, раскурил ее усердным посасыванием. Потом вытер чубук рукавом и протянул трубку Михалу.
– Ты помнишь Флешара? – спросил Томаш. – Он писал стихи и учился в параллельном классе, одно время он ходил с нами.
– Помню. Такой высокий.
– Его убили на прошлой неделе, при попытке убежать в Венгрию. С ним было пятеро ребят из нашей школы. Всех убили.
– Это рискованно, – тихо ответил Михал. – Одним удается, другим нет.
– Всю зиму он мастерил лодку, – продолжал Томаш. – Хотел спуститься к Дунаю. Он любил одну девушку с нашей улицы. И писал по-настоящему хорошие стихи.
– Я думаю, что многие из тех, кто погиб, писали стихи, – сказал Михал.
Томаш протянул руку за трубкой.
– Зачем ты об этом говоришь? – сказал он. – Этим ничему не поможешь.
– А ты зачем сказал мне об этом? Хочешь меня напугать?
– Нет. Просто я все время об этом думаю. Я не очень хорошо его знал. Как остальных. Я часто видел его вечерами, когда он провожал эту девушку. Всегда, когда я смотрел на него, мне казалось, что я смотрю в будущее. Вернее, вижу перед собой прошлое великого поэта. Но от этого ничего уже не осталось. Лодка сгорела на пристани, а что случилось с девушкой – не знаю. Она с сентября не появляется.
– Я должен идти, – сказал Михал. – В госпитале у Моники устраивают какую-то вечеринку. Что-то вроде встречи Нового года. Она просила меня прийти.
Томаш не двинулся, он продолжал сидеть, о чем-то задумавшись.
– Мне кажется, – сказал он через некоторое время, – что их несбывшееся будущее легло на нас. Нужно что-то сделать, чтобы оно сбылось. Здесь, где оно остановилось. Мы должны учиться, любить, мужать…
«А не уловка ли это? – подумал Михал, но ничего не сказал; он слишком хорошо знал Томаша, чтобы подозревать его. – Разница в том, – подумал он, – что ты не был в армии, а я был». Но и этого он не сказал. Только опять почувствовал всем телом жестокость невидимого мундира.
Он встал и протянул Томашу руку.
– Ну, я должен идти. Будь здоров, Томаш!
* * *
Квартира теток состояла теперь из одной комнаты. В трех остальных, выходящих окнами «на улицу», стекол не было. Их по бедности заделали картоном и фанерой, поэтому там царил полумрак и пронизывающий холод. Несмотря на это, рояль блестел чернотой на своем обычном месте в опустевшей темной гостиной, бидермейеровские диванчики и креслица в ситцевых чехлах доверчиво ожидали лучших времен, а от пола шел знакомый с детства запах скипидара и воска. Запах безопасности, чистоты, запах мещанской удовлетворенности жизнью. Его не выдул сквозняк, проникающий сквозь щели, его не поглотил запах гари и зловония, идущий из лопнувших труб.
Маленькая комната с окнами во двор – единственная сейчас жилая – напоминала склад мебели. Две массивные красного дерева кровати теток, овальный стол на резных ножках, буфет, кушетка, кожаные кресла, горки, полные фарфоровых безделушек, полки с книгами, подставки для цветов в зеленых облаках вьющихся растений. А на ночь в этой тесноте ставили еще раскладушки для двоюродных сестер и где-то стелили – может быть, под столом – матрас для Моники, когда случалось, что ни у одной из них не было дежурства в госпитале.
– Тогда нам немного тесновато, – говорила тетка Гелена, – но я за то, чтобы быть всем вместе. Вместе веселее, а девчонки такие смешные. Как начнут сплетничать, шалить, мы прямо лопаемся со смеху, хоть времена как будто не очень-то веселые.
От одного воспоминания об этих «шалостях» ее темно-коричневые глаза светились нежностью, лицо становилось почти молодым. Вторая тетка, Рената (сколько же лет она стучала на машинке в разных учреждениях, ожидая «своего счастья», постепенно старея и толстея), тоже казалась моложе. В ее глазах тоже играли давно не загоравшиеся огоньки.
«Они счастливы, – удивился Михал. – Почему? Может быть, они и не знают об этом».
Траур первой и обманутые надежды второй, с которыми Михал уже давно свыкся, как если бы это были их природные черты, уже не имели над ними прежней власти. Запах дома теперь сосредоточился в этой свалке. Пахло не только скипидаром и воском, землей в цветочных горшках и пылью плюшевой обивки. Тут был еще аромат спрессованных воспоминаний – этот трудно уловимый запах, выделяемый альбомами с пожелтевшими, выцветшими фотографиями.
Время отступало, исчезая само в себе. Михалу казалось, что он находится в другой квартире – в обширной темной дедовской квартире, где во времена его детства стояла вся эта мебель, уже тогда полная воспоминаний, о которых он знал только по запаху. Какие-то таинственные поверил, сторож в тулупе, предостерегающе стучащий в двери, вечерние чтения «Дзядов» Адама Мицкевича, старые знакомые, приходящие побеседовать за самоваром, и среди них чудаковатый бородач (Михал представлял его себе так ясно, словно видел перед собой), режущий хлеб складным ножом, который он доставал из-за голенища по привычке, сохранившейся после Сибири.
Та Варшава – Варшава чужих воспоминаний – казалась ему полной таинственного очарования. Ребенком он часто жалел о том, что знал ее уже обычную, деловую и реальную, похожую на все другие города. Ему говорили, что он относится к счастливому поколению, потому что тогда было время скорби и гнета. Но в рассказах взрослых звучала нотка ностальгии.
Он внимательно наблюдал за двумя старыми женщинами, как они почти с радостным волнением суетились среди составленной мебели, готовя ему чай, доставая из разных тайников остатки каких-то скромных запасов. Они стали смелыми и легкомысленными, острыми на язык, как гимназистки. Было ясно, что их что-то перестало мучить, от чего-то они освободились – от какого-то принуждения, какой-то скуки, которая убивала в них вкус к жизни. Да. Это счастье свободы, о котором они так восторженно говорили молодым, для них было потеряно. Все самые прекрасные движения души они оставили там, в Варшаве воспоминаний. Может быть, теперь им казалось, что они возвращаются к ней, а может быть, она возвращалась к ним вместе с молодостью.
Моника прибежала из госпиталя незадолго до комендантского часа. Она была в ботах, ее пальто пропахло лизолом, на черных волосах таяла мелкая пыль инея.
– Я не могла раньше. Я репетировала. Идем. Мы еще успеем, но поторапливайся.
Тетки обнимали ее, целовали, с беспокойством глядя в глаза. Они не хотели ее отпускать, но не говорили этого. Они знали, что «этой малышкой» командовать уже нельзя.
Моника смеялась. Она даже не расстегнула пальто.
– Успеем, успеем, – защищалась она от нежностей теток. – Только пусть он не копается.
Они вышли, благословляемые крестным знамением тетки Гелены.
Было уже совсем темно. Люди на тротуарах горбились и торопливо перебирали ногами. Казалось, что они убегают от кого-то, каждую минуту ожидая удара. С угла доносился хриплый мужской голос, монотонно повторяющий какое-то объявление.
– На Прагу! На Прагу! На Прагу! [21]21
Район Варшавы.
[Закрыть] – услышали они, когда подошли поближе.
Там стояла длинная подвода на резиновых шинах – на таких огородники из пригородов Варшавы возили когда-то овощи на базар. Извозчик в тулупе до пят и бараньей шапке притоптывал тут же на тротуаре. Руки он всунул в рукава, а кнут держал, как ребенка. На подводе виднелось несколько сгорбленных фигур, сидящих неподвижно, в полных безразличия позах.
– Это не наш «автобус», – сказала Моника и опять засмеялась.
– Почему ты все время смеешься? – спросил Михал.
– Не знаю. В госпитале мы тоже смеемся. Вот увидишь. Будет весело.
Моника шла, наклонив голову. Он взял ее под руку. Его мучила мысль, что он уже не знает ее так хорошо, как раньше.
– Не думай, что это истерика, – сказала она через некоторое время. – Каждый человек пытается что-нибудь сделать, чтобы ему было легче. Ты только подумай: стольким людям хуже, чем нам.
Уцелевшие дома кончились. Теперь Михал и Моника шли по краю огромного поля руин и ветер бил сбоку, покалывая их холодными иголками.
– Ты помнишь, – говорила Моника, – я всегда не переносила вида крови. Я боялась войти в кухню, когда Вероника чистила рыбу. Вначале мне было очень трудно. Теперь я ассистирую во время операций. Когда город был осажден, приходилось ампутировать руки и ноги без наркоза…
Она опять засмеялась, как будто вспомнила что-то смешное. Это был смех ни горький, ни нервный. Он звучал так же по-девичьи, как когда-то, когда достаточно было показать ей палец, чтобы она рассмеялась.
– Ах, ты не знаешь, за несколько дней до капитуляции нам привезли целый транспорт евреев из разбомбленного дома на Новолипках или на Генсей. Видимо, они спали под перинами, потому что были все в перьях. Все в крови и в перьях. Нам пришлось ощипывать их, как цыплят. – Она потянула его за руку. – Идем быстрее.
На пересечении Маршалковской и Иерусалимских аллей стояли ряды подвод. Извозчики выкрикивали сквозь метель: