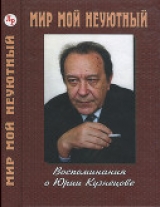
Текст книги "Мир мой неуютный: Воспоминания о Юрии Кузнецове"
Автор книги: Вячеслав Огрызко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
* * *
Я рассказал ему и Дробышеву, как лез недавно в Ярославле с пятого на четвёртый этаж через балкон (отпирал захлопнувшуюся дверь соседке), как было страшно, когда я посмотрел вниз…
– Никогда не смотри! – заорали они. – Не смотри вниз!
– Это сатана тебя смутил, – убеждённо сказал Ю. К.
Когда же Дробышев усомнился в существовании сатаны, Ю. К. воскликнул:
– Сатаны нет? Да он в каждом из нас! В каждом, сидящем здесь! И во мне…
* * *
(Обращаясь ко мне, со смеющимися глазами):
– Ты, функционер…
* * *
(Гневно):
– Они меня «пацифистом» называют… Да я же наношу удары направо и налево! Какой же я пацифист?
* * *
Проходит год, вместивший в себя очень многое – мой развод, размен квартиры, разъезд с бывшей женой, новую свадьбу… На работе у меня всё в порядке, газету мою хвалят, хотя с цензурой порой приходится вступать в настоящие сражения; первая книга стоит в плане Верхне-Волжского издательства; я мечтаю о столичной книжке, часто выступаю перед ярославскими читателями. Новые стихи пишу с оглядкой на наставления Учителя: стараюсь быть искренним и думать только высокими категориями… хотя работа в газете ориентирует на прямо противоположное.
Он тоже помнит обо мне: на моём письменном столе лежит его новый сборник «Ни рано, ни поздно» с дарственной надписью: «Евгению Чеканову с пожеланием добра в нашем опасном мире. Юрий Кузнецов. 22.11.85». Вновь и вновь перечитывая эту книжку, я с радостью нахожу в ней стихи, ранее слышанные мною из уст автора, отголоски наших бесед с ним… Вот «На смерть друга», обличающее подругу Юрия Селезнёва, которая «отпрянула тенью от мёртвого тела» (я сразу вспоминаю разговор в ЦДЛ и возмущённую реплику Ю. К. «… уехала, бросив труп в Германии. Это – чёрт знает, что такое!»). Тут же – слышанное мною в тот же день «Учитель хоронил ученика…», о похоронах Селёзнева. Рядом – стихотворение «Другой», также явно написанное под впечатлением от этой смерти:
Светит луна среди белого дня.
Умер другой, а хоронят меня.
– Что за безумство! Что за безумство!
Рядом – «Знак»:
О древние смыслы! О тайные знаки!
Зачем это яблоко светит во мраке?
Разрежь поперёк и откроешь в нём знак,
Идущий по свету из мрака во мрак
И первый убийца на этой земле
Несёт, как проклятье, его на челе.
Из памяти моей тут же всплывает забытый было разговор с Юрием Поликарповичем об этом стихотворении:
– …они там, в издательстве, мне говорят: «Резали мы это яблоко – ничего не понимаем». Я им говорю: «Как вы резали? Там же ясно написано: „Разрежь поперёк“»!
При этих словах он берёт со стола яблоко, на моих глазах режет его ножом «поперёк» и показывает мне одну из половинок: пять тёмных семечек на светло-зелёном фоне явственно обозначают пятиконечную звезду…
Вот мини-поэма «Седьмой» с ужасным сюжетом: семеро бандитов насилуют старуху и один из них вдруг узнаёт в ней свою мать. Осознав, что произошло, бандиты решают смыть вину кровью и убивают друг друга; оставшаяся в живых мать оплакивает детей, их кровь смывает их вину… По привычке вслух читать близким поразившие меня стихи, я читаю эту поэму своей тёще, желая удивить её сюжетом – но старая женщина, крестьянка по происхождению, сбежавшая в город и всю жизнь протрубившая «на вредном производстве», реагирует совершенно неожиданным образом:
– Я эту историю знаю! Это у нас в Ярославле произошло! Я даже место тебе могу показать, где это было!
Подумав, я прихожу к выводу, что мой Учитель использовал так называемый «бродячий сюжет» – из тех, что на Руси всюду признают своим, «тутошним»… но ведь Ю. К. ничего не пишет просто так, он всегда вкладывает в свои стихи тайный смысл. В чём же смысл «Седьмого»? Уж не в том ли, что банда мерзавцев в уходящем веке буквально изнасиловала Россию – и в этом насилии участвовал, как это ни горько признавать, самый близкий ей человек? И всем нам, детям России, так или иначе участвовавшим в унижении нашей матери-Родины, предстоит теперь смыть эту вину собственным страданием и смертью?
Вот стихотворение «Я скатаю родину в яйцо…», заставляющее меня вспомнить, что на обороте одного из присланных мне писем рукою Учителя был начертан другой вариант этой строчки – «Я скатал бы родину в яйцо…». Вот «Фаэтон», читанный мне и Дробышеву («Планета взорвана…») – эти стихи тоже явно доработаны, вот «Духи», оставшиеся, кажется, неприкосновенными. Вот «Маркитанты» и «Стихи о Генеральном штабе», читанные год назад – здесь тоже, вроде бы, нет правки. Вот «Сталинградская хроника», с изуродованной редакторами концовкой «Ганс, срывайся! Они наступают!..»; концовка эта зачёркнута шариковой ручкой – и снизу твёрдым почерком Ю. К. начертан канонический текст: «Ганс, назад! Пусть они заседают!..»
Вот «Фомка-хозяин», ранее опубликованное в одном из журналов и давящее на мою психику тёмным предчувствием опасности, исходящей от Запада:
Фомка – изрядный хозяин двора,
Но не державы.
А на закате пылает гора,
Блики кровавы.
Глянь: полыхает! Но он не глядит,
Не замечает.
– Там ничего моего не горит, —
Так отвечает…
Через несколько лет, когда империя развалится на куски, я не раз вспомню это стихотворение, это мрачное пророчество Учителя – и в который раз пойму, что он, как всякий великий поэт, обладал мощным даром предвидения, прозревал в настоящем черты будущего… а в тот момент я понимаю это стихотворение по-другому: Фомка-хозяин не должен бояться ни кровавого «Запада-заката», ни раскатов грома над головой. Пусть мир «в пропасть летит» – что нам, русским, до этого? Надо стоять на своём, как стоит Фомка:
Топнул ногой, никуда не глядит,
Не замечает.
– Там ничего моего не летит, —
Так отвечает.
Так он стоит, и не сдвинуть его
С точки завета…
Может, и впрямь не летит ничего
С этого света.
Между тем в стране – оживление; у руля имперской власти встаёт Михаил Горбачёв, провозгласивший «ускорение»… никто, правда, толком не понимает, что это такое, но все чувствуют запах некоей «грядущей весны», особенно мы, газетчики. Весной 1986 года меня вновь вызывают в Москву, на «комсомольскую учёбу» – и я вновь стремлюсь попасть в дом на Олимпийском проспекте, в гости к Учителю…
23.04.86.
Позвонил. Он спросил:
– Ты надолго?
Я обиделся:
– Ну, часа на полтора-два…
– Нет-нет, надолго в Москву?
– Послезавтра уезжаю.
Он помолчал.
– Ну… может быть, завтра?
Я согласился.
На другой день, сбежав с выступления секретаря ЦК ВЛКСМ Федосова, я устремился на поиски водки (с этим уже были проблемы, началась «борьба с пьянством»). Спросил у алкашей, где взять. Оказалось, что надо ехать шесть остановок, до улицы Строителей.
Приехал, увидел очередь… человек восемьсот, берут рюкзаками. Вернулся восвояси на Ленинский проспект и купил в «Варне» бутылку коньяка за 13–50.
Приехал на Олимпийский проспект. Меня ждали. Тут же раздался звонок, Батима взяла трубку.
– Юра! Это Катя Крупина…
Я понял, что Катюшке (17-летней дочери Владимира Крупина, студентке журфака, которую отец прошлым летом присылал ко мне в газету на практику), не терпится «позвонить на квартиру самому Кузнецову» – она тоже обожала его стихи.
Ю. К. сказал восхищённо:
– Ну, ты даёшь! Не успел войти, тебе уже звонят… Иди, бери трубку!
Поговорил с Катюшкой минуту, потом с Батимой – она всё удивлялась: неужели у Володи Крупина уже такая большая дочь?
Сели с хозяином в кресла. Он, как всегда, холодно помолчал минуты две, потом улыбнулся и спросил, как моя молодая жизнь. Я сказал, что отпустил жену в Питер, в аспирантуру, к античнику Фролову на обучение. Он хмыкнул:
– Что ж это за молодая семья?
– Я не мог разбить её мечты…
Разговор не вязался, я достал коньяк. Ю. К. матюгнулся. Сказал, что он пьёт только водку, но все почему-то идут к нему с коньяком – и только с этим, азербайджанским. Водки-то в магазинах нет, вот все и покупают коньяк…
– У тебя ещё ничего, за 13–50. А то все несут за 11–50, это – нечто убийственное!..
Заметил, что мне придётся выпить львиную долю, ибо он «сбавляет обороты». Батима принесла закусь. Привычно пожаловалась:
– И вы с бутылкой? Хоть бы один пришёл без бутылки…
Выпили, стали говорить. Он сказал, что сегодня в 21.40 его будут показывать по телевизору, он прочтёт и мои стихи (если не вырежут). Спросил, читал ли я дискуссию о нём в «Литературной газете».
– Нет. А кто спорит?
– Рассадин. Злобная статья…
– А за вас кто?
– Валентин Устинов.
– Это хорошо, что он стал секретарём, – заметил я, – он вас любит…
Он помолчал.
– Зато меня другие секретари не любят, большие. Исаев… Я его, кстати, ругнул, когда записывали на телевидении. Вырежут…
Я спросил, какое сейчас время.
– Для меня-то хорошее. Стаж всё-таки. А молодые стонут…
Пошли речи о том, кто его душит.
– «В „Вопросах литературы“ очень злобная статья обо мне. Сколько злобы кругом…»
– А Друнину – натравили, или она сама? Тогда, в «Правде»…
– Конечно, натравили! Олег Чухонцев… я не знаю, конечно, как он ко мне относится, полагаю – лояльно… он сказал, что её после этого выступления – вообще больше нет. Не существует!
– Но хоть кто-нибудь в вашу поддержку выступает?
– Да есть… – ответил он нехотя. – Даже в ту же «Правду» предлагали материал обо мне… Евгений Осетров. Отвергли… Ещё профессор Фёдоров из Донецка пишет, поддерживает… Палиевский? Ну, он больше по прозе. Ильин? Да… Лавлинский? <…> Аннинский? <… >
– Но он же вас в «Венке критических сонетов» высоко поднял…
Ю. К. (усмехаясь):
– Он не может мне простить «Маркитантов»…
– А вот Дедков такой в Костроме есть… Он – кто?
Я сказал, что читал статью Кожинова в «Литературной России» о периодизации современной отечественной поэзии… Он махнул рукой:
– Ерунда всё это! Через двести лет останется только один поэт. Его и будут помнить. А кому нужны будут эти периодизации?
– А кто из молодых поэтов сейчас, на ваш взгляд, лучше всех пишет?
– Лапшин. Поэму написал. Был недавно.
– А Шелехов?
– Шелехова уже нет! Если б он мне по пьяному делу в морду дал – это бы ещё куда ни шло. Но после того, что он сделал – его нет!..
Его то и дело звали к телефону. Он вставал, извинялся, говорил, что сегодня день такой – косяком звонят.
– А много вообще у вас бывает народу, Юрий Поликарпович?
– Много.
– А чего все хотят?
– Урвать… – по обыкновению, насмешливо ответил он (и мне тут же вспомнилась его давнишняя строчка «каждый хочет урвать от огня…»). – Недавно вот звонили две девушки из какой-то области… специально приехали, чтобы увидеться. Я сказал: нет, это невозможно!
В его отсутствие мы выпили с Батимой. Она спросила, почему я разошёлся с первой женой. Я ответил, что плохо жили. Спросил, в свою очередь, почему они не приехали на свадьбу мою (я приглашал). Ответила, что лень было собираться, готовиться… Ещё я спросил, чем она занимается. Оказывается, работает переводчицей в Верховном Суде – переводит с казахского, киргизского, украинского…
Вдруг ворвался Ю. К., сунул мне книжку своих переводов Ласло Надя.
– Прочти «Свадьбу»!
И опять ушёл звонить.
Этот поступок меня растрогал: разговаривая с другими, он думал о том, чтобы мне не было скучно! Вернулся, выпили ещё.
– Моя шестилетняя дочь, – сказал я, – тоже тут недавно стихотворение написала:
Цапля ногу подняла,
Плавно опустила.
Вот какие, брат, дела —
Цапля ногу подняла!
– Ну, что ж, – заметил он с той же насмешливой улыбкой, – некоторые взрослые дяди пишут и печатают ничуть не лучше…
Я сказал, что хотел бы подарить ему сюжет – и рассказал историю о змее и солдате, которую недавно поведал мне мой водитель: как русский солдат в Афганистане приручил змею, как она однажды обвила его и удерживала, шипя, целый час – и как потом он, поседев за этот час, пошёл к сослуживцам и увидел, что все они вырезаны душманами. Он слушал с интересом, по окончании поднял бровь, усмехаясь:
– Восточный сюжет…
Потом опять вышел на кухню, откуда то и дело раздавались телефонные звонки. Вскоре оттуда донёсся его громкий рассерженный голос:
– Но ведь меня же много лет, постоянно, принципиально не желают печатать в журнале «Наш современник»! Принципиально!..
Поневоле вслушиваясь в эту тираду, я почувствовал себя несколько сконфуженно: самого-то меня в прошлом году в этом журнале публиковали дважды. Вспомнил, что Шитиков, завотделом поэзии, в ответ на мой вопрос на ту же тему (почему «Наш современник» не печатает Кузнецова) пожал плечами и показал глазами на потолок:
– Не знаю… главный не ставит. Мы взяли у Кузнецова для публикации «Сказку гвоздя»… не ставят… Это, брат, ты у начальства спрашивай, а не у меня.
Я стал бродить по кабинету Ю. К., вглядываясь в названия книг. Нагло бросил взгляд на его бумаги, лежащие на письменном столе, пробежал глазами несколько строчек… Как раз в это время он вернулся. Я спросил, кивая на бумаги:
– А разве «Сказка гвоздя» и «Пролог» – это часть одного целого? Я и не предполагал…
– А вот это уже нельзя, – сказал он мягко, но строго. И решительно отогнал меня от стола.
Допили коньяк, пошли смотреть телевизор. Он предполагал, что сюжет о нём вообще выкинут, – но вдруг, после Кондратьева и Быкова, на экране появились он и Кожинов. Вся семья радостно загудела и засмеялась: наша берёт! Папу по телевизору показывают!
Ю. К. прочитал несколько своих стихотворений, а потом моего «Стража». Сказал, что я, конечно, не свободен от заимствований, но в лучших стихах…
Это был триумф! Я бросился к телефону, позвонил Катюшке:
– Видела?
– Да! Да!
Звонили ещё какие-то люди, поздравляли Ю. К. Позвонил Кожинов. Я набрался наглости, попросил у Ю. К. трубку, поздоровался с Вадимом Валериановичем и попросил разрешения прочесть стихотворение. Тот сказал, что со слуха не воспринимает, и что если бы я не уезжал, то мы бы познакомились…
Потом говорили с Ю. К. о моём «Страже». Я сказал, что он навеян известным памятником в Мурманске. Ю. К. отозвался о памятнике резко отрицательно:
– Гадость! Истукан!
Я стал объяснять, что я писал, конечно, о другом, хотел передать то-то и то-то… Он оборвал:
– Ну, будем считать, что ты писал не об истукане.
Пора было уходить.
– Когда появишься опять?
– Не знаю. Может, осенью…
– Машина у тебя есть?
– Да… А что?
– Да… я думаю – может, и приехать когда бы в Ярославль. На рыбалку там…
– На рыбалку? Ну, это можно устроить!
– Да нет… не надо ничего устраивать. С удочкой посидеть, так просто… Да ладно!
Кажется, именно в этот мой приезд Батима провожала меня до трамвая (ей было по пути), разговор зашёл о семейной жизни.
– Трудновато вам с Юрием Поликарповичем, – осторожно заметил я. – Пьёт он много… такие, как я, наверно, валом к вам валят…
Батима махнула рукой:
– Я своим детям ещё давно сказала: «Ваш папа – гений, ему позволено всё!»
Через час из гостиницы я звонил Катюшке, пьяным и счастливым голосом рассказывал ей обо всём…
Через месяц, в майском номере «Нового мира» появляется письмо Марка Соболя «Прошу слова», адресованное Юрию Кузнецову: старый поэт-фронтовик нападает на моего Учителя за несколько строк о стихотворении Симонова «Жди меня» (несколько раньше в «Литературной учёбе» Юрий Поликарпович квалифицировал это стихотворение как агрессивный эгоизм чистой заморской воды, не имеющий ничего общего с народным воззрением на любовь). Соболь мечет громы и молнии, жалеет, что «дуэли отменены, а пощёчины подсудны», а затем в жалких, кое-как зарифмованных строчках наступает Юрию Поликарповичу на «больную мозоль»: напоминает, что он, Соболь, как и погибший на фронте отец Кузнецова, тоже воевал. И подначивает:
Ну, а вдруг с отцом его делили мы
На двоих табак да котелок?
Уверенный в том, что публикация письма Соболя – спланированная акция, призванная спровоцировать моего Учителя на ещё более резкие высказывания, я с трепетом ожидаю продолжения этой полемики. Слава Богу, скандал затухает в зародыше: видимо, Ю. К. просто не счёл нужным далее продолжать разговор. Тем более что по существу дела Соболь не сказал ничего, ловко подменив тему: Юрий Поликарпович говорил о мировоззренческом расхождении симоновского стихотворения с народным взглядом на любовь, а Соболь заявил, что критиковать «Жди меня» – значит кощунствовать.
Выстрел «Нового мира», таким образом, не достигает цели; лёгким эхом чуть позднее, на 8-м съезде писателей СССР прозвучит злобная реплика Друниной, половину своего выступления посвятившей нападкам на Кузнецова (что-то там такое об отважной фигурке Соболя, одиноко взлетевшей на бруствер и никем не поддержанной), – но на этом дело и кончится. Впрочем, мне предстоит узнать об этих «невидимых миру» боях только через два года, когда будет опубликован стенографический отчёт писательского съезда. Пока что я осознаю только одно: война продолжается, и мой Учитель – на переднем крае.
Осенью 1986 года я с помощью Сергея Хомутова «пробиваю» ещё одну свою книжку – она должна выйти через год в Москве, в библиотечке журнала «Молодая гвардия»; редактор – Игорь Жеглов. Юрий Поликарпович благосклонно соглашается написать к этой книге вступительное слово. Кроме того, стихи мои должны через год появиться ещё в двух коллективных сборниках издательства «Современник», надеюсь я и на публикацию в новом «Дне поэзии». Начиная с весны 1985 года, меня регулярно публикует в «Нашем современнике» Сергей Викулов (а тираж у этого журнала вдвое больше, чем у «Дня поэзии» – аж 220 000); проскакивает подборочка в «Волге»; на подходе давным-давно поставленная в план Верхне-Волжского издательства книга стихов «Ночная тревога»… я начинаю всерьёз подумывать о вступлении в Союз писателей СССР и о будущем уходе на «вольные хлеба». В трудах и ожидании проходит год.
И вот наступает осень 1987 года… мы с женой возвращаемся из поездки на юг и вдруг в вагоне я вижу девочку-подростка, читающую мою первую столичную книжку «Осветить лицо». Значит, книжка уже вышла в свет? Я узнаю её по давно известному мне рисунку: на юное лицо набегает лунный лик… всё-таки слишком прямолинейно понял художник название! Ну да ладно, самое главное – книжка уже появилась в продаже, её покупают и читают! Я выскакиваю на перрон на каждой остановке – и вот, наконец-то, в одном из киосков «Союзпечати» покупаю единственный имеющийся там экземпляр. Вот она!.. я держу в руках первую собственную книгу, изданную в Москве! Вновь перечитываю свои стихи и, в который уже раз – предисловие, написанное Учителем:
«Приход каждого молодого дарования всегда радует: ещё одна надежда, ещё одно обещание. Правда, радость тревожна: а исполнится ли обещание? Это покажет время.
Евгений Чеканов обещает. Он не блуждает в метафорических туманах, не вязнет в рутине абстракций, а ищет точного слова. Видение его не расплывчато, а конкретно, у него верные ориентиры: родина, добро, правда. Родина даёт ему твёрдую почву под ногами, а добро и правда – свет и путь.
Конечно, по пути в страну поэзии не обошлось без посторонних влияний, но Чеканов строг к себе и намерен их преодолеть. Стих его предметен, зорок, чётко сфокусирован, бытовые сцены, житейские мелочи, полные потаённого смысла, следуют в стихах одно за другим, как кадры в кино. Он хочет много схватить, увидеть. При этом молодого задора и напористости ему не занимать.
Я всё начинаю сначала,
Я снова хочу побеждать.
Он по натуре боец и хочет побед. Похвально. Но есть ли они у него? Есть. Впрочем, пусть об этом судит читатель. Я укажу одну безусловную победу. Это стихотворение „Страж Заполярья“.
Имя есть. Но не так уж и важно,
Как потомки его нарекли.
Быть осталось ему – только стражем
Этой каменной русской земли.
Только стражем! Ни милым, ни мужем,
Ни весёлым и сильным, отцом…
Эти облики вымело стужей
И сожгло беспощадным свинцом.
Тут и сила, и мужество, и беззаветная преданность Родине, а главное – краткость. Так оно и должно быть: большое чувство немногословно.
Юрий Кузнецов».
Проходят ещё три недели; я еду в Москву на очередную «комсомольскую учёбу», везу с собой предназначенные для дарения экземпляры обеих книжек («Ночная тревога» тоже уже вышла в свет) и шесть бутылок водки – напряг со спиртным в стране продолжается.
30 сентября вновь попадаю на Олимпийский проспект, вновь поднимаюсь на 15-й этаж… а спустя примерно месяц записываю для памяти, «как оно было».
…10.87.
Вновь та же квартира, та же комната. Батима с кухни здоровается со мной, как со старым знакомым. Да я и есть старый знакомый!
– Вы ещё не член Союза? – спрашивает она.
– Нет ещё. Собираюсь только.
Ю. К. в добром расположении духа.
– Ну, как там «ускорение» у вас идёт? – спрашивает он насмешливо.
– Да так… – машу я рукой.
– А ты знаешь, что в переводе с восточных языков означает «ускорение»?
– ?
– «Пилить струны»!
– «Пилить струны»?
– Да!
– Как это?
– Ну, струны… их обычно перебирают, создавая музыку, гармонию… А тут пилят! – и он делает движение рукой, будто что-то пилит ножовкой.
Тут уж и до меня доходит – и мы вместе с ним хохочем.
– Ну, что – вышла твоя книжка?
– Вышла… – Я открываю дипломат, подаю ему «Осветить лицо». Заодно и бутылку водки ставлю на стол.
– Ага… – листает он мою книжечку. – Это что ж такая тоненькая? Это разве книжка? Сколько листов? Один и три… Что, много вырезали?
– Да вроде нет… А вы посмотрите – ваше предисловие не сократили?
Внимательно читает.
– Нет, всё так… А твой редактор говорил – трудно идёт, будут резать. Ну, что ж… вон тебе комсомол даже свечку на обложке нарисовал!
– За полгода вышла, – хвастаюсь я. – А у вас ничего вскоре не выходит?
– Какой быстрый! – качает он головой. – Поднимает рюмку. – Ну, давай! За твои успехи!
Закусываем. Разговор идёт о членстве в Союзе писателей. Ю. К. говорит, что хотя бы одну рекомендацию надо брать у себя в организации. Правда, бывают и исключения. Например, он дал не так давно рекомендацию Юрию Доброскокину: того в Воронеже душили, не принимали, и он прошёл в СП, минуя Воронеж.
– Да и у меня тоже… неизвестно, как будет, – замечаю я. – Есть враги…
Речь заходит о приёмной комиссии СП РСФСР. Юрий Поликарпович перечисляет всех, кто, кроме него, туда входит.
– Ну, а всё-таки русские люди перевес имеют?
– Разные есть… Вон Романов, вологодский… Недавно такую чушь нёс! Это ж уши вянут, что он говорит!
– Так ведь и у нас такие же! – кричу я, уже опьяневший. – И у нас! Бездари! А всех талантливых называют жидами!
Выпиваем ещё по стопке. Я спрашиваю, каково его мнение о Емельянове, о «Памяти».
– Читал я эту «Десионизацию»! – машет он рукой. – Да ну… Что, до Емельянова никто с Сионом не боролся? И с масонством тоже… Ты что же, хочешь под знамёна Емельянова? Брось… Начни-ка его внимательно читать – обнаружишь ложь. Там у него богатырь кресты с церквей сбивает из лука… Это что же – и Сергия Радонежского долой? Прокол! Начнёшь дальше читать – опять прокол… «Единый антимасонский фронт»… Да он же сам масон! Ы? Сам масон!
Смеётся, показывая золотые зубы. Он удивительно смеётся – сразу становится похожим на лопоухого мальчишку.
Разговор о «Памяти» продолжается. Я рассказываю ему то, что Вячеслав Кузнецов однажды рассказал мне и Вовке Кудрявцеву – как «Дим Димыч» в своё время их, «отцов „Памяти“», выщелкал из «Памяти».
– Вот, ты даже так знаешь… – удовлетворённо говорит Ю. К. – Я этого не знал. Я вообще далёк от этой «Памяти». Васильев этот… он своим крайним антисемитизмом, может быть, всё дело портит, своими криками…
– Может, это провокация? – предполагаю я. – Специально такого Гапона новоявленного подталкивают, чтобы опорочить всё движение…
– Ну, я не знаю. Это ты политик, – смеётся Ю. К. – А я всего лишь идеолог…
Выпиваем ещё. Разговор идёт.
– Пишут про вас опять, Юрий Поликарпович, в «Литобозе».
– Ругают?
– Хвалят.
– Не читал. Раньше всё читал, что обо мне писали, а потом бросил.
– А Глушкова половину книги вам посвятила. Хлещет вас, что есть мочи.
– Это личное, – убеждённо говорит он. – Она сначала очень мной интересовалась, всё ходила, указывала мне, что писать, что не писать, командовать начала. Это не говори, это говори, туда ходи, туда не ходи… Мне надоело, я сказал: «Вон!..»
Ю. К. делает мощный жест. В эту минуту он величественен.
– «Вон!..» – говорю. С тех пор она на меня и злится…
Я дарю ему «Осветить лицо» с дарственной надписью «Моему любимому неускоряющемуся поэту». Показываю новые стихи. Он хвалит одно, о старухе, плетущейся с рюкзаком, но рекомендует усилить его следующим образом: «жизнь стоит на месте» заменить на «мы стоим на месте».
– Мы стоим, а она всё-таки идёт! Ы?
Говорит, что написал недавно эссе о женской поэзии, даёт мне его прочесть. Мне западают в память строчки: «рукоделие – тип Ахматовой, истерия – тип Цветаевой…»
Домой я добираюсь на «автопилоте»: всё-таки выпили мы с ним на двоих литр водки. Правда, закуска была…
* * *
Середина ноября 1987 года; наверху – некоторый откат назад от «перестройки» и «гласности», Ельцина из верхнего эшелона выкидывают. Вообще, кажется, возвращаются прежние времена: из обкома ВЛКСМ мне поступает указание перепечатать из «Комсомольской правды» статью ведьмы Лосото «„Божественная“ полемика». Я не верю секретарю обкома комсомола, сказавшему мне об этом, звоню в Москву заведующему сектором печати Юрию Пилипенко: правда ли это?
– Правда, – говорит он. – Это – указание вышестоящих товарищей…
Впрочем, всё это меня не так уж сильно трогает. Я занят своими делами: пишу стихи, готовлю документы для вступления в СП СССР, вечерами усердно читаю книгу Сергия Нилуса «Близ есть при дверех», данную мне на несколько дней под страшным секретом. В эти дни мне на новой квартире ставят, наконец-то, телефон – и я звоню Ю. К., чтобы сообщить ему свой номер.
– Юрий Поликарпович!
– Да.
– Это Чеканов.
– А! Здорово!
– Мне телефон поставили. Вот звоню, чтоб вы записали номер.
– Ага. Сейчас. Ну, как твои дела?
– Рекомендации собираю. До Нового года велели сдать.
– Ага. Ну, хорошо. Как молодецкие силы?
– Втянули головы. И смотрят, что там у вас происходит.
– А! Как черепахи?
– Ага. Ну, вы пишете?
– Кое-что.
– Нет, номер записываете?
– Сейчас, вот ручку принесут. Ну, давай… Та-ак… Ну, хорошо.
– Звоните, если что. Извините, что побеспокоил.
– Ну, давай!
В декабре политическая ситуация в стране становится ещё более тягостной. Один из моих сотрудников, съездив на слёт «неформалов», рассказывает ужасные вещи. В своём дневнике я записываю:
«…происходит то, чего и следовало ожидать, – они хотят сломать государство… Их враги – государство и „великорусский шовинизм“. А „неформалы“ эти – альтернатива прогнившему комсомолу. На слёте этом, оказывается, прямо говорили о том, что в середине 90-х годов у нас будет гражданская война… Похоже, что в стране налицо противоборство четырёх сил <…> Есть, конечно, и другие группировки, но эти видны невооружённым глазом. У них имеются даже свои собственные журналы и газеты. На Ярославском моторном заводе недавно произошла стачка, была демонстрация. КГБисты у нас в редакции выступали, заявили: „Это – не наше дело, пусть сами там, на заводе, разбираются…“»
За политической ситуацией я, таким образом, кое-как слежу и некоторые тенденции, кажется, улавливаю – но все мои душевные устремления направлены по-прежнему к литературе. В это время я получаю письма от Владимира Бояринова и Петра Палиевского: оба пишут мне добрые, хорошие слова. Палиевский, как и Юрий Поликарпович в своё время, отмечает в лучшую сторону стихотворение «Враг» (то бишь «Эпизод»), а Бояринов присылает книжку с дарственной надписью. Присылает свою книгу и литовский поэт-верлибрист Витаутас Бложе, с которым я несколько лет назад познакомился, когда лечился в Друскининкае, – Бложис меня очень любит и ценит.
14 января 1988 года на собрании ярославских писателей меня «на ура» принимают в Союз писателей – из 17 присутствующих 17 голосуют «за». Таким образом, начинает сбываться моя многолетняя мечта – стать членом СП СССР. Теперь можно готовиться и к уходу из осточертевшей журналистики… я начинаю было вести тайные переговоры о своём переходе из газеты в краевое книгоиздательство, на пост главного редактора. Но вскоре приходит весть: коллектив издательства против меня, мешает моё газетное амплуа «агрессора».
Весной того же года я готовлю рукопись третьей поэтической книги для издательства «Современник», отдаю стихи в журналы «Москва» и «Молодая гвардия», где мне благоволят; в мае еду в Мурманск на семинар молодой поэзии Севера. В сентябре меня принимают в СП СССР уже в Москве. А в октябре я совершаю поездку к автору рецензии на мою грядущую третью книжку – поэту Виктору Лапшину. Живёт он в Костромской области, в городе Галиче; увидевшись как-то на одном из писательских сборищ, мы договорились встретиться – и вот я еду к человеку, который, как и я, «вырван из бездны» Юрием Кузнецовым…
…Проходят почти полтора года, в течение которых мне доводится раз пять-семь побывать в гостях у Юрия Поликарповича. Разговоры с ним я уже не записываю (о чём впоследствии очень сожалею), ибо считаю, что ничего нового к его портрету мои записи более не добавят. Я уже называю его на «ты» и разговариваю с ним почти на равных; наши встречи проходят по одному сценарию – мы пьём, закусываем, обсуждаем его и мои стихи, треплемся обо всём на свете…
Во время одной из встреч я рассказываю ему о своей поездке к Виктору Лапшину, живописую детали этой встречи, рассказываю о Витином сыне-инвалиде. Внимательно выслушав, Ю. К. морщится:
– Правильно я не поехал… он ведь приглашал меня. Я – очень впечатлительный… очень впечатлительный! Правильно сделал…
Осенью 1989 года выходит в свет его очередной сборник «После вечного боя». Я нахожу в нём стихотворение «Голубь» – и сразу вспоминаю рассказ Ю. К. о мальчике из еврейской семьи, который кричал прохожему, отобравшему у детей голубя: «Дяденька, что ж вы делаете, его ж продать можно!» Раздумье моего Учителя о глубинных корнях такого поведения (откуда это в них? почему это так глубоко в них?) вылилось в стихотворении в чеканные строки, проникнутые христианским мироощущением:
Курчавый Ицек подскакал, как мячик,
И человека начал осаждать:
– Отдайте мне!
– Зачем тебе он, мальчик?
– Поймите! Я бы мог его продать!
Звенело что-то в голосе такое
Глубокое, что вздрогнул человек.
– Пускай летает, – и взмахнул рукою.
– Пускай летает! – повторил навек.
Всё видела и слышала старушка,
Дремавшая у господа в горсти.
И, как в бору печальная кукушка,
Запричитала: – Боже, возврати!
Так, значит, есть и вера, и свобода,
Раз молится святая простота
О возвращенье блудного народа
В объятия распятого Христа.
Для меня эти строки становятся почти открытием: неужели Юрий Поликарпович всерьёз верит, что иудаизм – всего лишь «заблуждение» евреев, что Христос, раскинувший в вечной крестной муке свои руки, до сих пор ждёт, что в его объятья возвратится и «блудный народ»? Может быть, и так… хотя в самом стихотворении об этом возвращении молится не автор, а старушка (олицетворяющая, естественно, русских). Автор же убеждён только в том, что «есть и вера, и свобода» – и применительно к поднятой теме это, наверное, можно понять так: эта вера и свобода есть, прежде всего, у нас – русский православный народ доселе верит, что путь к Христу для евреев не закрыт, свободен, мы верим, что именно по этому пути они, в конечном счёте, и пойдут…








