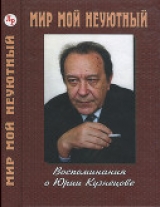
Текст книги "Мир мой неуютный: Воспоминания о Юрии Кузнецове"
Автор книги: Вячеслав Огрызко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Евгений Чеканов. Мы жили во тьме при мерцающих звёздах
Как соотносится увиденное, услышанное и прочувствованное – с запечатлённым на бумаге? не бесплодны ли наши попытки передать с помощью чёрных иероглифов то, что живёт в памяти и сердце? Наиболее глубокие люди отвечают на этот вопрос однозначно: да, бесплодны. «Не поймать на лету ветра буйного, – сокрушённо вздыхает русская поэзия устами Алексея Толстого, – тень от облака летучего не прибить гвоздём ко сырой земле».
И всё-таки мы вновь и вновь пытаемся поймать ветер и приколотить тень. Что это с нами? уж не потому ли мы столь упорны в своих бессильных попытках, что не владеем никаким другим ремеслом, кроме сочинения текстов? Но если любой текст изначально обречён оказаться в лучшем случае бледной копией жизни – тогда зачем писать? не лучше ли просто жить, коль уж нам выпала эта доля? Жить, утопая в живой воде каждого мгновения, не тратя ни сил, ни времени на бесполезное сочинительство…
Писание мемуаров о великих современниках, кажется, несколько оправдывает нас; мы прикрываемся благородством задачи – сохранить для потомков черты гения, поведать о том, что происходило с ним, пока он ещё не опочил в силе и славе, записать его высказывания. Но и здесь нас подстерегает та же ловушка: гений есть такое же явление природы, как ветер и тень от облака, так же неуловим, неприбиваем, невоплощаем в чужом слове – и Эккерман, предваряя свои «Разговоры с Гёте» предисловием, не зря пишет в нём, что кажется сам себе ребёнком, пытающимся удержать в ладонях весенний ливень, в то время как живительная влага протекает у него меж пальцев.
Я, современник и собеседник недавно опочившего Юрия Кузнецова, нахожусь в той же двусмысленной ситуации. С одной стороны, двадцать лет близкого знакомства с великим поэтом прямо-таки обязывают меня оставить потомству воспоминания о нём; с другой – я отчётливо сознаю, что образ, запечатлённый в моих записках, обречён остаться лишь бледной тенью русского гения… да куда там!.. всего лишь штрихом этой тени!
И всё-таки даже с тенью дело обстоит не так-то просто. Словно наяву, вижу я выплывающее из тумана времени лицо моего Учителя; его крупные губы кривятся в вечной пренебрежительной ухмылке и произносят что-то вроде:
– Ты наивен… Что такое «тень»? Тень тоже материальна. Я даже попросил вырыть в ней мою могилу!.. помнишь?
Я киваю в ответ: да, я помню, Юрий Поликарпович… И память тут же уносит меня на четверть века назад, во вторую половину прошлого столетия. Вижу себя двадцатидвухлетним, с буйной шевелюрой, студентом-третьекурсником очного отделения истфака Ярославского университета, обожателем солженицынского «Ивана Денисовича», читателем каждой новой вещи Шукшина, Белова, Быкова, Трифонова. На дворе 1977 год, у кормила имперской власти стоит Леонид Брежнев, о котором народ рассказывает массу анекдотов; в Ярославле голодновато, в магазинах лежат лишь консервы «Завтрак туриста», но столица империи рядом – и я раз в месяц привожу оттуда на электричке («длинная, зелёная, пахнет колбасой») полный рюкзак московских продуктов. Деньги на это дают родители, полгода тому назад переехавшие из райцентра в Ярославль и купившие в Тверицах, на самом берегу Волги, половину деревянного дома с яблоневым садом; я живу в одной комнате с отцом и матерью, и уже поэтому прихожу сюда только ночевать. Да и дел у меня – выше головы: каждым вечером я встречаюсь с друзьями, пью с ними дешёвые вина и болтаю о литературе и искусстве, иногда попадая после этого в отделение милиции или вытрезвитель; кроме того, каждый день грызу гранит науки, посещаю лекции в «альма матер», иногда конспектируя их, но чаще читая под монотонный голос преподавателя свежий номер «Нового мира» или «Дружбы народов». А ночью, облачившись в фуфайку и валенки, пишу в холодной кладовке рассказы и дорабатываю свою первую повесть (её, вроде бы, хотят опубликовать в местном коллективном сборнике).
У меня есть девушка, которая через год станет моей женой, мы встречаемся в «гостевом режиме»; в перерывах между альковными ристалищами я пою ей песни Высоцкого и Окуджавы, хрипя под первого и подвывая под второго, а потом декламирую свои собственные стихи, полные недоверия и неуважения по отношению к власти. Девушка, дочь колхозного тракториста и доярки, слегка подтрунивает надо мной, но словам моим верит… да и как не верить? ложь и глупость власти видна каждому здравомыслящему человеку, вся общественная атмосфера пропитана скрытой критикой режима. Естественно, Контора Глубокого Бурения не дремлет, всякий человек, мыслящий критически, взят ею на учёт; а к таким, как я, позволяющим себе без санкции парткома и комитета комсомола вывешивать в стенах факультета поэтические стенгазеты, она даже время от времени подсылает разбитных молодцев, студентов юрфака, «поболтать за жизнь, почитать новые стихи» – и я, святая простота, болтаю, читаю…
Именно тогда я и натыкаюсь в одном из номеров «Литературного обозрения» на цитату из дотоле неизвестного мне поэта Юрия Кузнецова, которая вспыхивает в моём сердце, озаряя неведомые прежде глубины. Это строки из стихотворения о стоящем на смолистом холме могучем дубе, в котором вдруг, откуда ни возьмись, поселилась нечистая сила:
Изнутри он обглодан и пуст,
Но корнями долину сжимает.
И трепещет от ужаса куст
И соседство своё проклинает.
«Боже мой! – восклицаю я, – так вот как, оказывается, можно „обо всём этом“ сказать! Но кто это такой – Юрий Кузнецов? Где найти его стихи?»
В областной библиотеке книг Кузнецова не оказывается; лишь летом следующего, 1978 года я вижу в продаже только что вышедший его сборник, – белый, с ласточками на обложке, – и, мгновенно проглотив его, на всю жизнь влюбляюсь и в эти стихи, и в их автора. Высоцкий и Окуджава оттесняются на периферию моего сознания, я брежу новыми образами, я пишу свои вирши с новой интонацией и ловлю в прессе каждое упоминание имени человека, обладающего волшебною властью над русским словом. Вечерами я щиплю свою шестиструнку и подбираю мелодии к стихам из книжки с ласточками на обложке – эти стихи певучи, полны загадок, почти всегда трагичны, – но прекрасны.
Этим же летом мне удаётся узреть своего кумира живьём – он приезжает на ежегодный литературный праздник в Карабиху, бывшую усадьбу Некрасова под Ярославлем. Стоя в шумной толпе своих земляков, любителей «поглядеть на писателей», я напряжённо вглядываюсь в лица приехавших литераторов, чинно сидящих на дощатом возвышенном помосте, под лёгким навесом, и ожидающих своей очереди для выступления с трибуны… да не врёт ли областная пресса? Приехал ли он? Наконец, я нахожу глазами человека, отдалённо похожего на того, что изображён на фотографии в книге с ласточками на обложке… но он ли это? Тот, из книжки, вроде бы не такой крупный… Однако, больше никого, похожего на «Юрия Кузнецова», на помосте нет. Значит, это он. Так вот он какой!
Мужчина в светлой рубашке сидит, глубоко задумавшись. Кажется, он совершенно не участвует в том, что происходит вокруг, не слышит ни гремящих из микрофона на всю поляну стихов его собратьев по перу, ни плеска ответных аплодисментов… уж не работает ли он на публику, не притворяется ли этаким отшельником, постоянно погружённым в свои «мысли о вечном»? Проходят полчаса, час, а он сидит всё в той же отрешённой позе… но вот над поэтической поляной нависает невесть откуда взявшаяся тучка и из неё мгновенно сыплются крупные холодные капли.
Народ на поляне раскрывает зонты и не уходит; писатели тоже продолжают выступать – их под навесом не мочит. Но в том-то и дело, что человек в светлой рубашке сидит не прямо под навесом, а сильно выдвинувшись вперёд. Дождь льёт уже по-хорошему, а мой кумир сидит всё в той же позе… проходят минута, две – и тут кто-то из-под навеса, сжалившись, протягивает ему его же пиджак.
Это надо видеть!.. сыграть это невозможно! Человек в светлой рубашке недоумённо смотрит на пиджак, на того, кто его протягивает, озирается, бросает взгляд на небо – и только тут до него доходит, что сверху хлещет вода. Втянув голову в плечи и явно чертыхаясь, он перебирается под навес… и эта сцена производит на меня едва ли не самое сильное впечатление от поэтического праздника. Даже последующее чтение Кузнецовым своих стихов (он читает «Знамя с Куликова») не оставляет в моей душе такого восторга, какой производит «сцена с дождём». Так вот как должен вести себя истинный поэт!.. надо уходить в себя!.. не замечать ничего вокруг, кроме своих поэтических фантазий!..
Дождь и праздник заканчиваются; писатели один за другим уходят с помоста, сразу же окружаемые тесными кружками поклонников. Когда Кузнецов проходит мимо меня, я делаю несколько снимков старенькой «Сменой»… увы, этим снимкам не суждено стать фотографиями, проявленная плёнка будет впоследствии утеряна… где? когда? Не помню я и того, что происходило со мной дальше… подходил ли я к нему? пытался ли познакомиться? Помню, что с ним говорила молодая женщина, журналистка, что он отвечал на её вопросы… впоследствии выяснится, что это была Надежда Кускова, сотрудница редакции той самой областной молодёжной газеты «Юность», которую мне через пять лет предстоит возглавить. Выяснится также, что за это интервью (абсолютно, кстати, безобидное) Надежда получит от начальства некоторый нагоняй: как смеет какой-то Кузнецов говорить, что поэзия Тютчева оказала на него гораздо большее влияние, нежели поэзия Некрасова? Да ещё говорить это на некрасовском празднике! И как смеет молодёжная газета такие заявления печатать!
На меня, однако, и этот факт производит прямо противоположное впечатление: я давно с восторгом отношусь к любому, кто, по выражению моего отца, «блистает поперёк»… и ещё сильнее влюбляюсь в человека, явно наплевательски относящегося и к капризам погоды, и к принятым в обществе глупым условностям.
Оказывается, Кузнецов давно известен; вскоре я нахожу в книжном магазине стенографический отчёт четвёртого съезда писателей РСФСР трёхлетней давности, с речью Юрия Поликарповича о современном состоянии поэзии – и эта речь переворачивает мои представления о поэтическом творчестве. Я начинаю задумываться о соотношении «быта» и «бытия», открываю для себя Тряпкина и Рубцова, меняю своё отношение к Шкляревскому (прежде восторженное). Критические стрелы, понёсшиеся в Кузнецова на том же съезде, заставляют меня понять, что «там, наверху», в писательской среде идёт страшная, не на жизнь, а на смерть, война… но кто с кем воюет? о чём вообще идёт речь?
Жизнь тем временем идёт своим чередом: я женюсь, через год рождается дочь, я заканчиваю вуз и начинаю работать корреспондентом молодёжной газеты. Повесть опубликована, в местных газетах проскакивают мои стихи, в родных краях у меня появляется пусть крохотное, но литературное имя. Естественно, провинциальная известность меня не устраивает; с пачкой стихов под мышкой я еду в Москву, обхожу редакции «толстых» имперских журналов. В журнале «Юность» до разговора со мной милостиво снисходит маленький чернявый человечек со щёгольскими усиками, сотрудник отдела поэзии Виктор Коркия. Он проглядывает мои стихи, играя губами, потом выбирает одно стихотворение, читает его. Как сейчас помню, это было стихотворение «Иней».
Нет, не вернулась весна —
Это лишь яблоня в инее.
Не пробудилось от сна
Колкое дерево зимнее.
Снова почудилась мне
Ты лепестки распускающей…
Снова кристалл прозвенел —
Иней! Лишь иней сверкающий!
Сотрудник отдела поэзии морщит губы, смотрит в сторону… потом, по-птичьи наклонив голову и понизив голос, говорит:
– Э-э… гм… речь идёт о женщине?
Я утвердительно киваю, внутренне удивляясь недотёпистости собеседника: ведь это же и так ясно, из самого стиха. Но Коркия хмурит брови:
– Ну… э-э… тогда так и надо было написать… И вообще… сейчас так не пишут…
– А как же Юрий Кузнецов? Он вроде пишет…
Мой собеседник надолго умолкает, глядит в окно, затягивается сигаретой. Через пару томительных минут он, наконец, нехотя изрекает:
– Да… дорогу он проторил широкую…
Стихи мои Коркия всё-таки забирает, обещает показать их заведующему отделом Натану Злотникову… какая-то надежда на публикацию во всесоюзном журнале у меня остаётся, пусть и очень небольшая. Я тогда ещё не понимаю, куда я попал и кто беседует со мной, мне пока ни о чём не говорят имя и фамилия заведующего отделом, я по-детски верю в то, что главным критерием отбора произведений в этом журнале, как и в других, является только талант автора. Приехав домой, я разыскиваю в подшивке журнала «Юность» стихи самого Виктора Коркии, нахожу приличную по объёму подборку и с удивлением читаю беспомощные вирши:
Братские могилы,
Истины без слёз.
Значит, были силы
Лечь в ногах берёз.
Правда беспощадней
Вздохов площадей
И мундир парадный
Не висит на ней.
Как это «правда» может быть «беспощадней», чем «вздохи площадей»? Как соотносится с ней «мундир парадный», как он может «висеть на правде»? Что это за галиматья такая псевдопатриотическая? Да умеет ли этот Коркия вообще писать по-русски? читал ли он Пушкина? – думаю я потрясённо. Не-ет, в «Юность» эту я больше не ходок… Но Кузнецова всё-таки и там признают! А что, если послать стихи ему самому?
Набравшись наглости, я разыскиваю домашний адрес своего кумира и посылаю ему гору своих виршей, написанных «под Кузнецова». Адресат молчит… проходят месяц, два, три… полгода!.. и вот в апреле 1980-го, когда я уже бью подошвами армейских сапог бетонный плац «учебки» под Ленинградом, моя жена присылает мне письмо с вложенным в него ответом Юрия Поликарповича.
«
Дорогой Евгений!Давно Вам собирался написать, но как-то не получалось. Вы талантливы, для меня это ясно. Но должен сразу предупредить, что перед Вами стоит, возможно, непосильная задача: вырваться из плена чужой поэтической системы. Почти всё, что вы прислали, мог бы написать и я, кроме стихотворения „Эпизод“.
Вы обживаете чужое пространство. Это хорошо на первых порах.
Пройдёмся по некоторым стихам.
1. „Эпизод“ – наиболее оригинальное. Новый взгляд Вашего поколения на мир.
Но два замечания: в строке „Пыльный колос бережно сорвав“ не годится „бережно“. Отдавая эти стихи в „День поэзии“ за нынешний год (не знаю, что получится), я заменил это слово на „наугад“. Далее. Плоха строка „Но шум мотора заглушает звук“. Что за звук, неясно. Заменена на следующее: „Во ржи раздался посторонний звук“.
Не обессудьте за правку. Она предлагательная, рабочая.
2. „Солдат“. Много лишнего, лучше сократить и начать со строки „Не их ли очи в спину нам глядят“. Название при этом необходимо изменить, примерно: „Погибшим солдатам“, что ли. В строке „И мы чутьём каким-то понимаем“ – плохо „каким-то“, нужен эпитет.
3. „Городской сюжет“ – расхожий размер, но тут уж ничего не поделаешь.
4. „Удар“ – глагол „пульнули“ – плох, исправьте на хотя бы „вломили“. В строке „Но сжалась сумрачно душа“ плохо „сумрачно“, не нагоняйте излишнего мрака.
А вообще стихотворение типично для Ю. Кузнецова, на что Вам сразу укажут.
Общие замечания по мелочам.
„Легенда об Угличе“ неумело писана. Пластична и зрима одна строфа:
Гасли звёзды в небе тёмном,
И над головами
Пролетал петух огромный,
Хлопая крылами.
„Продотрядникам 1918 года“ лично меня ужаснула своей политической незрелостью. Что Вы знаете о роли Троцкого в этом деле? Вы просто бессмысленно повторили сведения из школьного учебника. Но поэт должен кое-что знать и дальше учебников.
„Лес“ – вариация моего „Двуединства“.
„Выпад“ – интересны две последние строки.
„Дом“ – под Кузнецова.
„Границы слова“ – хороша строчка по парадоксальности:
Как залежалое яйцо,
Оно засижено веками.
„Взгляд после дождя“ – это под Бунина.
„Жизнь в микрорайоне“ – интересны две первые строфы.
„Связь“ – это не Ваше, а чужое.
„Бегущие мысли“ – интересна первая строфа.
„Поломка“ – любопытны две первые строчки. В них зерно Вашего замысла, но замысел решён в расхожем, рассудочном плане научной фантастики. Бегите от этого „научного“ чтива, как от чумы, а не то духовно одичаете.
„Притча об отроке“ – замысел интересен, решение плохое. Подражательное стихотворение.
Об остальном почти не стоит говорить.
Пишите, присылайте новые стихи. Подавайте в Литинститут. Вам нужна литературная среда.
Приятно было с Вами познакомиться.
На всякий случай, мой телефон: 281-00-86.
Ваш Ю. Кузнецов.1. IV.80».
Так, значит, я талантлив? Значит, всё, что я написал за последние год-полтора – не блажь и не глупость, и я стою на верном пути? Значит, «так» – пишут?
Это письмо на долгие годы становится для меня точкой отсчёта, незыблемым символом веры. Страхи мои рассеиваются, как утренний туман, я перестаю сомневаться в своей творческой состоятельности. Если сам Кузнецов пишет: «Вы талантливы, для меня это ясно», чего же более желать? Нужно только работать!
Но взяться за перо всерьёз мне удаётся только через полтора года, после увольнения в запас. «Служба в Советской Армии» производит на меня шоковое впечатление: с таким бардаком, таким циничным унижением человеческого достоинства я не встречусь больше нигде и никогда. Дедовщина, казнокрадство, ежедневный идиотизм армейских буден заставляют меня сжаться в комок – и, сжав зубы, выживать… тут становится уже не до стихов. Из Заполярья в Ярославль я возвращаюсь другим человеком – и стихи у меня начинают рождаться тоже другие. Честно говоря, они мне совсем не нравятся! Правду об армии, ту правду, которую я знаю и которая жжёт меня изнутри, я в своих сочинениях сказать не могу, боюсь… а неправду мне говорить не хочется. Где же выход из этого тупика?
Поработав немного инструктором обкома комсомола, я ухожу в партийную газету, тружусь там корреспондентом отдела сельского хозяйства, получаю первую в своей жизни квартиру. Семья в порядке, дочь подрастает, начальство меня хвалит… но мне, как воздуха, не хватает публичного признания моих литературных способностей, мне хочется печататься. Вечера и ночи я отдаю сочинению стихов, осмысляя в них то, что произошло со мной в минувшие полтора года, вновь переживая в своём сердце и ужасы казарменного быта, и счастливые моменты побед… и «Юрием Кузнецовым» в этих стихах совсем не пахнет. Мне даже немного стыдно посылать их своему кумиру; но кто же другой сможет оценить их по достоинству? ведь я больше никому не верю, ничьему мнению не доверяю! Что с того, что в ярославском отделении Союза писателей СССР мои армейские вирши хвалят? ещё неясно, радоваться мне, или огорчаться этому обстоятельству…
В апреле 1982 года я получаю от Юрия Поликарповича новое письмо:
«
Дорогой Евгений!Стихи порадовали. Армейский цикл самостоятелен. Конкретный материал дал себя знать. Лучшее стихотворение „Страж Заполярья“. Это, конечно, вершина.Что касается, так сказать, стихов общего плана, то Вы пока ещё не вышли из „магнитного“ поля моей системы. Избавляйтесь от Ю. Кузнецова во что бы то ни стало. Не читайте его, т. е. меня, я Вам мешаю.
Показывал Ваши стихи литературоведу и критику В. Кожинову. Он отметил „Страж Заполярья“, высказать определённое мнение не мог, только сказал, что Вы ещё не „проявлены“, что Вам необходимо сделать рывок вперёд, чтобы обрести „лица необщее выраженье“. Что ж, я с ним целиком согласен.
Сейчас Ваши стихи переданы в журнал „Наш современник“. Не знаю, что из этого получится, но надо надеяться…
Напишите о себе, присылайте ещё новые стихи.
Желаю удач. И надеюсь.
С приветом!
Ю. Кузнецов.10.04.82 г.Р. S.Если случайно окажетесь в Москве, не забудьте мой телефон: 288-26-80».
Это письмо заставляет меня окончательно уверовать в свои силы. Я говорю себе, что раз меня хвалят за армейский цикл «с двух сторон», то ошибки быть не может – вот так, с этой интонацией, таким стихом и следует мне писать, чтобы «проявиться» и стать, наконец-то, подлинным «Чекановым». Имя Кожинова мне уже кое о чём говорит: я читал его «Книгу о русской лирической поэзии XIX века» и осознаю уровень этого учёного, понимаю, насколько высоко он поднимает планку своих требований к литературному произведению. Осенью того же года я покупаю книгу Вадима Валериановича «Статьи о современной литературе» – и буквально проглатываю её; а статью, посвящённую моему кумиру, перечитываю несколько раз. «Чёрт возьми! – говорю я себе, читая о критических баталиях вокруг стихов Кузнецова, – как же мне повезло тогда наткнуться на ту цитату из „Дуба“… значит, у меня и впрямь есть чутьё на талантливый текст? значит, я чувствую русское слово?»
Книга Кожинова побуждает меня найти и прочесть стихи Прасолова, Казанцева, Соколова, Куняева, перечесть Рубцова и Тряпкина, я смотрю теперь на этих поэтов гораздо более уважительно, нежели прежде… и всё же имя Юрия Кузнецова продолжает для меня сиять на литературном небосклоне не как самая яркая звезда среди прочих звёзд, а как Солнце, прогоняющее с неба все остальные звёзды. Да, Солнце – тоже всего лишь звезда, и причина её огромности и избранности для нас состоит, быть может, единственно в её близости к нам, – говорю я себе, – а Юрий Кузнецов – всего лишь поэт… но как же он сумел стать таким огромным, таким близким мне? и только ли мне?
В начале зимы 1983 года местный графоман, воображающий себя писателем и постоянно курсирующий между Ярославлем и столицей, приносит мне весточку из Москвы: Юрий Кузнецов назначен якобы главным редактором очередного выпуска «Дня поэзии», крайне престижного общеимперского альманаха, издающегося стотысячным тиражом – и просит передать мне, чтобы я прислал новые стихи, так как имеющихся «не хватает до целой полосы».
Полоса в «Дне поэзии»? Да я и мечтать об этом не мог!.. в этот альманах, кажется, ни один ярославский литератор ещё не попадал… Но правда ли это? не брешет ли графоман?
Оказывается, не брешет. В ответ на моё письмо с новыми стихами и разными окололитературными опасениями Юрий Поликарпович пишет летом того же года:
«
Дорогой Евгений!В „День поэзии-83“ предложены Ваши стихотворения:
„Военный билет“,
„На плацу“,
„Страж Заполярья“,
„Пламя“,
„Вечернее возвращение“,
„У ночного окна“,
„Улыбка матери“.
Если в июле пройдут эти стихи в ЛИТО, то можно считать, что всё в порядке.
Что касается каких-то повторений в коллективных сборниках („Истоки“ и проч.), то не беспокойтесь. Это не имеет никакого значения.
С пожеланием успехов!
Юрий К.29.06.83 г.».
Вместе с письмом мне приходит новая книга стихов Кузнецова, «Русский узел», с дарственной надписью автора:
«Евгению Чеканову на верный путь во мгле. Юрий Кузнецов, 29.06.83». Она чудесно издана; удивительные иллюстрации Юрия Селиверстова приковывают к себе, а уж сами стихи!.. Я моментально выучиваю их наизусть, читаю друзьям, пою под гитару… Буквально каждое стихотворение заставляет меня пережить целую гамму эмоций, я радуюсь появлению этой книги и факту своего знакомства с её автором чуть ли не больше, чем грядущей своей публикации в престижном альманахе.
На других фронтах меня тоже ждут в это время победы: осенью я беру в свои руки бразды правления областной молодёжной газетой «Юность», становлюсь её главным редактором. Впрочем, эта победа – пока что номинальная, подлинным главным редактором мне ещё только предстоит стать. Никогда в прежней жизни не руководя даже самым маленьким коллективом, я вдруг получаю под своё начало десяток штатных журналистов областного уровня, большинство которых весьма поднаторело за долгую жизнь в разных интригах, да и старше меня лет на десять – и мне необходимо с первых же шагов показать, кто в доме хозяин. Слава Богу, за моими плечами – служба в армии; теперь я начинаю понимать, что эта школа жизни была в моей судьбе не напрасной… После первых боёв и увольнений коллектив утихомиривается, к декабрю все проблемы сами собой рассасываются, ЦК комсомола вызывает меня по какому-то делу в столицу, – и тут происходит моя первая встреча с Учителем.
После десятка таких встреч я перестаю записывать то, что происходило, прекращаю фиксировать наши беседы, – но вначале, понимая, какой подарок преподносит мне судьба и не надеясь на память, я записываю каждый такой разговор сразу же после встречи. Двадцать лет пролежат в моём архиве эти записи, никто никогда не видел их… но вот и пришло время обнародования. Править записанное не поднимается рука, хотя нынче я, разумеется, знаю и понимаю больше, чем в 1983 году. Что ж, умный читатель всё поймёт; кроме того, всем предыдущим повествованием я, кажется, достаточно подготовил его к дальнейшему чтению – ввёл, худо-бедно, в атмосферу описываемого времени, набросал портрет автора записей, двадцативосьмилетнего автора из провинции, обрисовал степень понимания им происходивших тогда в русской литературе процессов…
Остаётся добавить, что по ряду соображений я и сейчас ещё не могу публиковать эти записи без значительных купюр… пусть кое-что останется до времени в моём архиве.
А теперь – первая запись.
5.12.83.
Решение позвонить ему пришло внезапно. Хотя, уже собираясь в Москву, я предполагал эту встречу – и потому срочно перепечатал новые стихи. Но всё же в душе не надеялся на встречу. Мало ли что, ведь вызывают в ЦК… скоро ли там всё закончится?
Я приехал в Москву в воскресенье и часов в шесть вечера, сидя в гостинице «Орлёнок», с удивлением обнаружил, что мне нечего делать.
И набрал номер…
– А кто его спрашивает? – раздался в трубке тот же самый милый женский голос, который месяц назад ответил мне, что «его нет и вряд ли до вечера будет».
Я сказал.
– Юра, Чеканов! – раздалось отдалённо в трубке. Сердце моё заколотилось.
Потом пошёл какой-то сумбур. Я спрашивал, можно ли приехать; он говорил, что устал, но чтобы я приезжал. Я в ответ извинялся и говорил, что не настаиваю на аудиенции, он повторял: приезжайте! Я ещё раз переспрашивал, он меня плохо слышал…
– Ну, приезжайте, приезжайте сейчас! Мы поговорим полчаса; я думаю, этого будет достаточно.
Внутри у меня кольнуло. Полчаса! Или он так ценит своё время, или… или это показатель его отношения ко мне?
Что ж, полчаса так полчаса.
Дверь в подъезде была закодирована и, хотя он сказал мне код, я так и не смог её открыть. Меня выручили два мужика, выходящие из подъезда.
Поднялся на 15-й этаж. Позвонил.
Он открыл дверь.
Первое впечатление: нетороплив, замедлен, холодноват. Жестом пригласил пройти. Дочка, черноволосая раскосенькая смуглянка лет трёх-четырёх, поглядела на меня и убежала. Вторая, лет шестнадцати, тоже раскосенькая, выглянула из комнаты и скрылась.
Прошли в кабинет. Он сел в кресло и протянул сигарету мне. Я не курил, но не посмел отказаться.
– Ну, так как ваши дела, Евгений… э-э… Феликсович? – сказал он нехотя и с некоей заметной иронией по отношению к моему отчеству.
– Можно без отчества, – сказал я.
– Так, я тоже так думаю.
Помолчали. Курили. Он глядел на меня, скучая. Неохотно начал спрашивать.
Я отвечал что-то.
Постепенно разговор завязался. Кажется, это произошло после того, как я признался, что приехал поглядеть на него, на живого Юрия Кузнецова.
Впрочем, я тут же оговорился, что мы с ним виделись – в Карабихе, на Некрасовском празднике поэзии. Он припомнил, что там к нему подходили двое – девушка и молодой человек. Вспомнив о Карабихе, стал рассказывать, что вообще не любит никуда ездить. И что на всех комсомольских собраниях засыпал. И что однажды директор школы, ругая его, сказал: «Как же ты, такой, в комсомол вступил?». А он в ответ директору заявил: «А я не вступал, меня насильно затащили, как всех».
– Директор ахнул! А ведь я сказал правду…
Я понял, что это – камень в мой огород, в мой комсомольский значок.
– Мне положено по штату, – отбоярился я.
Постепенно мы разговорились-таки. Пошли речи, которые я не раз уже слышал в Ярославле <…>.
Я дал ему свои новые стихи. На прощанье он сказал весело:
– Ну, комсомолец, хочешь, я тебя удивлю?
– Чем можно удивить комсомольца? – откликнулся я.
Он поднёс к моим глазам фотографию: сумрачный человек, глядящий исподлобья, волосы пострижены в скобку, глухая гимнастёрка. Подпись он зажал пальцем.
– Кто это?
– Н-ну… – неуверенно сказал я, – судя по одежде и причёске… начало двадцатого века?
– Так кто?
– Не знаю.
Он открыл подпись: Нестор Махно.
– Стенька Разин двадцатого века, – сказал он, довольно улыбаясь. – И даже переплюнул Стеньку!
Договорились встретиться через два дня, чтобы поговорить о моих новых стихах.
Первое впечатление: сумбур. Возвращаясь в гостиницу, я постоянно спрашивал себя: так кто же это? Большой ребёнок, отгородившийся от мира книжной стеной? Поэт, играющий в политическую оппозицию? Кто?
Я ехал в метро и вспоминал нашу беседу, пытаясь нарисовать для себя его портрет.
Очень ленив. Когда говорит, между словами делает большие паузы; иногда забывает мысль, ищет. Похоже, что ему всё на свете – всё равно. «Ленив и тяжёл на подъём» – точная самохарактеристика. Иногда хохочет. Поймав точное слово, складывает пальцы в щепоть и «ыкает», то есть делает неясный, что-то вроде «ы», или «эге», звук горлом: мол, так ведь, ы?
Много и охотно говорит о себе. «Кузнецовых много, но я их всех забил».
– Я читал Кожинова, – сказал я. – Поразила его статья о Трифонове. Я считал Трифонова честным, одним из самых честных…
– Кожинов его разоблачил, – сказал он довольно.
– Разве Трифонов в самом деле был конъюнктурщиком? – спросил я осторожно.
– Конечно! – сказал он без тени сомнения. <…>
Я спросил, почему взяли в «День поэзии-83» моё стихотворение «У ночного окна». Может быть, это случайность? Ведь в Ярославле его никто не понял.
– Ваши стихи отобрал Кожинов. Я ему доверяю. Так что это – не случайность.
Через два дня я позвонил вновь. Тот же расслабленный голос, вялость. «Ну, приезжайте, приезжайте…»
На этот раз дверь подъезда открылась легко.
Портрет: грузный, крупный мужчина с мясистым лицом, уши торчат, короткие чёрные волосы зачесаны назад. Рубашка заправлена в брюки. Неторопливые движения.
Мы сели друг напротив друга, в те же кресла.
Начали со стихов, но тут же отвлеклись. Больше всего ему понравились «Воскресные стихи». Правда, название ему не понравилось, он его тут же заменил на «Воскресное».
Остальное медленно, вяло ругал.
Главная претензия – быт, несопричастность к бытию. «Есть великие, высоковольтные передачи, несущие ток из века в век. К ним надо подсоединиться, подключиться. Но это дано не каждому». Он привёл в пример Василия Фёдорова:
– Он хотел «закрыть тему Дон Жуана»! Женить его! Ха-ха-ха!.. Но какова наглость! Чушь. Я еле одолел три песни. Чушь!
Короче говоря, Фёдоров не смог «подключиться».
Я стал спрашивать, как мне быть и о чём писать.
Он ответил, что не знает, что надо быть предельно откровенным, вот и всё.
Я сказал, что пишу нечто вроде книги об армии.








