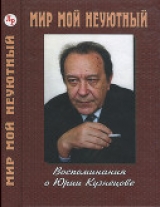
Текст книги "Мир мой неуютный: Воспоминания о Юрии Кузнецове"
Автор книги: Вячеслав Огрызко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Ну, положим, Есенин всё-таки увидел лик Горгоны (немногим этот лик отличался от нынешнего, впрочем, ещё более страшного), но недолго он смотрел на Медузу – погиб. А насчёт Блока – согласен…
Смотреть в упор на Горгону, тут не только мужество требуется – тут нужна и не уступающая ужасному омертвляющему лику сила собственного взгляда, равная силе духа. И она в Кузнецове была. И она видна – в силе его слова.
* * *
Святым отцам Церкви вторит и русская пословица – «Правда силу родит».
* * *
В предисловии к своей последней книге «Крестный путь», названном «Воззрение», нет ни слова о правде. Это само собой разумеющееся, как в жилах кровь.
Лишь несколько слов о любви:
«В двадцать лет я обнаружил святость в земной любви…
Люблю – самое расхожее слово в мире. Особенно фальшиво оно звучит на сцене… Но это табуированное слова навсегда осталось для меня святым».
В любви к Родине соединяется и земное, и неземное. Здесь табу ещё строже:
«…Потом я ушёл в армию на три года, два из них провёл на Кубе, захватив так называемый „карибский кризис“, когда мир висел на волоске. Там мои открытия прекратились. Я мало писал и как бы отупел. Я думал, что причина кроется в отсутствии книг и литературной среды, но причина оказалась глубже. На Кубе меня угнетала оторванность от Родины. Не хватало того воздуха, в котором „и дым отечества нам сладок и приятен“. Кругом была чужая земля… Впечатлений было много, но они не задевали души. Русский воздух находился в шинах наших грузовиков и самоходных радиостанций. Такое определение воздуха возможно только на чужбине… Тоска по родине была невыразима».
* * *
Наконец, высшая любовь – неземная, к Богу. Тут Кузнецов предельно скуп на слова:
«Я долгие годы думал о Христе. Я Его впитывал через образы, как православный верующий впитывает Его через молитвы…
Образ распятого Бога впервые мелькнул в моём стихотворении 1967 года – „Всё сошлось в этой жизни и стихло“. Мелькнул и остался, как второй план. Это была первая христианская ласточка. С годами налетела целая стая: „На краю“, „Ладони“, „Новое небо“, „Последнее искушение“, „Крестный путь“, „Призыв“, „Красный сад“, „Невидимая точка“ и другие.
После них я написал большую эпическую поэму „Путь Христа“. Это моя словесная икона. Последующая за ней поэма „Сошествие в ад“ – моё самое сложное произведение…»
И тут, как видим, ни оттенка декларативности. Кратчайше – пунктиром – о стихах и поэмах, что касаются Бога и Православной веры. А ведь это вехи его крестного пути, воплощённые в слове, – и какие!..
Чего стоит даже одно стихотворение, 2001 года:
Полюбите живого Христа,
Что ходил по росе
И сидел у ночного костра,
Освещённый, как все.
Где та древняя свежесть зари,
Аромат и тепло?
Царство Божье гудит изнутри,
Как пустое дупло.
Ваша вера суха и темна,
И хромает она.
Костыли, а не крылья у вас,
Вы разрыв, а не связь.
Так откройтесь дыханью куста,
Содроганью зарниц —
И услышите голос Христа,
А не шорох страниц.
Какая глубина сердечного чувства и чистота звука, какая горечь по утраченной истинной вере, какая живая надежда на возвращение к Богу!..
Это стихотворение перекликается – сквозь полтора столетия – с прекрасными тютчевскими строками:
Удручённый ношой крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.
(Хотя Кузнецов, в отличие от Тютчева, говорит не только о русских верующих и о России, но, кажется, обо всех на Земле.)
* * *
«Сильнее всего в человеке правда и любовь…»
В этих простых и бесконечно глубоких словах трёх святителей дан ответ, что есть высшая суть русского православного человека. Правда даётся любовью, а любовь правдой. Правда рождает любовь, а любовь рождает правду. Как однокоренные слова «начало» и «конец» составляли раньше цельное понятие, так и «правда» с «любовью» – одного корня, только корень этот не словесный, а духовный. Это правда наделяла Кузнецова даром так сильно любить отца, поэзию, Россию, Бога. Это любовь одарила его такой высокой правдой об отце, о жизни, о войне, о Родине, о Боге. Эти два понятия неразъединимы в нём.
Да, быть может, в чём-то Кузнецова порой и заносило в его беспощадной категоричности (тяжело на душе и даже нехорошо от его некоторых строк, посвящённых отцу, судьбе России); да, возможно, иногда его захлёстывало своей волной воображение (поэмы о Христе) – но всё это частности, исключения, не меняющие высокой сути его творчества, его правды и любви, наделившей поэта великой силой слова.
* * *
«Воззрение», последняя статья Юрия Кузнецова, целиком посвящена главному для него в поэзии – русскому мифу. «И этот миф – поэт», – заключает он. Своё «резко выраженное мифическое сознание» он рассматривает в русле русского и мирового фольклора и русской классической поэзии (захватывая, впрочем, и прозу). Это сознание поэт считает наиболее полным носителем народного духа. Согласно его взгляду, им обладали Пушкин, Лермонтов, Тютчев, в меньшей степени Державин, Боратынский, Фет. «К двадцатому веку мифическое сознание в русской поэзии измельчало», – утверждает Кузнецов, выделяя в минувшем столетии совсем немногих: Есенина, Сологуба («почти выродилось»), Клюева («застыло в догмате»), Тряпкина. (Ни слова о Блоке.) Удивительное признание о себе:
«Как поэт я больше был бы у места в дописьменный период, хаживал бы по долам и горам и воспевал подвиги Святогора. Но на всё промысл Божий. Я родился в прозаическом двадцатом веке. Впрочем, он тоже героический, но по-своему. И в нём оказался только один богатырь – русский народ. Он боролся с чудовищами и даже с собственной тенью. Но это богатырь, так сказать, рассредоточенный. Его нужно было сфокусировать в слове, что я и сделал. Человек в моих стихах равен народу».
* * *
Почему же поэт придавал такое значение мифу?
Потому что «мифическое сознание неистребимо».
Миф – явление земли и духа. Так, миф о России – явление земной и небесной Руси.
Именно земная – живая – сущность мифа особенно привлекала Юрия Кузнецова. В «Воззрении» он приводит основополагающую мысль философа А. Ф. Лосева из его «Диалектики мифа»:
«Для мифического сознания всё явленно и чувственно ощутимо. Не только языческие мифы поражают свежей и постоянной телесностью и видимостью, осязаемостью. Таковы в полной мере и христианские мифы, несмотря на общепризнанную и несравненную духовность этой религии… Как бы духовно ни было христианское представление о Божестве, эта духовность относится к самому смыслу этого представления; но его непосредственное содержание, то, в чём дана и чем выражена эта духовность, – всегда конкретна, вплоть до чувственной образности. Достаточно упомянуть „причащение плоти и крови“, чтобы убедиться, что наиболее „духовная“ мифология всегда оперирует чувственными образами, невозможна без них…»
Незадолго до смерти, в беседе с критиком Владимиром Бондаренко, Кузнецов, отвечая на вопрос: в чём творческая задача его последних поэм, сказал:
«Я хотел показать живого Христа, а не абстракцию, в которую Его превратили религиозные догматики. В живого Христа верили наши предки, даже в начале 20 века верили. Потом Он превратился в абстракцию. Сейчас верят не в Христа, а в абстракцию, как верили большевики в коммунистическую утопию».
(«Завтра», 2003, № 33)
* * *
Тут вдруг вспоминается мне одна простая старуха, что шагала передо мной с зажжённой свечой в узких тёмных катакомбах Киево-Печерской лавры. Она прикладывалась к мощам святых угодников, что покоятся там, по-домашнему приговаривая им: «Родненький! Помолись там за нас…» и шептала им что-то своё, горячее, сердечное. Видно было по всему: говорит с ними, как с самыми близкими, живыми, в полной уверенности, что её слышат и что ей помогут.
Нет, и в начале 21 века остались ещё в русском народе те, кто верит в живого Христа!..
Хотя в общем Кузнецов, пожалуй, прав: Спаситель превратился для многих в умозрительный образ, в некую абстракцию.
* * *
В той же беседе с Владимиром Бондаренко Юрий Кузнецов прямо заявил:
«Задача всего моего творчества – вернуть русской поэзии первичность, которую она утратила в 20 веке».
Вот зачем ему был нужен миф.
Миф давал живое, а не видимость живого. Литературу, а не литературщину.
Поэт отрицал любые игры рационализма под видом литературы, – а интуицию считал Божьим даром.
Привыкший доходить до конкретной первоосновы, он обращал внимание своих студентов в Литинституте на строение и функции головного мозга. Левое полушарие отвечает за речь, рацио; правое – за искусство, воображение, интуицию, чутьё. Весь мир пошёл налево, – говорил он слушателям, – а слева за плечом человека стоит тёмный ангел. Вот откуда такая пропасть рассудочных стихов: в искусстве утрачена интуиция.
* * *
Интереснейшими воспоминаниями о Кузнецове поделился после его кончины писатель и филолог Сергей Небольсин:
«Есть лад и миф, – однажды растолковывал он. – Лад – великая и прекрасная вещь; недаром и книга Белова великолепна… Так вот, лад великолепен, но он ушёл и его не возродить. Ну, не возродить, и всё! А миф остался, его труднее выветрить, и пока есть миф, есть и народ. Мифом и надо писать, я так и пишу. Миф – это тебе не разные там „как будто“. Это не „как будто ветреная Геба, кормя Зевесова орла“ и т. п., а доподлинные боги и божественные орлы, если цепляться за тютчевскую метафору. Тайна – не загадка с разгадкой, а безусловная неразрешимая загадочность чуда и его безусловная правда».
(«Наш современник», 2004, № 11)
«…Пока есть миф, есть и народ».
Русский человек – духовное понятие, – говорил Кузнецов. – Мы смешанный народ. (По воспоминаниям Марины Гах. «Наш современник», 2004, № 11)
Ученик Бахтина, литературовед В. Фёдоров ещё в 1990 году глубоко заметил: «Человек для Ю. Кузнецова – не то существо, что пребывает в малом и частном историческом времени, но целое человека (равно целому народу), которое, проявляясь по-разному в разные времена, остаётся неизменным по своей внутренней сути. Поэт как бы „собирает“ такого человека: входя в конкретную историческую эпоху, он не остаётся в ней, но и не связывает прошлое с настоящим…, а строит, созидает „большое время“, соразмерное человеку „во всей полноте его человеческого бытия“…»
Кузнецов собирал русского человека, русскую душу, собирал на самое тяжкое испытание – на последние времена.
* * *
Можно только догадываться, в каких мирах побывал он в своём воображении, что предчувствовал своей глубокой интуицией, какие мысли обдумывал своим сильным и беспощадным философским умом, что пережил своим сердцем.
Он ворочал глыбы, этот богатырь, которому Бог не дал воспевать подвиги Святогора, похаживая в дописьменную эпоху по родной земельке. Но зато Бог дал ему пойти с крестной ношей вослед за Спасителем. И поэт вполне мог прозреть в своих пророческих видениях Конец Света на Земле, когда рухнет всё, когда безумные цивилизаторы влезут с ногами в душу человека, чтобы им помыкать как двуногим рабочим скотом. Что останется у людей в эту – послеписьменную – эпоху небывалого рабства? – Только мифы.
И Кузнецов сделал то, что промыслил ему Господь на земле, – создал русский миф.
В его мифе неразъединимы и миф о России, и миф о Христе. Как неразъединим с Христом путь самой России.
Поэт совершает предельно возможный ему подвиг – наперёд спасает свою Родину и свой народ в их вероятном самом страшном будущем.
Вот это и значат, по сути своей, последние слова Юрия Кузнецова о собственной поэзии: «В моих стихах главное – русский миф, и этот миф – поэт».
«Всё, что касалось меня, я превращал в поэзию и миф. Где проходит меж ними граница, мне как поэту безразлично». («Воззрение»)
«Явление выдающегося поэта не может быть случайным событием. На мой взгляд, закончен огромный отрезок русской истории, и великая русская культура ушла на дно, как Атлантида, которую нам предстоит ещё искать и разгадывать. Именно поэтому в конце такого долгого исторического времени появился такой поэт, как Юрий Кузнецов, поэт чрезвычайно редкой группы крови. Я пытался понять, откуда происходит Юрий Кузнецов? Он, как всякое очень крупное явление, в общем-то вышел из тьмы, в которой видны некие огненные знаки, которые мы до конца не понимаем. Нам явлен поэт огромной трагической силы, с поразительной способностью к формулировке, к концепции. Я не знаю в истории русской поэзии чего-то в этом смысле равного Кузнецову. Быть может, только Тютчев?!.
Он – поэт конца, он – поэт трагического занавеса, который опустился над нашей историей. Он силой своего громадного таланта может сформулировать то, о чём мы только догадываемся. Он не подслащивает пилюлю… Он один из самых трагических поэтов России от Симеона Полоцкого до наших дней. И поэтому та часть русской истории, о которой некогда было сказано, что Москва есть Третий Рим, кончается великим явлением Кузнецова».
Так сказал поэт Евгений Рейн в своём поздравительном слове на 60-летний юбилей Ю. Кузнецова. («День литературы», 2001, № 3)
Е. Рейн – единственный писатель из «либерального лагеря» российской литературы, кто всерьёз откликнулся на явление Юрия Кузнецова. Остальные молчат, упорно, скорее систематически-дружно – словно бы приказ им такой поступил, словно нет никакого «явления» и поэта Кузнецова вовсе не существует. Поклон вам, Евгений Рейн! Хоть один нашёлся, кто любит литературу больше партийности в ней родимой. А то ведь писатели сидючи по своим станам – либеральному и патриотическому, – что греха таить, просто-напросто дичают. Перья свои уж не просто, по завету Владим-Владимыча, приравняли к штыку, а превратили в штыки, и всяк колет, рубит, режет, и чужих (как либералы), и чужих и своих (как патриоты).
Замечательно сказал в своём слове Евгений Рейн. Но кое-что почудилось мне спорным. Оставлю за рамками этих заметок серьёзный разговор, однако сказать несколько слов всё-таки надо.
Ушла ли на дно русская культура, это большой вопрос. Она же сама – океан! Ну, разбило волнами истории караван кораблей, танкеров и судов, разлились по воде нефтяные пятна, болтаются кучи трухи и мусора. Ничего, пройдёт – океан и не от того очищался. Теперь о другом, более важном: кончается ли Третий Рим? По множеству признаков, вроде бы так. (Ах, как этого желают те, кому «имя – легион».) Но и тут – как Бог даст да как народ управится с самим собой и своей державой. Но вот, действительно, вопрос: откуда, из какой «тьмы» (в которой видны «некие огненные знаки») взялся Юрий Кузнецов?
* * *
…Астраханская гадалка напророчила его будущей матери невероятное – рождение поэта – летом 1917 года. Страшный тектонический разлом русской жизни. Февраль уже размыл бастионы, монарха подлостью и обманом уже вынудили отречься от престола. Вскоре девятый вал Октября разрушил страну окончательно. Империя погибла – и возродилась уже не той. Новая, советская, – уничтожила все старые сословия. Конечно не сразу (с маху это просто невозможно) – разорила и почти уничтожила крестьянство. Погибло крестьянство (в наше время дотлевают остатки) – но прежде заговорило, создало свою литературу. Дворянской – от Державина и Пушкина до Бунина – уже не осталось, отговорили тёмные аллеи усадеб. Но Русь не может молчать. Заговорила роща золотая: Есенин, Клюев, П. Васильев. И она потом отговорила, вырубленная красным топором. Другая Русь заговорила – мужичья. Сначала был Шолохов. (В «Тихом Доне» никакой «книжности». Почти все герои – простой люд, ни у одного классика прежде никогда такого не было. Все эпиграфы – из народных казачьих песен. В романе ни на грош интеллигентщины. Ну, а если мелькнула разок «книжность» (дневники молодого Листвицкого), так то нарочно, с усмешкой, если не с презрением, – чтобы показать, как чужеродно это выморочное сознание всем тем, кто живёт настоящей жизнью на земле.) Мужик – заговорил. Отучили его петь песни, которых ему прежде вполне доставало, отняли его письменную речь, которой владели дворяне, – и он сам начал писать. Русская поэзия тоже не вся пала в камерности Серебряного века и в камерах века Советского. Началась великая война в 1941 году – и с долгом ратным взвалил на себя русский мужик и долг песенный, поэтический. Так появился Твардовский. Потом, чтобы отпеть крестьянство, явились «деревенщики»: Белов, Астафьев, Носов, Распутин. Запел стихи Тряпкин, запел песни Рубцов. Но то песни… И вот появился Юрий Кузнецов, крестьянский внук и сын солдата, – и дала о себе знать, никем и ничем не убиенная, могучая русская поэтическая мысль. Та, что идёт от Автора «Слова о полку Игореве», от митрополита Илариона, от Державина, Пушкина, Тютчева, Боратынского.
Но это пласт, так сказать, социальный.
Возьмём другой, что глубже, – религиозный. Кто в русской поэзии 19 века поднялся до духовной высоты державинской оды «Бог»? Нет ответа. Одинока и недосягаема та сияющая белоснежная вершина. Где-то рядом поздний Пушкин со своим последним циклом стихов, глубоко православных по духу. (Я не согласен с Ю. Кузнецовым, который сказал в «Воззрении», что небо Пушкина неправославно и в нём царит Аполлон с музами. Это касается разве что юного Пушкина.)
Итак, Золотой век русской литературы, русской поэзии. Могучая держава, твёрдые устои, в народе – глубокая, не рассудочная, а сердечная вера. Но высшее общество уже тронуто распадом, дворянство поражено масонской гнилью, вспенившейся в 1825 году на Сенатской площади. Чуткая к прогрессу словесность уже вольтерьянствует, поэты «шалят» с религией, играют в записные «афеи» (атеисты). Николаю I было ещё по силам «подморозить» Россию, но после него дух стал стремительно падать. Разночинная чернь изъела благородное золото века. Лишь Достоевский по-настоящему прозрел, ожидая казнь на плацу. То будущее России, что ему впоследствии открылось в пророческих видениях, было ужасом и гибелью всего самого заветного и катастрофой для народа. Но никто уже всерьёз не слушал и не понимал его пророчеств…
В следующем, Серебряном веке уже не шутки шутили с Богом, а напрямую и всяким способом заигрывали с дьяволом. Добивались его расположения. И добились. Жеманничали при этом: «Кокаина серебряной пылью / Мою молодость вдаль унесло…» Не этой ли пылью посеребрён Серебряный век русской литературы? Тютчевское «не плоть, а дух растлился в наши дни» зазвучало как нечто старомодное: всё растлилось, и весьма охотно. Богохульство, а потом и остервенелое кощунство превратилось в норму (особенно хамским это было у раннего Маяковского).
Советская власть сделала сатанизм своей идеологией. Она планомерно истребляла всех верующих. Резала по живому, выкраивая из «народа Креста» советский народ. Мелкие бесы вырвались из скучных сологубовских кошмаров и стали активистами – и влетели в кого ни попадя на своём пути. Не увернулись от них и поэты, впрочем, не особенно и береглись. Блоку в видениях примстился Христос, с католическим венчиком из роз («как кисейная барышня», – иронически усмехался Кузнецов), во главе двенадцати, по числу апостолов, грабящих и убивающих революционных матросов. Есенин повенчал белую розу утраченной веры с чёрной жабой богохульства, испохабив стены Страстного монастыря (но душа его всё же болела и ныла по Богу). Пашка Васильев, тот в молодой хулиганской удали, сшиб зачем-то крест с павлодарской церквушки. Рухнула вера, но страна была ещё сильна. Сталин железной рукой, не считаясь с жертвами, выковал мощную державу, вождь всё-таки был государственником, впитавшим с детства имперский дух России, а не партийным болтуном. Последним взлётом советской империи стала победа над германским фашизмом (с которым, впрочем, как во времена Наполеона, шла на Россию вся Европа). Очень дорогой для народа была цена этой победы, силы были подорваны. Да, еще Гагарин взлетел над Землёй!.. Но уже пришло время партийных прохвостов без царя в голове. И вскоре они сдали могучую страну и уставший обезбоженный народ – на добычу исконным врагам России.
Что же осталось в итоге?
Ни Бога, ни державы…
Вот, Евгений Рейн, из какой тьмы русской судьбы (если говорить лишь о недавней истории) произошёл Юрий Кузнецов.
Да, я ничто, но русское ничто.
«Тьма…»? О! Русская тьма, как русская душа, глубока и не всякому проглядна…
Мы тёмные люди, но с чистой душою.
Мы сверху упали вечерней росою.
Мы жили во тьме при сияющих звёздах,
Собой освежая и землю и воздух.
А утром легчайшая смерть наступала,
Душа, как роса, в небеса улетала.
Мы все исчезали в сияющей тверди,
Где свет до рожденья и свет после смерти.
(«Тёмные люди», 1997)
«… в которой видны некие огненные знаки»?
И я вошёл в огонь, и я восславил
Того, Кто был всегда передо мной.
А пепел свой я навсегда оставил
Скитаться между небом и землёй.
(«Невидимая точка», 2001)
«…Третий Рим кончается»?
Шёл старик и шатался, заснув на ходу.
– Ты откуда идёшь? – Он ответил: – Иду
Из пустыни разбитого духа.
Я строитель. Я видел, как рушилась твердь,
Как страна принимала последнюю смерть,
Вопль «спасите!» летел мимо слуха.
Вот что смог унести я с собою в горсти,
Что успел я из Третьего Рима спасти
Среди труса, пожара и дыма! —
Он песчинку в раскрытой руке показал.
– Вот твердыня! – он голосом веры сказал, —
Вот основа Четвёртого Рима!
(«Строитель», 1993)
Это русский народ говорит устами поэта.
А народ – детище Бога…
* * *
Кузнецов глядел в упор на эпоху, не отводя глаз, и видел всё. Духовная разруха, опустошение душ, крах государственности, падение в бездну распада, вырождающийся и гибнущий народ…
Невыносимой болью насквозь пронизаны его стихи, и особенно в последние годы жизни.
Вон уже пылает хата с краю,
Вон бегут все крысы бытия!
Я погиб, хотя за край хватаю:
– Господи! А Родина моя?!
(«Последняя ночь», 1993)
_______
Близок предел.
Счёт последним минутам идёт…
(«Время человеческое», 1994)
_______
– Всё продано, – он бормотал с презреньем, —
Не только моя шапка и пальто.
Я ухожу. С моим исчезновеньем
Мир рухнет в ад и станет привиденьем —
Вот что такое русское ничто.
(«Последний человек», 1994)
_______
К перемене погоды заныла рука,
А душа – к перемене народа.
(«Предчувствие», 1998)
_______
Туман остался от России…
(«Призыв», 1998)
_______
России нет. Тот спился, тот убит,
Тот молится и дьяволу и Богу.
Юродивый на паперти вопит:
Тамбовский волк выходит на дорогу!
(«Тамбовский волк», 2003)
И вот «мать честная» – Россия – в одном из последних его стихотворений говорит:
– А народ рожала я на диво,
А родной, не знамши ничего,
Встал на диво и махнул с обрыва,
Только я и видела его…
(«Голубая падь», 2003)
А потрясающие картины Преисподней и страшные откровения его Апокалипсиса – поэмы «Сошествие в ад»!..
Несомненно, все эти стихи – последних времён, которые поэт видит воочию.
В ответ на вопрос Владимира Бондаренко: «Веришь ли ты сам в своё сошествие в ад и пусть и неким воображением» Кузнецов ответил: «Это всё действительно было! Поэт сошёл в ад. Если это литература, то поэме моей грош цена» («ExLibris», 2004, № 19).
Недаром и в стихах всё чаще встречается слово «последний»:
Шагнули в бездну мы с порога
И очутились на войне,
И услыхали голос Бога:
– Ко Мне, последние! Ко Мне!
(«Призыв», 1998)
_______
Царевна спящая проснулась
От поцелуя дурака.
И мира страшного коснулась
Её невинная рука…
А в этой тьме и солнце низко,
И до небес рукой подать,
И не дурак —
Антихрист близко,
Хотя его и не видать.
(«Прозрение во тьме», 2003)
Последние времена близки, а скорее уже наступили – и каждый волен поддаться антихристу или же последовать за Христом.
Кузнецов, по сути, уже отвергает литературу во имя духовного подвига. Поэт принимает истинную крестную ношу. Он пишет поэмы «Путь Христа», «Сошествие в ад», «Рай»… Он смиренно следует за Спасителем. Другой путь для него немыслим.
И даже незаконченный «Рай», как поведал о том о. Владимир Нежданов, не казался ему пределом – он замысливал уже «Страшный Суд». Такой беспримерно дерзновенной была в Кузнецове та могучая небесная тяга, что влекла его дух к высшей правде бытия.
* * *
…Спасение же поэт увидел только в возвращении ко Христу. В истинной народной вере – в живого Христа, а не в ту абстракцию, в которую Он был превращён.
Эта единственная надежда прозвучала поначалу в его стихах.
Голос был свыше, и голос коснулся меня
За полминуты до страшного Судного Дня:
– Вот тебе время – молиться, жалеть
и рыдать.
Если успеешь, спасу и прошу. Исполать!
(«Время человеческое», 1994)
_______
Твоя рука не опускалась
Вовек, о русский богатырь!
То в удалой кулак сжималась,
То разжималась во всю ширь…
Теперь во тьме духовной рвани
И расщеплённого ядра
Дыра свистит в твоём кармане
И в кулаке гудит дыра.
Врагам надежд твоих неймётся.
Но свет пойдёт по всем мирам,
Когда кулак твой разожмётся,
А на ладони – Божий храм.
(«Рука Москвы», 1997)
Но особенно мощно спасительная надежда сказалась в его поэмах о Христе.
Поэт – в сердце народа, считал Кузнецов. Человек в моих стихах приравнен народу, – говорил он.
Поэт Кузнецов пошёл за Иисусом Христом – и не погиб в аду (но увидел всю родимую и иноземную нечисть, горящую в преисподней).
Это народ – в образе поэта – побывал в аду. И, опалённый, потрясённый, идёт в Рай, где давно уже молятся за него те, кто представляет Небесную Русь…
* * *
Слово обладает разрешительной силой: «Болящий дух врачует песнопенье» (Боратынский). У иного в стихах печаль, тоска, трагизм – а внутри свет и радость. Ибо тяжкие состояния души он разрешил своим же словом. А другой всё веселится да оптимизмом заряжает, а в душе мрак и уныние… Возможно, Кузнецов кому-то и в творчестве и в жизни казался тяжёлым, угрюмым, но, мне сдаётся, это впечатление обманчиво.
Горькое лечит, сладкое калечит, – говорит пословица. Е. Рейн точно заметил: Кузнецов не подслащивал пилюлю. «Мрачные идеи, сейчас побеждающие в реальности, в кузнецовском мире обречены на поражение. В современной России „Великая война“ кажется проигранной. Но в „Пути Христа“ и в „Сошествии в ад“ о поражении не может быть и речи, потому что жив Бог», – делает вывод Алексей Татаринов в статье «Последние апокрифы». («День литературы», 2006, № 10)
И сам Кузнецов не числил себя в пессимистах. Он считал пессимизм тупиком, исключающим творчество:
«Конечно, современность наша не особо способствует оптимизму, но я чувствую, что сам я полон и творческих замыслов и сил. А ведь я живу не в безвоздушном пространстве, что-то вокруг питает эти замыслы и силы. Поэтому у меня есть чисто интуитивная уверенность, что у России много ещё впереди».
(«Десятина», 2002, № 6)
* * *
…А друзья и товарищи этого прямого и сурового человека вспоминают его редкую, но удивительно светлую – детскую – улыбку.
Увы, сам я этой его улыбки никогда не видел…
Человек рождается чистым, вступая в мир, искажает свою душу и до старости освобождается, возвращается в детской чистоте, – говорил Кузнецов своим студентам.
* * *
Он умер не во сне, как об этом написал поэт Владимир Костров в стихотворении памяти Кузнецова, напечатанном «Литературной газетой» сразу по кончине поэта.
Жена Юрия Поликарповича рассказала мне, что утром 17 ноября он собрался на работу. Оделся, сел в кресло – и вдруг сказал:
– Мне надо домой.
– Юра, ты же дома…
– Домой! – снова сказал Кузнецов.
Это были его последние слова.
Врачи скорой помощи уже не застали его в живых…
Домой… Туда, где вечный Небесный Дом…
* * *
Поэт всегда прав, даже если ошибается, – говаривал Юрий Поликарпович. И добавлял о себе: – Я ошибок не боюсь.
Он верил в присущее поэту духовное зрение.
«Поэзия, конечно же, связана с Богом. Другое дело, что сама по себе религия, и особенно религия воцерковленная, может существовать без поэзии, в то время как поэзия без религиозного начала невозможна. Поэт в своём творчестве выражает всю полноту бытия, не только свет, но и тьму, и потому ему трудно быть вполне ортодоксальным, не в жизни, конечно, а в поэзии».
На вопрос, возможно ли понятие «православный поэт» в строго догматическом смысле слова, Кузнецов ответил: «Это бессмыслица. Но, как мы уже говорили, поэзия связана с Богом, и прежде всего с Христом, ибо Он есть Слово. Мне хочется надеяться, что поэтическое творчество всё-таки богоугодно. Недаром в лучших своих образцах поэзия очень похожа на молитву». («Десятина», 2002, № 6)
* * *
Слова, сказанные на кончину поэта, подтверждают его надежду. Я приведу только некоторые из множества.
«Мы, любившие его как человека, преклонявшиеся перед его поэтическим даром, – всегда знали, какую духовную брань он ведёт с силами зла в пространстве „между миром и Богом“. И сам он казался вечным в бесконечной этой брани…
Русская история и её великие творцы – преподобный Сергий Радонежский, святой воин Пересвет, митрополит Иларион обретали под его пером новую жизнь. История и современность сливались в его поэтическом сознании в единый неразделимый поток…
Его „сошествие во ад“ было продолжением той брани с невидимым злом, что стоит между миром и Богом, которую он вёл всю свою жизнь. И слыша уже в последние месяцы здешнего бытия, как „тамбовский волк выходит на дорогу“, он улавливал нежную музыку, доносящуюся из Вечности, как награду, дарованную ему за эту смертную брань…
Гений остаётся в Вечности. Нам – делать осторожные шаги по его следам, по его „вечному снегу“, ради познания тех глубин и „вселенских сетей бытия“, которые были познаны им такой дорогой ценой. Но иной цены на этих незримых дорогах – не было и не будет.
Мы склоняем головы перед последним приютом нашего друга и молим Господа о том, чтобы с бесконечной Отеческой милостью принял Он душу раба Божия Георгия в горних высях. Вечная ему память.
Друзья»(«Русский дом», 2004, № 1).
«…Завершающий этап литературной и духовной биографии поэта ознаменован переводом „Слова о Законе и Благодати митрополита Илариона“ и поэмами о Христе. В переводе древнерусского шедевра Юрий Кузнецов нашёл такую художественно-речевую интонацию, которая, сохраняя мерность строгого поэтического повествования, вместе с тем была неуловимо лирически окрашена. Сам этот тон есть литературная драгоценность для человека, переходящего из второго христианского тысячелетия – в третье.
Драматически разъединены в современной русской душе народное и личное, вечное и мгновенное, любовь и жертва. Последнее – как узел, в котором стянуты в одно целое Божий замысел о человеке и человеческая свободная воля. И вот уже само гармоническое устройство этой поздней кузнецовской поэтической речи являет нам пример духовного преображения русского человека. Конечно же, здесь не последнее преображение, по Христову обетованию, но то преобразование русской души, которое, словно поводырь слепого, развернёт её на бытийном пути в единственно верном направлении.
Поэтому с каждым последующим годом имя Юрия Кузнецова в нашей литературе будет становиться весомее… Поэзия Кузнецова будет похожа на плотный свиток, который медленно разворачивает рука искателя русского смысла. Русский ум здесь найдёт себя, а русское сердце – сквозь слёзы узрит Бога…
Вячеслав Лютый».
«С первых книг главное впечатление от его поэзии можно было выразить тремя словами: талантливо, серьёзно, неожиданно. Неожиданность заключалась не в одном ярком даровании, но именно в серьёзности. После нескольких десятилетий поэтического мелководья… читатель кузнецовских стихов вдруг проваливался… Куда? То ли в самую глубину русской философской лирики, забытой, казалось, со времён Пушкина, Тютчева, Блока, то ли в экзистенциальные провалы современной философской мысли…
…Жена поэта сказала: „Знаешь, в момент, когда Юра умер, он вдруг стал похож на себя в точности такого, каким был, когда мы познакомились“. А прожили они больше 35 лет… Такое бывает: минута ухода открывает в человеке самую его суть.
Юрий родился 11 февраля 1941 года (29 января по старому стилю), в праздник Игнатия Богоносца, в день смерти двух величайших русских богоносцев – Пушкина и Андрея Рублёва. А скончался утром 17 ноября 2003 года, когда в церкви по уставу читалось то место Евангелия от Луки, где Спаситель говорит ученикам: „Не думайте, что есть и во что одеться, Отец ваш Небесный позаботится о вас“. Именно так, по завету Христа, и прожил свою жизнь замечательный русский поэт Кузнецов, может быть, последний из наших настоящих поэтов.
Николай Лисовой».
* * *
Ну, что осталось сказать напоследок?








