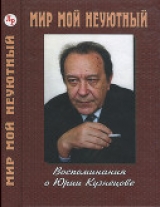
Текст книги "Мир мой неуютный: Воспоминания о Юрии Кузнецове"
Автор книги: Вячеслав Огрызко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
– Попробуйте написать что-то под Киплинга. Возьмите у него… Надо просто уметь взять, «уметь украсть»… Ничто не ново под луной. Всё уже было. Надо только суметь подключиться к великому наследию…
Говорили о Кольцове и Прокофьеве (он сказал, что сам – из этого же ряда), о Николае Фёдорове и Александре Солженицыне («Матрёнин двор» и «Иван Денисович», по его мнению – хорошая русская проза, а «Август четырнадцатого» – плохо, пошёл «не туда»), о русской государственности (показал себя ярым сторонником централизма), о русской натуре («европейский гуманизм узок русскому человеку, мы, русские, не влезаем в его рамки»)…
Я сказал полувопросительно, что мне, наверное, надо подождать писать… Он резко ответил:
– Нет! Нельзя, это мстит…
Сказал, что в «Чистякове» не 150 строк, а 700, что его никогда не напечатают… Советовал мне больше читать – Герцена, Киреевского, Данилевского, Чаадаева. Всё это – очень современно.
Хохотал, когда я сказал, что мучаюсь несоответствием своей реальной солдатской службы – и тем, что я о ней пишу.
– Если бы я был священником, я бы отпустил этот грех! – воскликнул он.
Отсмеявшись, сказал серьёзно:
– У искусства – другие законы. Тут главное – можешь ты, или не можешь…
Говорили о моём подражании ему. Он заметил:
– Вы попали в поле притяжения мощной звезды… Как бы вам от меня избавиться?
Посоветовал наложить табу на его, Кузнецова, поэтический словарь – очень, по его словам, бедный.
Я поинтересовался его мнением о современных русских поэтах. Он ответил, что лучшие из ныне пишущих – это, безусловно, Николай Тряпкин и Василий Казанцев.
Говорили о поэте Викторе Лапшине из Галича. Я рассказал, что ездил недавно в Кострому, в редакцию молодёжной газеты – и что всех там поразила публикация большой подборки стихов Лапшина в «Литературной учёбе». Он сказал радостно:
– Будет ещё большее потрясение, когда выйдет «День поэзии» – там мы дали ему триста строк. Триста! Я сам больше ста двадцати – никогда, нигде…
Выяснилось, что Лапшин заезжал к нему.
Я рассказал о своих редакционных делах, в том числе о том, как мой шофёр облил свою неверную жену бензином и пытался поджечь. С первой спички она, правда, не загорелась, дело для изменщицы кончилось небольшими ожогами, а для водителя – увольнением. Он слушал снисходительно, потом заметил, что этот случай может стать материалом… Рассказал мне о том, как сам работал в своё время в издательстве «Современник» в отделе национальных литератур, как боролся с нерадивыми сотрудниками.
– Я их выгонял! Принесёт, бывало, рукопись – я сразу почеркаю: а тут почему не поправил?.. а это что такое? Сами уходили. Человек шесть ушло. Дочку Льва Ошанина выгнал…
Выяснилось, что он и в газете в своё время работал (кажется, это было в Краснодаре).
– Полгода сидел. Последние три месяца вообще ничего не делал. Зайдёт редактор: чего делаешь? – Ничего. – Уйдёт… А мне надо было до Литературного института досидеть, я ведь уже поступил.
Подытоживая разговор о газете, сказал с сочувствием:
– Замучают вас эти летучки-текучки…
Я сказал, что, конечно, эта работа для поэта – не из лучших, да и вообще трудно отключаться от повседневности…
– Оно, – заметил он, показав глазами вверх, – само отключает… ы?
В первый раз я просидел у него полтора часа, во второй – часа три. Что ещё поразило меня: некоторые стихи мои (в том числе те, что были про него) он, кажется, совершенно не понял. Или они были просто неинтересны ему?
Впрочем, я ни на секунду не усомнился в том, что был в гостях у гения.
* * *
…Жизнь идёт; в январе 1984 года на прилавках книжных магазинов появляется, наконец, «День поэзии-1983»; я скупаю все экземпляры, которые могу найти, дарю их друзьям-приятелям с дарственными надписями. Друзья-приятели радуются за меня, многие (особенно те, что сами марают бумагу) откровенно завидуют… но большинство не видит особой разницы между этой моей публикацией – и другими: главное ведь, что печатают, а где – вопрос второй. Но в местном отделении Союза писателей отношение ко мне резко меняется… как сейчас, помню коллективную пьянку в домике писателей на улице Терешковой и хмельной спор двух старых литераторов-фронтовиков.
– Ну, вон и с Женей Чекановым сколько мы возились, – говорит один, – пока он наверх не взлетел…
– Нет! – кричит другой, потрясая вилкой, – Чеканов пробился сам!..
Масла в огонь добавляет статья Юлии Друниной в номере «Правды» от 31 января: поэтесса-фронтовичка громит кузнецовский «День поэзии» за «глубокий минор», недостаток «гражданственности», «смакование душевных мук»… и тут я оказываюсь в двусмысленном положении: упоминая мои строчки, Друнина их как раз не ругает, а хвалит, называет точными. Положим, Друнина для меня – никакой не авторитет… но всё-таки статья опубликована в «Правде», то есть самой главной газете империи… так радоваться мне, или возмущаться?
Я вновь и вновь перечитываю «День поэзии-83». Наибольшее впечатление оказывает на меня, конечно же, новое мощное стихотворение Учителя – «Поединок»:
Противу Москвы и славянских кровей
На полную грудь рокотал Челубей,
Носясь среди мрака…
А вот и «триста строк» Лапшина: кое-что мне нравится, но далеко не всё; многие слова кажутся нарочитыми, придуманными, неуклюже стилизованными «под старину»… почему же Юрий Поликарпович такого высокого мнения о нём?
Из других поэтов, представленных, как и я, под рубрикой «Новые имена», мне больше всего нравится Михаил Шелехов, хотя и у него я нахожу подражания Кузнецову. А вот Александр Логинов, этот вроде бы совершенно самостоятелен, одно его стихотворение, про сторожку лесника – прямо-таки блестящее… Свою собственную подборку я перечитываю по нескольку раз на день: почему же всё-таки именно эти стихи отобрал Вадим Кожинов? где тот нерв, что объединяет их, делает их «чекановскими»?
Меня потрясают впервые опубликованные стихи Сергея Маркова «Когда нахмурен небосклон», «Дочери», «На дне походного мешка» – отныне и навсегда я начинаю чтить этого мастера слова; врезаются в память стихи «метаметафориста» Александра Ерёменко; даже стихотворение моего знакомца Виктора Коркии запоминается ударной концовкой: «Иду по вагону назад – пролетаю вперёд!» А вот и стихи его начальника, Натана Злотникова… точнее, это не стихи, а рифмованная проза. И такие-то люди руководят отделами поэзии во всесоюзных журналах?
Впрочем, мне уже плевать на это: мощной рукой Учителя я поставлен в один ряд с другими молодыми поэтами империи, меня цитирует в «Правде» Друнина, я, наконец-то, признан в Ярославле. Теперь нужно думать о выходе первой собственной книги… да ведь я уже о ней и думаю! Это будет книга, состоящая в основном из стихов о моей армейской службе – о заполярных сопках, о казарменном быте, о лютой сердечной тоске… о том, что «можно сказать», говоря об армии. А то, «о чём нельзя» – пусть пока остаётся только в моём сердце.
Так думаю я в то время.
Будучи «зачисленным в крут» литераторов Ярославля, я начинаю выступать перед читателями по линии местного бюро пропаганды художественной литературы; помимо приятного общения с публикой, это приносит и кой-какие деньги, за каждую встречу со слушателями платят что-то около 7 рублей. Семь раз в месяц выступил – полтинник в кармане; а между прочим, моя зарплата главного редактора областной газеты составляет всего около 300 рублей… не так уж и плох «приварок»! Естественно, главное тут – не деньги, главное – восхищённые глаза читателей, улыбки и прочие эмоции зала в ответ на особо удачные строчки… очень скоро я, как сказали бы сейчас, «подсаживаюсь» на эти встречи, мне начинает их не хватать.
В писательской организации частенько устраиваются застолья; я теперь участвую в них на равных с людьми, которые значительно старше меня, у многих за плечами война. Особенно благоволит ко мне Пал Палыч Голосов, тот самый поэт-фронтовик, которому перепуганные преподаватели университета в своё время отдали на рецензию мою студенческую поэтическую стенгазету – он одобряет намерение издать «армейскую» книжку стихов, хвалит удачные строки, критикует провальные. Положим, его собственные стихи не производят на меня особого впечатления… но ведь и Юрий Кузнецов считает лучшим у меня именно «армейский цикл». Значит, со стороны виднее, значит, мне стоит прислушаться и к оценкам Голосова. А Владимир Сокол, штатный сотрудник писательской организации, у которого в писательском домике есть собственный кабинет, вообще привечает меня, мы постоянно пьём с ним чай, а то и что покрепче. Я приношу в домик на улице Терешковой свои новые стихи, спорю, веду разговоры о жизни и литературе, знакомлюсь практически со всеми более-менее заметными литераторами края…
В июле 1984 года Владимир Сокол знакомит меня с московскими поэтами Николаем Старшиновым и Геннадием Серебряковым, вологодцем Александром Романовым – они приехали на очередной поэтический праздник в Карабихе. С Геной Серебряковым, бывшим редактором ивановской молодёжной газеты, год поработавшим в секторе печати ЦК ВЛКСМ, а ныне «свободным художником», мы распиваем бутылку водки, болтаем о литературе; он с ходу обещает помочь мне с публикацией книжки в столичном издательстве «Современник». Я интересуюсь его мнением о Кузнецове, он отзывается в целом положительно; зато Кожинова почему-то называет «масоном»:
– Вадик? Масон!
– А Тряпкин и Казанцев?
– Коля Тряпкин ничего уже не пишет, а Вася Казанцев ничего особенного и не писал никогда!..
Листаю книжку самого Гены: стихи его, честно говоря, в подмётки не годятся казанцевским и тряпкинским, не говоря уж о кузнецовских, – это плоские, заурядные вирши. Но сам он явно так не считает и очень гордится «шумом» вокруг некоторых из своих творений, особенно вокруг «Чёрных полковников», написанных, по его словам, с намёком на Брежнева.
– После этой публикации Юра Верченко собрал все «телеги» на меня и отнёс в ЦК партии!.. – говорит он хвастливо.
Что ж, каждому своё. Лично мне Брежнев до лампочки, реальные политические деятели меня интересуют мало. В своих стихах я раздумываю о парадоксах человеческой жизни, о страстях и разочарованиях, о связи мёртвых и живых, неба и земли… и мой Учитель поддерживает эту устремлённость, жёстко критикуя мои новые вирши на «армейскую» тему, написанные в расчёте на выход будущей книжки, «для объёма». В конце августа он пишет мне:
«
Дорогой Евгений!В последних Ваших стихах наметился резкий отход от Ю. Кузнецова в сторону, условно скажем, В. Лапшина (стихи „Свеча“, „Русский мотив“).
Вот Ваш актив:
„Свеча“, „Гощу в деревне“ (прокитайское название, смените), „Вечер на Волге“ (две первые строчки расхожи, плохая строчка „Мирно светит луна вполнакала“, „вполнакала“ не ассоциируется с человеческой ступнёй), „В автобусе“ (тут засилие быта, быт слишком мелок для такого обобщения: „нас сближают только беды“), „Запретные темы“ (непроходимый для цензуры эпитет „запретные“ смягчите на „опасные темы“), „Русский мотив“, „Не век же себя ожиданьем томить“ (расслабляют подряд четыре глагольные рифмы, само стихотворение, без последней строчки, напоминает… Надсона. Странный рецидив!), „Районный сюжет“, „Если тебя не слышат“ (вообще-то довольно привычный ход мысли), „Выходя в свет“ (тут старая эстетика, прошлый век).
Армейские стихи мне не понравились: сплошной быт, газета. Вы слишком доверяете быту, товарищ „комсомолец“. Вы находитесь в опасной близости к быту.
Покамест лучшим Вашим стихотворением остаётся „Страж Заполярья“.
Старайтесь всегда думать только высокими категориями, например: правда, долг, родина, женщина, бог. К сожалению, о последних двух Вы не имеете решительно никакого представления.
С пожеланием грядущих удач.
До встречи!
Ю. Кузнецов.28.08.84.»
В тот же день я записываю в дневнике: «…упрекает меня за „засилие быта“. Что ж, я сам понимаю это. Но всё время думать о быте – и не писать о нём? Я не могу отделиться от быта, так как он у меня не налажен, всё под сомнением – и семья, и работа, и жильё… Но всё же я оторвался от Ю. К. и теперь ухожу в свой собственный полёт, в „путь во мгле“!..».
О неустойчивости своего быта я пишу не просто так: в моей жизни в это время намечается развод, и я очень тяжело переживаю это. Не радуют уже ни первая в моей жизни поездка за кордон, в Венгрию, ни выступления по местному телевидению и радио, ни литературные успехи, хотя они, несомненно, есть: в ноябре заведующий отделом поэзии «Нашего современника» Алексей Шитиков сообщает, что главный редактор этого журнала Сергей Викулов отобрал для публикации пять моих стихотворений, сказав при этом: «Поэт он интересный, даровитый, думающий. Напишите ему письмо, чтобы в первую очередь все новые стихи показывал нам».
Грядущий развод совершенно вышибает меня из колеи; я всерьёз думаю об уходе из редакторского кресла, даже нахожу уже другую работу… и именно в этот момент, в начале декабря 1984 года ЦК комсомола вызывает меня на учёбу в Москву, в Высшую Комсомольскую Школу. Две недели подряд нас пичкают с трибуны «проблемами совершенствования развитого социализма», пожеланиями «чаще писать о Ленине» и «актуальными вопросами повышения профессионального мастерства журналистских кадров».
Впрочем, есть и интересные выступления… но мне гораздо интереснее встретиться с Учителем – и я буквально в первый же свободный вечер звоню ему и напрашиваюсь в гости.
А теперь – две записи, сделанные в те дни.
8.12.84.
Я позвонил ему, будучи сильно пьян (в компании других редакторов выпил около бутылки водки и вдобавок бутылку красного). Он сказал: приезжайте сейчас.
Спьяну я забылся и приехал вместо Рижского метро на Курское; потом звонил ему ещё раз, уточнял адрес. Попал к нему поздно, около девяти вечера.
Сели за стол, я предложил выпить водки. Он неожиданно легко согласился. Принёс капусты. Крикнул жене, чтобы сготовила пельменей.
Говорили о разном. Поскольку я был пьян, то запомнил лишь несколько отрывков.
Спросил о жене его. Это – та самая Батима, которой посвящено стихотворение «В твоём голосе мчатся поющие кони». Она училась вместе с ним, окончила переводческий факультет, казашка по национальности.
Говорили о любви и страсти. Он сказал, что мы не знаем любви, не умеем писать о любви, умеем – лишь о страсти, а ведь это – разные вещи. <…>.
Говорили о литературе. Я сказал, что прочитал недавно в Ярославле несколько «самиздатовских» вещей <…>. Ю. К. тут же поправил: это – не самиздат, а ксерокопия. Вот альманах «Метрополь» – самиздат. А ксерокопия, рано или поздно, будет опубликована.
Я спросил, насколько высоко он меня ставит, как поэта. Он захохотал и воскликнул: «Дитя!». Потом сказал, что «Страж Заполярья» – явление одного порядка с «Враги сожгли родную хату».
Ещё я спросил, почему он так холоден со мной. Он сказал, смутившись, что это не так, что он «вообще такой».
Я рассказал, что поднял свою родословную по пятое колено. Он похвалил и сказал, что у него всё иначе – «за отцом всё обрубается».
Поговорили о моих газетных делах, о том, что я собираюсь уйти из редакторов.
Я сказал: может быть, пока я ещё редактор, мне можно напечатать что-то из неопубликованного Юрия Кузнецова? Например, «Чистякова» в полном виде… – Он резко ответил:
– Нет! Тогда на Чеканове будет поставлен крест!
Посоветовал мне «сидеть в редакторах», пока я не стану членом Союза писателей. Но если я так уж твёрдо решил уходить, то… в редакции «Молодой гвардии» есть сейчас некое свободное место. Я честно ответил, что не справлюсь.
Спрашивал о друзьях и врагах его. Оказалось, что его враг номер один – Сергей Сартаков, который много ему нагадил. О моём знакомом, столичном поэте-фронтовике Викторе Кочеткове Ю. К. отозвался так: «Как поэт он – так… ничего… пустое место. А как человек – да, хороший». Кочеткова, по его словам, сильно обидели, убрав из секретарей какого-то парткома. Тогда, вслед за ним, ушёл из парткома и сам Кузнецов.
Гена Серебряков, по его мнению, прохвост, но «если он обещает подтолкнуть книжку – пусть толкает», не надо пренебрегать подобной помощью.
Я заметил, что Юрия Кузнецова сейчас что-то перестали печатать…
– После моей смерти всё напечатают!
Я расчувствовался, попросил разрешения обнять его. Он похлопал меня по плечу.
На прощанье я спросил, пишет ли он что-нибудь сейчас.
– Лучшие свои стихи я написал в последнее время.
Пили водку и ели пельмени с корейским соусом.
На другой день я проснулся с болью в копчике. Вспомнил, что вчера неудачно приземлился, перелезая часа в два ночи через ограду ВКШ (идти в пьяном виде через вахту поопасился). Закон компенсации – за всё хорошее надо платить.
Вспомнил, что сегодня в Центральном Доме литераторов – вечер поэзии, и что вроде как Ю. К. меня туда приглашал, обещал провести. Пошли вместе с Вовкой Кудрявцевым, редактором «Вологодского комсомольца».
Я был в ЦДЛ впервые. Оказалось, что на этот вечер продавали билеты, причём свободно. Купили билеты, пошли в буфет пить пиво. Я увидел Джемса Паттерсона, с которым знакомился как-то в Ярославле, поздоровался.
Появился Ю. К. Спросил, как я вчера добрался, вынул деньги за пиво. Пили, болтали. Вовка начал разговор о недавно скончавшемся Юрии Селезнёве, восхищённо о нём отзываясь. Юрий Поликарпович заметил, что жена Селезнёва поступила крайне непорядочно – «уехала, бросив труп в Германии. Это – чёрт знает, что такое!..».
Я припомнил, что Александр Романов назвал как-то Селезнёва «генератором идей». Ю. К. резко опроверг это: «Своих идей у Селезнёва не было – всё заёмное. Всё это носится в воздухе!» Сказал, что это явление он заклеймил в стихотворении, которое сегодня прочтёт.
Болтали о том, о сём. Речь почему-то зашла об Азии. Ю. К. к слову рассказал, как он однажды искал в Туве «Центр Азии». «Все показывают примерно… а где точно – никто не знает!»
На вечере председательствовала Щипахина. Ю. К. читал стихи «Учитель хоронил ученика» (я понял, что это – о Селезнёве), «Духи».
В зале, кажется, сидел народ случайный – всем хлопали одинаково.
25.12.84.
Поскольку пишу через два дня после встречи (да ещё все эти дни я пьянствовал с приятелями-редакторами), многое передаю примерно. Многое попросту забыл.
Позвонил в понедельник, попросил разрешения увидеться. Договорились на вторник. Я взял с собой бутылку «Пшеничной» водки (0,9) и пол-литровую бутылку «Старки».
Когда мне открыли, он говорил по телефону. Старшая дочь молча указала мне на тапочки – меня уже ждали.
Ю. К. вошёл, пожал мне руку. Прошли в его комнату, он начал накрывать на стол. Много всего принёс, даже супу.
Помогала накрывать дочь. Я спросил, как её зовут.
– Аня.
– А сестру вашу?
– Катя.
Заходила и жена, Батима; он почему-то звал её «Галей», мягко, по-украински произнося звук «г».
Сели, наконец. Он достал из кармана брюк поллитровку. Я остановил его словами: «Может, начнём с другого формата?».
Он глянул недоумённо. Я в ответ вынул свою 0,9.
Покачал головой: большая больно… Потом подумал и послал дочку за капустой на балкон. Дочка что-то замешкалась, он подошёл к ней и помог оторвать кастрюльку с капустой от пола – примёрзла.
Опять сели. Разливал я; по недосмотру налил себе чуть больше, чем ему (стаканы стояли один за другим, я сидел в глубоком кресле и не видел уровней). Он жестом показал: добавь.
Помолчали.
– Я хотел бы извиниться за задержку… – начал я. – У нас была лекция представителя Главлита, хотелось послушать его…
Он махнул рукой: стоит ли, мол, об этом говорить. Я, однако, продолжил:
– Так я задал этому, из Главлита, вопрос: «Что вы думаете о Юрии Кузнецове и Станиславе Куняеве?». А тот ответил, что обоих не любит. «Куняев – это литературный ширпотреб, а Кузнецов в последнее время впал в дикую мистику».
Юрий Поликарпович хмыкнул. Это его задело.
– Мистика… Да что они понимают! Они же не знают смысла-то слова «мистика», не умеют отличить религиозного сознания от обычного! Блаватскую хоть бы почитали! «Утопленник» Пушкина – тоже мистика? Весь Гоголь – мистика? Ерунда, чушь!
– Ну, – прервал он сам себя, – давай! За твоё московское пребывание!
Выпили. Я налёг на суп. Налили по второй. Он сходил за стихами, которые я ему оставлял.
– Ну, что… Вот, «Путнику». Название не то. Но есть образ, есть правда: действительно, эти ветки хлещут по глазам. Но плохо «сквозь век» и ещё «вослед идущего потомка». Не надо ставить стихотворение на котурны. «Крепость»… ну, это уж слишком. Вот «Осветить лицо!» можно печатать… но ведь это – проза. «И стал здороваться со мной за ручку старшина» – ведь это проза! Ы?
– В общем, – он протянул мне рукопись, – хорошо, что твоя мысль идёт в верном направлении. Задумываешься о Павлике Морозове – это хорошо. Об этом надо думать. Но выражено всё это пока что…
– То есть, претензии к форме?. – начал было я.
– А что такое форма? – осадил он. – Без неё нет содержания!
– Ну, а что, по-вашему, в этих стихах самое «чекановское»?
Он вяло махнул рукой: мол, не надо об этом. Я настаивал.
– Ничего тут сказать нельзя! – наконец, разразился он. – Пиши, будь откровенным, и всё! Я тоже, когда служил на Кубе и писал стихи об этом, думал, что прославлюсь именно ими. Ведь ничего подобного в русской поэзии раньше не было: русский солдат – на Кубе… А вышло так, что Юрия Кузнецова знают по другим стихам. Ничего тут сказать нельзя. Я сам про себя ничего не могу сказать… как я буду писать завтра?
Выпили. Я рассказал, что был недавно в гостях у Владимира Крупина и узнал у него, что стихотворение Кузнецова «Ты стоял на стене крепостной…» посвящено Крупину.
– Нет, это не ему, – заметил Юрий Поликарпович.
– А он считает, что ему…
– Ну, пусть считает. А может, Вадиму Кожинову? А может, Вадиму Кожевникову? Я не пойму, как вообще можно посвящать кому-то стихи без его на то согласия. Вот мне тут графоман один прислал стихи, мне посвятил… Как так можно? Вообще, этика требует: если живущему посвящаешь – спроси разрешения. Вот я посвятил Палиевскому «Змеи на маяке» – так я спросил сперва.
– Мне кажется, – вставил я, – эта вещь у вас – самая совершенная по композиции. За каждым образом – символ…
– Жуткая история! – махнул он рукой. – Нам, мне и Белову, рассказал её Палиевский, правда, в разное время. Белов сделал что-то на иностранном материале из неё… А сам Палиевский выкопал её из средневековых хроник.
Я сказал, что Крупину запомнились мои стихи из «Дня поэзии» (имея в виду стихотворение «На плацу»), Ю. К. подумал, однако, что речь идёт о «Страже Заполярья», и откликнулся:
– А! Так ведь я ещё давно читал «Стража Заполярья» в Союзе писателей, и тогда же сказал: вот это стихи! А то у нас полно «литературных мальчиков» – пишут, книги издают, а всё в мальчиках ходят…
В комнату вошла Батима. Юрий Поликарпович представил ей меня.
– А, это вы поздравили Юру… (Я в своё время поздравлял его из Ярославля с награждением орденом «Знак Почёта»). Вы закусывайте, закусывайте!
Я стал спрашивать про его поэму «Дом»: почему в разных изданиях публикуются всё время разные варианты?
– Это не варианты, это я восстанавливаю то, что у меня раньше резали. Они убирали, а я восстанавливал. До сих пор не могу, правда, восстановить небольшой кусок, про Сталина – мой герой Лука сидел вместе с его сыном в тюрьме. Ничего тут нет такого, я не ругаю Сталина и не хвалю… а вот нельзя, и всё!
Дал мне прочесть только что написанное им стихотворение «Маркитанты» – о том, как встретились два войска, как маркитанты обеих сторон были посланы на разведку, как они выдали все секреты друг другу – и оба войска полегли наутро. А маркитанты, награбив добра, разъехались по домам.
Маркитанты обеих сторон —
Люди близкого круга.
Почитай, с легендарных времён
Понимают друг друга.
Дальнейшее помню плохо, но, кажется, я держался молодцом.
Утром я проснулся у себя в общежитии с книгой Розанова «Уединённое» в кармане пиджака. Позвонил Юрию Поликарповичу и, не помня точно, подарил он мне её или дал только почитать, начал благодарить…
– Книгу пришлёшь ценной бандеролью! – сказал он. – Ну, давай! Всех благ!
Я чувствовал себя ужасно гордо.
* * *
…Наступает весна 1985 года, я вновь оказываюсь в Москве, на XII Всемирном фестивале молодёжи и студентов, живу в гостинице «Россия». Днём я работаю, что-то там делаю для ЦК комсомола, а вечером время у меня свободно. Естественно, я всей душой рвусь к Учителю… и в середине мая мне удаётся дважды побывать у него. Вот записи об этом.
18.05.85.
Обе эти встречи (14–15 мая и 17 мая) произошли, как говорится, «по пьяному делу», поэтому я записываю лишь обрывки… то, что смог вспомнить.
Набрал номер из гостиницы. Батима сказала, что он будет через два часа. Позвонил через два часа. Он говорил доброжелательным тоном, но к себе не приглашал. Я что-то мямлил, спрашивал, выходит ли у него вскоре что-нибудь… он буркал в ответ что-то, потом, всё поняв, сказал:
– Ну, ты что – приехать, что ли, хочешь?
– Так ведь вы не приглашаете!
– Ну, давай, приезжай!
Я ринулся в буфет и, решившись сразить Ю. К., взял бутылку итальянского джина за 15 рублей. Кроме того, у меня в дипломате была бутылка коньяка, початая с поэтом Владимиром Фирсовым (я к нему недавно заходил вместе с приятелем, поэтом из Рыбинска Сергеем Хомутовым). Итак, горючего хватит. Поехал к Рижскому вокзалу (оттуда ходит трамвай в сторону Олимпийского проспекта).
Дверь открыла Батима. Я прошёл в комнату, где уже сидел какой-то узколицый парень.
– Женя Чеканов.
– Гена Фролов.
Уж не тот ли Фролов, с помощью которого Гена Серебряков обещал пристроить мою рукопись в «Современник»? Нет. Тот, как выяснилось, Лёня. А этот гордо охарактеризовал себя так:
– Меня называют собутыльником Юрия Кузнецова!
Фролов с Ю. К. пили медицинский спирт. Мой джин они поставили под стол. Юрий Поликарпович принёс окрошку – и началось… Мне хватило трёх или четырёх стопок, я лёг пластом, а они всё продолжали. Хозяин принёс телогрейку, укрыл меня.
Помню ещё маленький казус. Фролов, оказывается, забрал мой джин с собой и поехал домой. По дороге его ограбили, забрали и деньги, и джин. Я выразил сожаление по этому поводу. Но Ю. К. сказал:
– Это отрава! Я ведь попробовал, глоток отпил. Еле удержал в желудке…
Тогда я стал злорадствовать по поводу незадачливого вора.
На прощание он дал мне обещанную книгу <…>. Сказал, шатаясь:
– Это не бомба, не мина… Это – сильнее. По крайней мере, на меня это лет десять назад произвело страшное впечатление. Поэтому неси, как святыню.
– Я же трезвый! – храбро ответствовал я.
Помнится, ещё несколько ранее Дробышев (его давний знакомец, тоже появившийся на кухне) и Фролов засомневались: стоит ли ему давать мне эту книгу? Ю. К. пресёк их, уверив, что я – надёжный человек.
Через два дня я вновь позвонил ему.
– Ну, что – маешься? – спросил он. – Приезжай.
…Ели мясо, блинчики с мясом. Выпили бутылку коньяка. И говорили, говорили до сумерек.
Я впервые, кажется, вгляделся близко в Ю. К. Отличительная особенность его лица – мощные, грубые складки на верхней губе и меж бровей. Лицо – добродушное, ласковое. Волосы вьются. Несколько золотых зубов.
Говорили о войне. Он дал мне прочесть своё стихотворение об окруженцах. Я прочёл и ничего не понял. Он растолковал: два миллиона русских солдат, сдавшихся в плен (а верней, сданных своими генералами) сегодня прокляты в памяти народной:
Они сдаются? Поднимают руки?
Пусть никогда не опускают рук!
Он же сделал из этого образ: люди с поднятыми руками – это одна из опор мира, не слабей других. Он оправдал их, так как в сдаче в плен они не были виноваты.
Рассказал мне, что «власовцы» – ярлык. Власов спас Москву в 41-м году. А потом, в Чехословакии, бойцы его РОА пришли на помощь восставшей Праге – как братья-славяне.
Я спросил, как у него с публикациями, с книгами. Он ответил, что, наконец-то, «прорвало». В издательстве «Молодая гвардия» выходит книга стихов, совершенно новых, кроме одного старого стихотворения. Редактор, некий Зайцев, заставил, правда, убрать всю «пьянку» и всех «богов». Ещё в «Современнике» выходит книга и ещё однотомник «Избранного» в «Художественной литературе».
– Сразу получу восемнадцать тысяч!
– <…>
Я спросил: как, по его мнению, остаётся поэт в памяти народной – несколькими стихотворениями, или всем творчеством? Он ответил совершенно определённо: несколькими произведениями.
– Вот ты – останется у тебя «Страж»… ну, и ещё надо несколько. У Есенина, у Блока, у Пушкина, у Лермонтова в творческом наследии очень много лишнего… Тот же «Евгений Онегин» – сколько милой, гениальной болтовни! Остаться в литературе можно даже одним стихотворением…
Он подошёл к книжной полке, нашёл книжку из серии «Классики и современники» и прочёл стихотворение Туманского – о птичке, выпущенной поэтом на волю:
Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей.
Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей.
Она исчезла, утопая
В сиянье голубого дня,
И так запела, улетая,
Как бы молилась за меня.
– Вот! Он сумел передать живой трепет! И оно – живёт!..
Ещё говорили о язычестве. Я сказал, что интересуюсь язычеством, чувствую в себе склонность принять его. Он отнёсся к этому отрицательно, сказав, что все мы на протяжении многих веков испытывали влияние христианства и не можем быть язычниками, мы – христиане. Я упорствовал, говоря, что я христианин – головой, а сердцем могу быть и язычником. Тогда он снял с полки и дал мне книгу Рыбакова о язычестве древних славян.
Ещё обрывки из этих дней:
* * *
Я: – Во мне есть натиск!
Он: – Тогда тебе надо было родиться Киплингом!
Я: – Киплинг тоже был маленький – вот и стал резкий, боевой!
Он: – Нет, это чисто англо-саксонская черта.
* * *
Я: – Я развожусь с женой, Юрий Поликарпович.
Он: – Тогда тебе надо перебираться в Москву.
Я: – Мне и в Ярославле неплохо.
Он (смеясь): – Это комплекс провинциала!
Я: – В Москву… Я там стану клерком!
Он: – Не успеешь! Сейчас Россия в страшном напряжении, всё быстро, всё мгновенно ломается, всё на грани. Не успеешь!
* * *
– Говорят, что поэт Николай Дмитриев на вас молится…
– Да, он монографию обо мне написал.
* * *
Чуть ранее, с Дробышевым. Читает нам (предварительно сбегав в свой кабинет, отпечатав там на машинке текст и дав его нам):
Планета взорвана! И в ужасе
Мы разлетаемся во мрак.
Но всё, что падает и рушится,
Великий ноль зажал в кулак.
Держа былое и грядущее
В сосредоточенной горсти,
Он держит взорванное сущее
И голоса: «Не отпусти!».
Дробышев (брюзгливо):
– Что ещё за «великий ноль»? Опять ты со своими символами!..
Ю. К. (пожимая плечами):
– Откуда я знаю? Надо полагать – Бог…
* * *
Читал ещё стихи про Генеральный штаб… я их не запомнил, запомнил только комментарий к этим стихам: будто бы какой-то родственник Ю. К. там работает (брат?), и этот родственник вроде бы признался ему, что они там «занимаются не тем». Недавно вот устраивали «войну всех против всех» – и продули… При этих словах Ю. К., по обыкновению, насмешливо улыбнулся.








