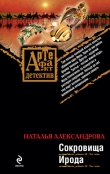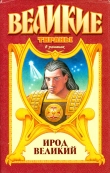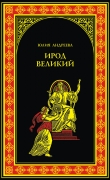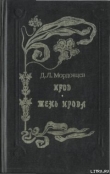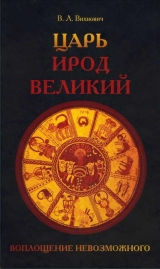
Текст книги "Царь Ирод Великий. Воплощение невозможного "
Автор книги: Всеволод Вихнович
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 31 страниц)
По завершении речи Николая в ответ на предложение Вара опровергнуть доводы Николая, обвиняемый не нашёл ничего лучше, как призвать Господа Бога явить чудо и доказать его невиновность. После нескольких повторных обращений высказать возражения Николаю, римлянин приказал принести яд и, чтобы проверить его действие, приказал дать его приговорённому к смерти преступнику. Выпивший это вещество преступник упал замертво. После этого Вар удалился и наследующий день составил подробный отчет о суде, после чего покинул Иерусалим. В свою очередь Ирод приказал арестовать Антипатра и отправил Августу послов с описанием постигшей его очередной семейной трагедии.
Уже после возвращения Вара в Рим стало известно о заговоре Антипатра против сестры царя Саломеи. Подкупленная им иудейская рабыня супруги Августа Ливии Акмэ прислала в Иудею царю копии писем Саломеи к императрице, «содержавшие самые резкие оскорбления и самые яростные обвинения по адресу Ирода». На самом деле эти письма были по заданию Антипатра сфабрикованы самой Акмэ и посланы царю. Однако у посланца была перехвачена и записка, непосредственно Акмэ к Антипатру: «Согласно твоему желанию, я послала твоему отцу те самые письма с сопроводительной запиской.
Я уверена, что по прочтении их он не пощадит своей сестры. Когда будет все кончено, прошу не забыть о своем обещании» (ИВ. С. 102).
Когда Ирод прочитал это письмо, ему пришло на ум, что вполне возможно, письменные свидетельства против Александра также были поддельными. Как пишет Иосиф Флавий, он пришёл в ужас от мысли, что мог казнить сестру на основании интриг Антипатра. Это всё также было донесено Августу.
После этого Ирод составил новое завещание, где имя Антипатра было заменено учившимся в Риме сыном Ирода от самаритянки Малфаки, которого звали Антипа И. Более того, он обошел оклеветанных Антипатром Архелая и Филиппа. Императору Августу Ирод завещал 1000 талантов, его супруге, придворным и вольноотпущенникам – 500 талантов. Щедро одарил он в завещании также деньгами и землями своих детей и внуков. Сестру Саломею за её верность ему он наградил особенно щедро.
Ироду было уже 70 лет, всё случившееся за последние годы потрясло его душевно и физически. Он очень страдал от болезней, от которых не мог излечиться, но сильная воля сохраняла его деятельный дух. Именно тогда произошел очередной конфликт с экстремистскими противниками всего направления его царствования, хотя с умеренными кругами фарисеев, которых представляли законоучители Гиллель и Шаммай, и даже с ессеями Ирод умел ладить.
Иосиф Флавий так излагает ход событий. Всё началось с того, что разнесся слух о немощи царя, и два популярных проповедника экстремистского толка Иуда и Матфий в 4 году до н.э. подбили группу своих сторонников уничтожить изображение золотого орла, помещённое по распоряжению Ирода над воротами, ведущими к Храму. Они утверждали, что демонстрация изображений запрещена законом, во всяком случае, в Храме. Злополучное изображение было уничтожено, прежде чем посланный царем воинский отряд напал на толпу и арестовал Иуду и Матфия и также сорок их учеников, остальные разбежались. Как полагает ряд исследователей, точная причина протеста не ясна. Несомненно, что все изображения человеческие были запрещены по иудейскому закону даже в нерелигиозном контексте, как свидетельствуют ранее описанные эпизоды с трофеями в театре в Иерусалиме. Но, хотя человеческие изображения избегались, чисто декоративные фигуры животных разрешались даже в религиозном контексте. Они использовались в Храме Соломона, а также как украшения его трона, во дворце хасмонейского царя Гиркана I и также во дворце сына Ирода – Ирода Антипы в Галилее. Не отмечено протестов против использования Иродом и монет птолемеевского типа с изображением орла. Возможно, правда, храмовый орел имел некоторое обидное значение – может быть, просто как легионная эмблема, символ римской мощи, и таким образом мог оскорблять национальное чувство иудеев. Однако после недавнего ухудшения отношений с Августом, поставившего под угрозу сам трон Ирода, о примирении и снисхождении в отношении всего, что имело антиримскую направленность, не могло быть и речи{247}.
Доставленные на допрос арестованные проповедники на вопрос о причине содеянного отвечали царю словами фанатичных религиозных фундаменталистов: «Мы с удовольствием подвергнемся смерти и какому угодно наказанию с твоей стороны, потому что сознаем, что мы подвергнемся этому не за свои преступные деяния, но за любовь к истинному благочестию» (ИД. Т. 2. С. 261). Ясно, что людям с такими настроениями – «зилотам» бесполезно что-либо разумное объяснять.
Ирод явно был глубоко оскорблен этими обвинениями. Несмотря на свою тяжелую болезнь, он приказал доставить всех пленных в Иерихон и собрал в городском театре самых влиятельных иудеев. Там, как пишет Иосиф Флавий, «лёжа в постели, не будучи в силах держаться на ногах, он принялся перечислять все свои заслуги перед ними, упомянул, с какими расходами он построил Храм, чего не могли сделать в течение своего стодвадцатилетнего царствования Хасмонеи, и сказал, что он соорудил его во славу Предвечного и украсил его драгоценными приношениями, память о которых, как он надеется, останется за ним и после смерти». Он также обвинил арестованных в стремлении разграбить храмовые сокровища. Собравшиеся поддержали царя и, как сообщается в «Иудейских древностях», «Ирод обошелся с ними (бунтовщиками) довольно мягко». Зачинщиков бунта вместе с несколькими товарищами было приказано сжечь живьем (ИД. Т. 2. С. 261–262). Был также смещён Первосвященник Матфий (Мататия), допустивший беспорядки, и царь назначил на его место брата своей уже бывшей жены Мариамны II – Иозара.
Время казни двух вдохновителей мятежа с несколькими юношами, непосредственно сбрасывавшими золотого орла, известно. Она состоялась в день лунного затмения 13 марта 4 года до н.э. Не ясно положение с остальными задержанными, о судьбе которых сказано в «Иудейских древностях» (ИД. Т. 2. С. 262), что «Ирод поступил с ними довольно мягко». Из этого может следовать, что казнена была только вышеуказанная основная группа бунтовщиков, однако в «Иудейской войне» сообщается, что «остальных он передал своим прислужникам для казни» (ИВ. С. 104).
Сразу после этого Ироду стало хуже. Описание его страданий было ужасно. Он испытывал страшные боли в желудке, живот и ноги отекли от водянки, низ живота покрылся язвами, в которых завелись черви, всего его сотрясали судороги. По мнению современных специалистов, он страдал от тяжелого заболевания почек, сахарного диабета и, возможно, рака кишечника. Однако Ироду всё же не изменяла сила духа, и он приказал отвезти его за Иордан, чтобы попытаться использовать целебную силу горячих ключей на курорте Каллирое, впадавших в Мёртвое море. Сначала ему стало легче и врачи решили согреть его тело горячим маслом, погрузив его в ванну. После этой процедуры он потерял сознание, и слугам показалось, что он умер. Однако через некоторое время он пришёл в себя, и, очевидно, потеряв надежду на излечение, отдал распоряжение выдать каждому солдату 50 драхм и щедро наградил военачальников разного ранга и своих друзей.
Царя перевезли снова в Иерихон, и там он получил письмо Августа по делу Антипатра, в котором император предоставлял ему право изгнать или казнить преступника. Ирод после некоторого облегчения вдруг снова почувствовал сильные боли. Он попросил принести себе яблоко и нож. Как пишет Иосиф Флавий, «раньше он обыкновенно сам срезал с яблок кожу и ел плод, нарезав его небольшими кусочками. Взяв нож и оглянувшись, он вдруг задумал пронзить себя им. Он наверное привел бы этот намерение в исполнение, если бы его не предупредил его двоюродный брат Ахиав и не схватил его за руку» (ИД. Т. 2. С. 264). Однако Ирод при этом громко закричал и повсеместно распространился слух о смерти царя.
Когда слух этот дошел до находившегося в заключении Антипатра, он сделал попытку спастись. Антипатр обратился к тюремщикам, обещая щедро вознаградить их после своего освобождения. Однако ему явно не повезло, поскольку начальник тюрьмы немедленно сообщил об этом пришедшему в себя царю. Тот, получив это известие, издал «столь громкий крик, что казалось невозможным, что бы он был исторгнут из груди столь больного человека» (ИВ. С. 105). Немедленно по его приказу были посланы несколько телохранителей чтобы убить Антипатра. Тело его без всяких почестей было похоронено в Гиркании. Сам Ирод пережил неверного сына только на пять дней.
Здесь надо остановиться на рассказе Иосифа о том, что царь перед смертью якобы приказал явиться в Иерихон под страхом смерти множеству знатных иудеев, запереть их на ипподроме и в день его смерти всех убить, чтобы в день его смерти народ действительно был охвачен скорбью. По этому вопросу можно привести обоснованное заключение авторитетного исследователя жизни и трудов Ирода А. Шалита: «История о последнем кровавом приказе Ирода соответствует тому, который Талмуд приписывает такому же приказу царя Александра Янная, историческая достоверность обоих сообщений одинакова»{248}, иначе говоря, нулевая. Такого же мнения придерживаются и другие исследователи, хотя некоторые пытаются найти историческое «зерно» в этом предании. Например, Э. Ренан полагает, что возможно, имелись заложники, которых выпустили после смерти Ирода{249}.
Остается добавить, что, очевидно, признав отсутствие достойного преемника среди его потомков, царь перед кончиной решает разделить царство. Согласно последнему завещанию прежний главный наследник, сын самаритянки Малфаки Ирод Антипа, становится тетрархом Галилеи и Переи. Его старший брат восемнадцатилетний Архелай II, получает в соответствии с наделом корону царя Иудеи. Северо-восточные территории царства переходят во владение его сводного брата Филиппа. Наконец, прибрежные города Явне (Ямнию), Азот (Ашдод) и основанный им город внутри страны Фазаилиду (Фацаэлис) он завещал своей сестре Саломее. Кроме того, она получила 500 тыс. серебряной монетой. Большие денежные суммы и ренты получили все его родственники и друзья. Императору он завещал 10 млн. серебряных монет и много золотой и серебряной утвари, а также драгоценной одежды. Не забыл Герод также императрицу и других друзей в Риме, оставив им 500 тыс. серебреников.
Если считать с момента провозглашения его царем в 40 году до н.э., то Ирод носил этот титул 36 лет, из которых он реально правил Иудеей 33 года.
Сразу же после его смерти сохранившая самообладание Саломея взяла на себя устройство государственных дел. Были отпущены по домам содержавшиеся в Иерихоне заложники. Затем в большом амфитеатре были собраны преданные Ироду войска и от имени покойного главнокомандующего министр финансов Птолемей, предъявив в качестве полномочий перстень царя, прочитал им завещание монарха, в котором тот благодарил своих воинов за верную службу и просил их соблюдать верность своему сыну и наследнику Архелаю. В ответ, сказано в «Иудейской войне» (ИВ. С. 106), «шумные приветствия немедленно обрушились на Архелая, и воины вместе с народом стройными рядами стали подходить к нему, чтобы обещать верность и принести совместные молитвы Богу».
После этого состоялись похороны царя. Согласно описанию Иосифа Флавия, «Архелай сделал всё, чтобы погребение было как можно более великолепным… Погребальные носилки из чистого золота были украшены драгоценными камнями и убраны дорогим пурпуром. Тело Ирода было облачено в виссон (дорогую материю багряного цвета. – В. В.), на голове его покоилась диадема, а поверх неё золотой венец, в правую руку был вложен скипетр. За телом шли сыновья Ирода и все его многочисленные родственники, вслед за ними – телохранители, за ними – колонны фракийцев, германцы и галлы, все в полном боевом облачении. Далее шествовало войско при полном вооружении, сохранявшее боевой строй и ведомое военачальниками, за войском – 500 домашних рабов и вольноотпущенников, воскурявших благовония. Тело было перенесено на расстояние 70 стадиев (прим. 15 км) до замка Геродион, где, во исполнение воли покойного царя, было погребено» (ИВ. С. 106)[8]8
Недавно поступило сообщение, что в результате археологических работ, возглавляемых израильским профессором Э. Нецером, удалось обнаружить остатки могилы Ирода. См.: Интуиция, Иосиф Флавий и старые карты // Санкт-Петербургские ведомости. 23.10.2007.
[Закрыть].

Описание похорон царя Иосиф завершает словами: «Так кончается история Ирода». Однако есть все основания дополнить слова историка. Этот, оказавшийся последним торжественный парад воинской силы Великого царя Иудеи, явился своеобразным реквиемом по всему делу его долгой жизни: самой стране Иудее, иудейскому Иерусалиму и Храму, уничтоженному римлянами в 70 году н.э., то есть всего лишь через 75 лет после его похорон.
Глава 23.
ЭПИЛОГ ВМЕСТО РЕКВИЕМА
Завещание Ирода. Война Вара. Посольства иудеев к Августу. Август утверждает завещание Ирода. Архелай – правитель Иудеи. В 6 г. н.э. Август по просьбе иудеев смещает Архелая и восстанавливает в Иудее власть римских прокураторов. Краткое возрождение Иудейского царства при внуке Ирода – Агриппе. Мессианские движения в Иудее – ессеи, христиане, фарисеи, зилоты. Великое иудейское восстание под руководством зилотов. Умеренные фарисеи. Разрушение Иерусалима в 70 г. до н.э. Христианство и раввинистический иудаизм до подавления мессианского восстания Бар-Кохбы (132–135 гг.).
История иудейского царства, точнее самой Иудеи, как самостоятельного субъекта земной политики формально продолжалась ещё около полутора столетий после смерти Ирода – до 135 года. Однако эта история напоминает скорее продолжительный некролог. Очень скоро после смерти Великого царя иудеи в основной массе решительно отказались от всего того, что несла чуждая эллинистическая культура, даже если это проявлялось в благах цивилизованного государства, благосостояния и великого изобразительного искусства. Все надежды народ и его вожди возлагали на Мессию, который установит Царство Божие на Земле.
Это противостояние иудаизма (в форме христианства) эллинизму в поэтической форме отразил К. Кавафис в стихотворении, хотя там речь шла о противостоянии христиан стороннику эллинизма императору Юлиану, считавшему христиан иудейской сектой, и решившему даже в 361 году восстановить Иерусалимский Храм:
О том, во что мы верим, Юлиан
сказал бездумно: «Прочитал, познал
и не признал», – всем на смех воображая,
что этим «не признал» мы уничтожены.
Но к таким хитросплетениям мы не привыкли,
Мы христиане. Ты прочёл, но не познал; а если б
Познал – признал бы. Прост наш ответ{250}.
Если заменить слово – «христиане» на «иудеи», то не меняется не только смысл, но даже и размер.
Как известно, реальные исторические явления в жизни народа только иллюстрируют его представления о философии истории. События, развернувшиеся в Иудее после смерти великого царя, полностью соответствуют этому. Согласно последнему завещанию Ирод передал собственно Иудею с титулом царя Архелаю – своему старшему сыну от брака с самаритянкой Мальтакой, его младшему брату Ироду Антипе с титулом тетрарха – Галилею и часть Заиорданья – Перею, а северо-западные провинции, населенные преимущественно неиудеями, – Трахониду и Батанею, также с титулом тетрарха сыну от иудейки Клеопатры – Филиппу. Позаботился царь и о сестре Саломее и других родственниках и приближенных, обеспечив всех поместьями и достойными денежными суммами. Царь явно хотел сохранить единство страны и обеспечить продолжение своей политики благотворного для неё сотрудничества с Римом.
Однако эта единственно возможная разумная политика сразу же потерпела неудачу. Хотя ещё до утверждения завещания Августом армия приветствовала Архелая как царя, и он обратился к народу в Иерусалиме с обещанием всяких милостей, в Иудее сразу же начались бунты и беспорядки. Архелай не обладал достаточным авторитетом и властью, чтобы успокоить страну, и на помощь ему римский наместник провинции Сирии направил все имеющиеся у него войска – три легиона со вспомогательными войсками. Жертв и разрушений было так много, что в талмудической хронике эти события отразились как «Война Вара». Иосиф Флавий справедливо сравнивает войну Вара с вторжениями сирийского царя Антиоха Эпифана и Помпея. Таким образом, уже в год смерти Ирода его дело получило первый удар – на территории государства порядок можно восстановить только с помощью оккупационных римских войск. После подавления восстания Вар расквартировал целый легион в районе Иерусалима, в столице пока остававшейся формально независимой Иудеи.
Насколько запутанной и противоречивой была обстановка в самой Иудее, показывает обсуждение у Августа завещания Ирода. Создается поразительное впечатление, что только император явно стремился сохранить единство царства и утвердить завещание иудейского царя. Он благосклонно принял Архелая, прибывшего в Рим в сопровождении матери, верного советника и друга Николая Дамасского и многих друзей, оставив временно страну на попечение Филиппа. Однако вместе с ним прибыла также Саломея со всею роднёю, чтобы формально поддержать Архелая, а на самом деле, как пишет Иосиф Флавий, для противодействия ему. Однако этого мало, в Рим отправился и Ирод Антипа, чтобы заявить перед Августом свои претензии на престол, в этом его поддерживал и брат Николая Птолемей. В то же время императору пришли донесения римских чиновников о беспорядках и бунтах в Иудее, потребовавшие использования против повстанцев римских войск и содержащие в общем неблагоприятные для Архелая сведения.
Август внимательно выслушал всех горячо и злобно обвинявших друг друга визитеров из Иерусалима. Дело дошло до того, что, как пишет Иосиф Флавий, «все родные стали на его (Антипы) сторону, впрочем не из расположения к нему, но из ненависти к Архелаю, особенно же из-за того, что все они жаждали свободы и желали быть подчинены римскому наместнику (ИД. Т. 2. С. 270).
Положение Архелая ещё больше осложнилось, когда в Рим прибыла делегация «представителей народа» в составе 50 иудеев, по мнению Дубнова, это были «представители теократической части общества или умеренных фарисеев»{251}, выступивших в принципе за отмену царской власти и замену её просто автономией при римском правлении. Не улучшило положение и срочное прибытие в Рим Филиппа, посчитавшего необходимым не упустить свою долю при возможном разделе страны, «вследствие множества поборников автономии» (ИД. Т. 2. С. 280). Для выработки окончательного решения Август созвал в храме Аполлона большой совет, куда собрались все тяжущиеся стороны, причём «представителей народа» сопровождала группа местных иудеев. Всем им императором было предоставлено право голоса, но особенно поразительны были речи иудейских посланцев, обвинявших покойного царя во всевозможных «беззакониях» и преступлениях. Многие сюжеты напоминают памфлеты против Ивана Грозного, составленные его противниками. Однако примечательно, что начали с того, что он «не отступал перед самовольным введением различных новшеств» и «окрестные города, населенные иноземцами, не переставал украшать». Об обоснованности многих обвинений следует судить хотя бы по такому месту обвинений против царя: «Можно обойти молчанием растление им девушек и опозорение им женщин. Так как эти злодеяния совершались им в пьяном виде и без свидетелей, то потерпевшие лучше молчали, как будто бы ничего и не было, чем разносили молву об этом». Таким образом признается, что свидетелей таких преступлений и даже конкретных жалоб пострадавших нет, хотя после смерти царя бояться не было оснований. Тем не менее, далее следует чисто риторически патетический пассаж, как будто всё это доказанная истина: «Итак, Ирод выказал относительно их такое же зверство, как могло выказать лишь животное, если бы последнему была предоставлена власть над людьми» (ИД. Т. 2. С. 280–281). Но особенно поразительно окончание речи. Обвинив Архелая в проявлении такой же жестокости при подавлении беспорядков в Храме, они обратились к императору с прошением освободиться от такого царства и таких правителей и «слиться с населением Сирии и подчиниться посылаемым туда наместникам». То есть вместо того, чтобы просить помощи в назначении более милосердного правителя из местных иудейских нотаблей, возможно даже Первосвященника, представители иудеев вообще решительно отказываются даже от видимости национального земного государства и соглашаются стать обычными подданными языческого владыки, с оккупацией римскими войсками Святой Земли и возможным возникновением в ней, как и во всей империи, римских поселений, чего не было во времена Ирода!
Получилось так, что ходатаем за сохранение иудейской государственности выступил многолетний друг и советник Ирода греческий (!) философ и дипломат Николай. От отверг все обвинения иудейской делегации и резонно отметил, что обвинители «не выступали против Ирода, пока он был жив (особенно неприлично обвинять мертвого, когда они имели возможность сделать это при его жизни и когда они могли добиться наказания его)». Николай явно имел в виду их возможность жаловаться на царя императору. Что касается действий Архелая, то обвинители сами, по утверждению Николая, первые стали нападать на тех, кто был обязан поддерживать порядок.
Выслушав все стороны, Август после нескольких дней раздумий принял удивительное решение. По существу, вопреки просьбам иудеев, он в основном последовал завещанию Ирода и попытался сохранить иудейское государство. Император предоставил Архелаю основную часть царства Ирода – Иудею, Самарию и Идумею, правда не в качестве царя, а этнарха, то есть главы народа. Его власть распространялась также и на важнейшие города: Иерусалим, Кесарию (Стратонова Башня), Себастию, Яффу. Владения Архелая приносили доход в 600 талантов (ИД. ИВ. 400). Помимо этого, Архелаю было сказано, что он получит почетное звание царя, если докажет, что достоин этого.
Его брат и соперник Ирод Антипа получил Галилею и Перею с доходом в 200 талантов в год, а Филиппу достались северо-западные области царства Ирода, приносившие доход в 100 талантов. Несколько городов с греческим населением – Газа, Гадера и Гиппос были присоединены к провинции Сирии.
О весьма дружественном и великодушном отношении Августа к памяти Великого царя свидетельствуют и другие его решения. В удел сестре Саломее он передал завещанные города Ямнию, Азот и Фасаилиду во владениях Архелая, добавив к ним дворец в Аскалоне, всё это давало ей ежегодный доход в 60 талантов. Более того, Август не только утвердил всё завещанное родственникам царя, но и от себя добавил двум незамужним дочерям царя по 250 тыс. серебряных драхм (серебряников) и выдал их замуж за сыновей Фероры. Самым трогательным актом памяти иудейского царя, бывшего многие годы его верным помощником и доверенным лицом, было решение Августа отказаться в пользу сыновей Ирода от огромной суммы – 1 500 талантов, завещанных лично ему Иродом, оставив себе только несколько вещей, «не столько, впрочем из-за их ценности, сколько на память о царе Ироде» (ИД. С. 280–283; ИВ. С. 118–120). По всем человеческим понятиям, нельзя представить себе больших доказательств искренней и бескорыстной дружбы.
Однако после решения императора произошло событие, показавшие, что эллинизированные иудеи диаспоры сохранили лучшие чувства к великому царю, чем его иудейские подданные. Как свидетельствует Иосиф Флавий, вскоре в далеком Сидоне один красивый иудейский юноша объявил себя чудесно спасшимся Александром, сыном царя и Мариамны. Его сразу же признали большие общины на островах Крит и Мелос, к нему стали стекаться толпы иудеев. Многие из них, поверив, что после занятия царского престола он щедро их отблагодарит, предоставили ему большие суммы денег. По прибытии в Рим его как царя иудейского торжественно встретили толпы местных иудеев, прежде всего те, кто «расположен к Ироду и дружен с ним». Словом, все это сильно напоминала историю Лжедмитрия в России. Хотя Александр вскоре был разоблачен Августом, который лично знал его и его брата, однако для нашего изложения ясно, что иудеи диаспоры явно признавали законной и желательной преемственность царской власти в Иудее и считали законной династию Ирода.
Но в самой Иудее земная царская власть по-прежнему отвергалась. Иосиф Флавий черной краской рисует недолгое правление Архелая, вызывавшее недовольство его подданных. Это привело к тому, что через десять лет депутация иудеев повторно просила императора освободить их от власти Архелая. Очевидно этнарх был не лучшим правителем, поскольку с аналогичной просьбой обратились к Августу и самаритяне, с которыми прекрасно ладил его отец. Однако характерно, что, жалуясь на него, иудеи опять-таки не просили императора нового более приемлемого царя и сохранения иудейского царства. На этот раз император уступил прошениям обеих депутаций: Архелай был смещен и в 6 году н.э. отправлен в ссылку в г. Вьенна на левом берегу реке Рона, немного южнее современного Лиона. В этой связи можно быть уверенным в том, что Архелай и его спутники были первыми иудеями в этой части современной Франции, бывшей тогда сравнительно недавно завоеванной римлянами провинцией Нарбоннская Галлия, а город Виенна – главным городом галльского племени аллоброгов.
За низложением Архелая последовало включение его удела в состав провинции Сирия. Однако как область этой провинции Иудея стала управляться особыми римскими чиновниками – прокураторами, избравшими в качестве резиденции в построенную Иродом Кесари. Приморскую. Осколком былого государства великого царя долгое время оставались тетрархии Ирода Антипы (Галилея и Перея) и Филиппа (северо-западные окраинные области). С этого времени можно говорить о прямом римском владычестве, но, хотя с Земным иудейским царством было покончено, с тем большей силой укоренилась, окрепла вера в Царство небесное.
Надо сказать, что среди римских прокураторов были чиновники разного уровня: толковые и плохие администраторы, честные и мздоимцы, как, впрочем, и в других провинциях империи. Однако даже лучшим из них управлять народом, самая активным часть которого стремилась и готовилась к грядущему царству Мессии, было весьма трудным делом. Конечно, имели место и социально-политические и экономические причины этого, но все же главными оставались идеолого-религиозные обстоятельства. Они превращали Иудею в своего рода постоянную «горячую точку империи», несмотря на стремление Рима уважать религиозные чувства иудеев и даже приносить в Иерусалимском Храме жертвы от имени императора.
Конечно, теоретически был возможен был и так называемый «иродианский» вариант развития. Егона короткое время удалось воплотить внуку Ирода и Мариамны, Агриппе I, которого после гибели его отца принца Аристобула Ирод в трехлетнем возрасте отправил на воспитание в Рим. Там он вырос в среде римской знати и, ввиду особых способностей, сумел приобрести близких друзей даже среди членов императорской семьи. В результате дворцового переворота, в котором иудейский принц принимал активное участие, римским императором стал его друг Калигула. В благодарность за преданность Калигула в 37 году н.э. передал ему тетрархию Филиппа с дарованием ему титула царя. Однако Агриппа, продолжая активное участие в жизни римского двора, затем много способствовал свержению впавшего в безумие Калигулы и утверждению следующего императора Клавдия. Последний также, проявив к Агриппе искреннюю признательность, присоединил к владениям своего иудейского друга всю область, находившуюся под властью римских прокураторов. Таким образом, в 41 году под властью царя, именовавшегося Иродом-Агриппой, было восстановлено царство Ирода Великого. В течение своего краткого трёхлетнего правления Ирод-Агриппа, в общем, успешно проводил политику своего деда. После его смерти император Клавдий первоначально хотел даже передать его царство семнадцатилетнему сыну Ирода-Агриппы – Агриппе II, но его уговорили не делать этого ввиду юности будущего царя. Иудея вернулась вновь под власть прокураторов, и конфликты возобновились с прежней силой.
Опять-таки, как было указано ранее, римские прокураторы были не лучше и не хуже назначаемых в другие провинции. Кстати сказать, что среди них был даже иудей по рождению Тиверий-Александр, племянник знаменитого еврейского философа и главы иудейской общины Филона Александрийского. Но все равно компромисс оказался совершенно невозможным. Дело в том, что общий идеологический и религиозный кризис в Римской империи в середине и конце I века н.э. особенно остро проявился в религиозных исканиях в иудейской среде. При этом следует отметить, что именно тогда духовные искания и движения в иудейском сообществе нашли через исторически короткое время судьбоносный отклик во всем тогдашнем цивилизованном мире. Именно тогда это проявилось в жажде скорейшего исполнения библейских пророчеств о явлении Мессии из рода царя Давида и создании на земле его царства, что делает эпоху конца построенного Иродом Второго Храма переломной в истории человечества.
Одним из проявлений и религиозных исканий было появление людей, искренне веривших и убедивших других в том, что они и есть долгожданные посланцы Бога Израиля. Наряду с такими духовными убеждениями многие проявляли и политический фанатизм. В качестве примера можно привести явление во времена наместничества Антония Феликса (52–60 гг. до н.э.) из Египта «лжепророка», собравшего «около 30 тысяч (!) человек» (Флавий именуемых их «простаки»). Он провел их «пустынной местностью к Масличной горе, откуда намеревался силой войти в Иерусалим, подавить римский гарнизон, захватить верховную власть, сделав соучастников своими телохранителями. Однако Феликс предупредил его намерения и вышел навстречу с тяжёлой римской пехотой» (ИД. Т. 2. С. 138).
Естественно, что не все мессианские движения в иудейской среде носили политически экстремистский характер. По-прежнему отстранялись от активного участия в политической борьбе ессеи, представителем которых считают евангельского Иоанна Крестителя. Тем не менее, показательно, что их движение привлекло внимание многих. Как пишет римский ученый Плиний Старший (23/24–79 н.э.), «стекается к ним множество уставших от жизни людей, которых волны судьбы прибивают как к берегу, к этому образу жизни»{252}.
Немало сторонников привлекло и умеренное фарисейское движение, положившее начало составлению и толкованию Священного Писания. Эта великая реформа и иудаизме разрабатывалась в школах великих Законоучителей – Гилеля и Шаммая, а также их последователей. Споры и дискуссии этих многочисленных законоучителей положили начало устной Торе – Талмуду. Устную Тору потомки сравнивают с несущей колонной будущего раввинистического иудаизма, покоящегося на фундаменте Письменной Торы – Библии (Танахе). Это направление фарисеев, провозглашавшее необходимость применения духовного оружия против чуждого влияния и угнетения, также нашло сторонников даже за пределами иудейской среды. В качестве наиболее характерного примера можно указать обращение царской семьи небольшого месопотамского эллинистического царства Адиабена в иудаизм. Царица-мать Елена часто ездила в Иерусалим и тратила большие суммы денег на помощь нуждающимся и украшение Иерусалимского Храма. После смерти Елены в 55 году н.э. наследовавший ей брат Монобаз II продолжил эту традицию и воздвиг в Иерусалиме для сестры и её сына Изата роскошную усыпальницу (ИД. Т. 2. С. 392–401), сохранившуюся до нашего времени.