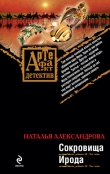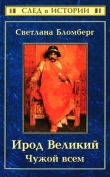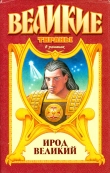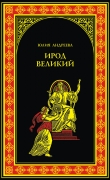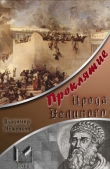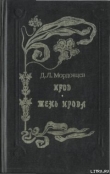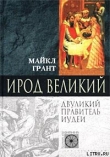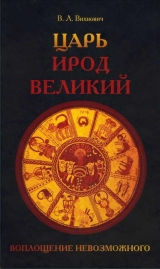
Текст книги "Царь Ирод Великий. Воплощение невозможного "
Автор книги: Всеволод Вихнович
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 31 страниц)
Постепенно доверие к нему Ирода возрастало, он даже вызвал из ссылки ко двору его мать – Дорис, в течение трех десятилетий страдавшую от позора развода и изгнания из дворца. После её изгнания девять других женщин разделяли ложе с Иродом и обменивались с ним брачными обетами. Семеро из них родили ему детей, но первенец Ирода – дитя Дорис при этом игнорировался. Поэтому, когда Ирод вернул Антипатра и Дорис во дворец, оба увидели возможность для мести. Звездный час для них наступил, когда Агриппа в 13 году до н.э. после десятилетнего пребывания в Азии собрался в Рим. Ирод попросил его взять с собой Антипатра с большими подарками в Рим, чтобы его сын мог представиться самому Августу как возможный наследник.
В Риме Антипатру, снабжённому рекомендательными письмами царя к своим влиятельным друзьям, был оказан блестящий прием. Более того, он благосклонно был принят императором в одежде и украшениях царя, только без царского венца. Однако и находясь в Риме, он не перестает интриговать против братьев и, якобы беспокоясь о жизни отца, заваливал Ирода посланиями о злых замыслах детей Мариамны против него. Постепенно Ирод искренне уверовал в преступные намерения сыновей, поскольку такие же сведения поступали ему и от других, а братья, как и ранее, не скупились на высказывание претензий к отцу в самых резких выражениях.
В конце концов Ирод решает просить самого императора наладить отношения между ним и его плохими сыновьями. Вполне возможно, что юридическое основание этого шага Ирода было связано с правовым статусом принцев. Когда речь шла о частных лицах, то местный правитель имел право сам выносить приговор. Здесь же обвинялись наследники царя – «друга и союзника римского народа», и поэтому никто не мог выносить приговор без Августа. Ирод же не обладал правом самостоятельно решать этот вопрос, поскольку тем самым он нарушил бы предписания римского государственного права. Не следует также забывать, что семья иудейского царя, в том числе и принцы, обладали статусом римских граждан.
В ответ на согласие Августа Ирод в 12 году до н.э. отправляется в плаванье с сыновьями Мариамны в Рим, чтобы предстать перед его судом. Встреча состоялась в североиталийском городе Аквилея в присутствии Антипатра. Всё разбирательство описано настолько живо и подробно, что предполагает в качестве источника Иосифа Флавия искусное перо друга царя философа и писателя Николая Дамасского. В эмоциональной речи Ирод горько жаловался на неблагодарность юношей, обвинил сыновей в замысле убить отца, имея в виду захватить престол. Ирод также подчеркнул их недостойное поведение, несмотря на его великодушие и сдержанность. В заключительной части речи он сказал, что «не воспользовался своей личной властью, но решил привезти юношей к их общему благодетелю Цезарю, и, отказавшись от всего, на что может иметь право оскорблённый отец и подвергшийся козням царь, готов вместе с ними выслушать решение императора» (ИД. С. 199).
Александр и Аристобул понимали серьёзность своего положения при выборе стратегии защиты. Они не могли контробвинять перед Августом отца, подтверждая тем самым обвинения Ирода. Они должны были оправдываться или были бы признаны виновными. Выступавший Александр, обладавший несомненно блестящим ораторским талантом, которым он овладел во время учебы риторике в Риме, искусно построил речь в защиту себя и своего брата. В этом отношении показательно уже её начало: «Отец! Расположение твоё к нам подтверждается уже всем этим делом; ведь если бы ты замышлял против нас что-нибудь ужасное, ты не привел бы нас к тому, кто является общим спасителем….Тебе в силу твоей царской и отцовской власти, было возможно расправиться с людьми, тебя обидевшими». Отвергнув все обвинения в заговоре против отца, Александр резонно отметил, что справедливый император никогда бы не оставил без наказания отцеубийц. Закончил же речь он в духе римского почитания отцовской власти: «Если же у тебя ещё есть какое-либо опасение относительно нас, то спокойно принимай свои меры в ограждение своей личной безопасности, мы же удовлетворимся сознанием своей невиновности: нам жизнь вовсе не так дорога, чтобы сохранять её ценою беспокойства того, кто даровал нам её» (ИД. Т. 2. С. 201–202). При этом братья и многие присутствующие не скрывали слез. Ирод был также взволнован и расстроен.
Император, видимо, знавший лично братьев, которые бывали у него во дворце во время их учебы в Риме, проявил к ним симпатию. Он указал на неправильное поведение сыновей Мариамны по отношению к отцу, но счё их невиновными в злых умыслах. После такого решения императора всё закончилось умилительной сценой. «Когда сыновья захотели броситься к ногам отца и со слезами вымолить себе прощение, Ирод предупредил их и стал осыпать поцелуями, так что никто из присутствующих, ни свободнорожденный, ни раб не был в состоянии скрыть своё волнение» (ИД. Т. 2. С. 202). Антипатру также ничего не оставалось, как выразить радость по поводу примирения братьев с отцом. В последующие несколько дней Ирод подарил Августу 300 талантов для угощения народа во время празднеств. В свою очередь император передал ему половину доходов с медных рудников на Кипре и поручил управление второй половиной.
Далее он признал право Ирода назначить своего наследника, либо разделить свое царство между несколькими. Это, конечно, не означало отказ императора от своего права утверждать, но предоставляло возможность Ироду предлагать свои кандидатуры. Далее Иосиф Флавий пишет, что Ирод даже хотел немедленно совершить это, но «император не разрешил, указавая на то, что при жизни не надо отказываться от власти над царством, ни над детьми своими» (ИД. С. 203).
На пути всех четверых в Иудею Ирод встретился в Киликии с Архелаем, царем Каппадокии, тестем Александра, и тот выразил радость по поводу примирения и особенно потому, что его зять Александр сумел опровергнуть все возведенные против братьев обвинения. По возвращении в Иерусалим царь в Храме объявил народу, что при жизни не будет отказываться от власти. Наследниками же будут три его сына – Антипатр, Александр и Аристобул, причем роль старшего сына в неясном смысле – первая. В свое время Антипатра даже хотели женить на дочери последнего хасмонейского царя – Гиркана.
Как и следовало ожидать, указанный вариант не удовлетворил никого и только привел к тому, что вокруг каждого из этих трёх «царей» образовался маленький двор в пределах обширного дворца Ирода. Антипатр лишался претензии на исключительное право на наследство, к тому же он не чувствовал себя уверенным в будущем, поскольку сыновья Мариамны могли восстановить свои позиции. Но с другой стороны, возвышение Антипатра вызвало недовольство Александра и Аристобула, причём, как и ранее, они возмущались открыто, а Антипатр и Дорис старались донести их речи до ушей Саломеи и Фероры, а через них до самого царя.
Дальнейшее в связи с этим предвидеть совсем не трудно. Нужно только учесть, что Ирод в последние годы жизни уже начал страдать от приступов болезни, которая несомненно усугублялась чувством отчаяния дальновидного реформатора, остро осознающего, что все благополучие его страны существует, пока он жив. Постепенно такое состояние принимало у него характер мании преследования, тем более, что поступающие к нему со всех сторон доносы были правдоподобны, и, как известно, самая страшная та клевета, в которой к большой массе лжи искусно примешивается доля правды.
Но при всем ужасе последующих событий надо отметить, что Ирод скорее страдал от излишней доверчивости, чем от маниакальной подозрительности. Вначале он отказался верить доносам и долго не хотел прибегать к репрессиям. Об этом свидетельствует хотя бы первый кризис в царском дворце, когда стали особенно явно обостряться многочисленные и многосторонние семейные конфликты. Иосиф Флавий, правда, связывает это со святотатством царя, якобы осмелившегося проникнуть в гробницу Давида в поисках сокровищ. Однако вероятней всего, это было следствием коварных маневров Антипатра и несдержанности речей сыновей Мариамны. Антипатр явно преуспел в стремлении убедить Ирода в том, что он один охраняет его благополучие. Ирод поверил ему и даже рекомендовал Антипатру завязать дружбу с Птолемеем, царским министром финансов.
Между тем у Саломеи созрел план, как спровоцировать Александра на решительные действия по отношению к отцу. Старая интриганка воспользовалась тем, что у Ирода возникли проблемы с его братом Феророй, тетрархом Переи. Когда тот женился на рабыне, царь воспринял это как личное бесчестие. Дважды Ирод предлагал Фероре жениться на одной из своих дочерей. Ферора сначала соглашался подчиниться и оставить любимую жену, но затем отказывался это сделать. Саломея убедила обиженного брата, который также домогался власти, сказать Александру, что Ирод имел интимные отношения с его женой Глафирой, полагая, что это поведет к попытке охваченного ревностью Александра убить отца. Однако эта провокация имела совсем неожиданные последствия. Изумленный откровениями Фероры, Александр отправился прямо к отцу и в слезах передал ему слова Фероры. Ирод немедленно вызвал брата и в гневе обратился к нему: «Гнуснейший мерзавец, неужели ты дошёл до такой степени неблагодарности, что мог обо мне подумать и распространять такие вещи? Разве я не вполне ясно вижу твои намерения; ведь ты являешься к моему сыну с такими речами не только для того, чтобы опозорить меня, но и добиваешься моей гибели, заставляя детей моих ковать крамолу против меня и готовить мне яд их руками» (ИД. Т. 2. С. 213–214). Быстрый ответ Ирода показывает, что он действительно подозревал Ферору в заговоре против него. Ферора отговорился, сославшись на то, что это всё выдумала Саломея. Присутствовавшая при этом Саломея с криком отрицала все, уверяя, что Ферора все выдумал сам. Разгневанный Ирод выгнал их и даже похвалил сына за откровенность и выдержку.
Однако вскоре именно с Александром оказался связан уже окончательный разрыв отношений детей Мариамны с отцом, имевший для них самые трагические последствия.
У царя было три слуги, которых он любил за красоту: один выполнял обязанности виночерпия, другой служил за столом, третий был постельничим. При этом, как пишет Иосиф Флавий, они имели большое влияние на государственные дела. Историк называет их «евнухами» (греч. «хранитель спальни»), но это не обязательно были изувеченные посредством операции, кастрированные люди. Очень часто в древности это понятие имело гораздо более широкий смысл и нередко обозначало какую-то придворную должность, подобно тому как звание «полковник» не обязательно обозначает только командира полка. Кто-то, вероятно, Антипатр, донес царю, что Александр, подкупивший их большой суммой денег, имеет плотские отношения с ними. Как было указано выше, по законам Торы, гомосексуальные отношения рассматривались как серьезное преступление, хотя для нравов римской золотой молодежи, в среде которой воспитывался Александр, они были обычным делом. Когда Ирод спросил служителей об их связях с Александром, они это не отрицали, но настаивали на своей невиновности в смысле замыслов против царя.
Тем не менее, такое поведение сына, с которым он только недавно примирился, возродило самые страшные подозрения царя. Охваченный яростью, он приказал допросить их под пытками[6]6
Древний мир не уступал в этом отношении самому мрачному средневековью. См.: Тираспольский Г.И. Беседы с палачом. Казни, пытки и суровые наказания в Древнем Риме. М., 2003.
[Закрыть], желая вынудить их сообщить об истинных замыслах Александра и его брата. Сначала слуги выдерживали пытки и не говорили ничего, что могло свидетельствовать против принцев. Затем они признали, что Александр ненавидел отца, говорил о нём как о бесстыжем старике, красящем волосы, чтобы скрыть возраст. Далее они сообщили, что Александр обещал наградить их за верность ему и облагодетельствовать после занятия им царского престола. При этом Александр утверждал, что он надеется стать царем не только по праву рождения, но и опираясь на поддержку армии, в которой у него много сторонников. Хотя признаниям под пыткой нельзя доверять, но в целом показания слуг весьма правдоподобны, поскольку соответствуют прежним общеизвестным неосторожным высказываниям принцев. К тому же допрашиваемые не сказали ничего, что могло служить прямым свидетельством наличия заговора с целью убить царя.
Тем не менее Ирод был потрясен услышанным, его охватила близкая к паранойе подозрительность, и он сразу предпринял особые меры защиты своей безопасности.
Везде стали действовать его шпионы и доносчики, следящие за всеми подозрительными людьми, повсюду воцарилась атмосфера паники и доносов, и погибло много невинных людей. Как пишет Иосиф Флавий, «в конце концов его приближенные, потеряв всякую уверенность в себе, стали доносить друг на друга, торопясь предупредить своих товарищей, думая лишь оградить себя; таким образом поступали все те, кто имел с кем-либо личные счеты, но месть их падала на их же собственные головы». Далее Иосиф объясняет последнее: «Дело в том, что на царя вскоре нападало раскаяние в гибели людей очевидно невиновных, но это тяжелое чувство отнюдь не удерживало его от дальнейших подобных действий, а скорее побуждало его подвергать доносчиков такой же участи» (ИД. Т. 2. С. 217).
В страхе перед покушением царь приказал охранять вход во дворец даже от старых помогавших ему друзей. При этом Антипатр, всячески раздувая страхи Ирода, сумел навлечь подозрения на друзей Александра. Они также были арестованы и допрошены под пыткой, но не сообщили ничего, компрометирующего Александра. Их молчание еще больше разъярило Ирода, полагавшего, что это не доказательство отсутствия заговора, а просто свидетельство их преданности Александру. Наконец, один из допрашиваемых показал, что Александр считал отца завистливым и говорил, что рядом с ним он ходил несколько согнувшись, чтобы не казаться выше отца, а на охоте специально стрелял из лука мимо цели, чтобы не показать себя искуснее его. Узнав о таких признаниях, Ирод приказал пытать жертву дополнительно, и тот добавил к прежним показаниям, что сыновья Мариамны задумали умертвить Ирода на охоте, а затем бежать в Рим, чтобы добиться утверждения на троне. К несчастью для Александра, было обнаружено его письмо брату, в котором он жаловался на фаворитизм отца по отношению к Антипатру, получившему в управление область, приносившую доход в 200 талантов. Содержание письма настолько укрепило подозрение Ирода, что он приказал арестовать Александра.
Однако даже теперь царь понимал: всего этого всё же было недостаточно для обвинения в заговоре с целью его убийства. Ведь Александр не был настолько наивен, чтобы надеяться после убийства отца добиться утверждения его иудейским царем в Риме, напротив, он был бы за это сам казнён. Более того, в конечном счёте даже сам Ирод не слишком доверял признаниям, вырванным под пыткой. Об их надежности могли дать ему представление вырванные показания одного допрашиваемого, сообщившего, что якобы Александр направил послание в Рим с просьбой вызвать его к императору для сообщения о том, что Ирод вступил в союз против римлян с парфянским царём Митридатом. Однако имя парфянского царя указано неправильно, тогда правил не Митридат, а Фратак. Кроме того, он утверждал, что Александр приготовил для убийства отца яд, который пока находится в Аскалоне. Эти два показания явно противоречили одно другому, а к тому же яда в Аскалоне не нашли.
Но тут Александр, видимо, в состоянии полного отчаяния, совершил необдуманный шаг, способствовавший гибели его самого и его брата. Он пишет длинное письмо на четырех папирусах, в котором признавал существование заговора против отца, но утверждал, что в этом ему помогали Ферора и самые близкие друзья Ирода. Упоминался также Птолемей, управлявший финансами царя, а также некий Саппиний. Более того, Александр даже написал, что однажды к нему ночью явилась Саломея и против его воли «заставила сожительствовать с ней» (ИВ. С. 81). Как полагает Шалит, возможно, письмо составлено с расчетом погубить вместе с собой всех своих врагов. В частности, что касается Саломеи, то, согласно Пятикнижию, сексуальные отношения сестры отца с его сыном, как и гомосексуализм, представляли собой серьезное преступление. Но, поскольку Ферора продолжал интриговать против царя и после этого эпизода, то следует отметить некоторую истину в признаниях Александра. Однако показательно, что среди заговорщиков Александр не упомянул самого главного своего врага – Антипатра, что показывает искусство последнего в деле интриги.
Эти обвинения окончательно потрясли Ирода. Как пишет Иосиф Флавий, явно со слов Николая Дамасского, душевное состояние царя стало близко к помешательству. В этой обстановке «всех охватило какое-то ослепление; ни защита, ни обвинение не принимались более в расчёт; над всеми тяготело сознание неизбежной роковой гибели. Пока одни томились в оковах, другие шли на смерть, а третьи с ужасом думали о подобной же предстоящей им самим судьбе; во дворце, на месте прежнего веселья, воцарились уединение и грусть. Невыносимой показалась Ироду вся жизнь его, он был сильно расстроен; великим наказанием ему было – никому больше не верить и от всех чего-то ожидать. Нередко его расстроенному воображению чудилось, что сын его восстает против него, и он видит его подле себя с обнаженным мечом. При таком, длившемся день и ночь, душевном состоянии царя обуяла болезнь, не уступавшая бешенству или полному расстройству умственных способностей (выделено мной – В. В.)» (ИД. Т. 2. С. 219–220).
Некоторое облегчение принесло вмешательство свата Ирода царя Каппадокии Архелая, серьёзно обеспокоенного судьбой своей дочери Глафиры и зятя Александра.
Узнав о сложившейся обстановке, он поспешил в Иерусалим в 9 году до н.э., чтобы попытаться примирить Ирода с сыновьями и спасти свою дочь и зятя. Надо сказать, что этот высокообразованный и изощренный политик избрал искусную тактику защиты, которая привела его к полному успеху. Рассказ о его миссии также несомненно заимствован Иосифом Флавием из исторического труда Николая Дамасского, настолько живо там переданы психологические детали поведения действующих лиц.
Архелай достаточно хорошо знал Ирода, чтобы прямо и открыто защитить своего зятя. Наоборот, он начал с выражения сочувствия Ироду по поводу злобности и неблагодарности Александра. Архелай называл его «преступником и «отцеубийцей», и заявил, что готов собственными руками разорвать зятя на куски и даже заявил, что хочет забрать из Иерусалима свою дочь. Более того, он даже обещал не пощадить её, если будет доказано, что она знала о замыслах мужа, но не донесла о них.
Неожиданное начало принесло успех, Ирод заколебался, и, «полагая, что он по всей видимости всё-таки не был справедлив в своих предшествующих мероприятиях, понемногу дал охватить себя отцовскому чувству». Когда же Ирод предъявил Архелаю письмо Александра, Архелай искусно истолковал его таким образом, что приписал все дурному влиянию на молодого человека «толпы негодяев». Закончил он тем, что «не видит причины, по которой Александр мог бы ринуться в пучину такого позора: ведь он уже вкушал царские почести и даже мог надеятся на наследование престола; дурные советники и неразборчивость юности – только это могло сбить его с правильного пути, ведь таким образом впадали в соблазн не только юноши, но и старики, и блестящие дома и целые царства рушились из-за этого» (ИВ. С. 81).
Он далее обвинил Ферору как главного интригана, тем самым переключив на него внимание и гнев царя. Неожиданный поворот событий навлек на Ферору большую опасность, поскольку, как было указано выше, между ним и братом были натянутые отношения из-за неподобающей его положению жены-рабыни. Ферора обратился к Архелаю за помощью в деле примирения с братом. Архелай посоветовал ему самому обратиться к Ироду с просьбой о прощении, обещая свое содействие, но не гарантируя успех.
Однако примирение братьев все же состоялось, и в последний раз во дворце Ирода воцарился мир и порядок. Правда, надо отметить, что Ирод прямо не мог наказать Ферору, поскольку не обладал полной властью над ним – ведь в качестве тетрарха Переи он был подвластен только Августу. Помимо этого, Ирод не имел никаких доказательств его вины, кроме того, что слышал, а этого было недостаточно для императора. Кроме того, вообще, несмотря на интриги, Ироду изначально было свойственно чувство родства со своей семьёй.
Перед отъездом Архелая из Иерусалима в Каппадокию благодарный Ирод одарил его деньгами, золотом и драгоценными камнями, а также подарил ему евнухов и наложниц. Одна из них, видимо, отличалась чем-то особенным, потому что сохранилось её имя – Паннихис («вся ночь»). Ирод почтил Архелая, проводив его лично до Антиохии. В Антиохии он примирил Архелая с наместником Сирии Марком Титом, с которым тот долго конфликтовал. Перед прощанием Архелай договорился с Иродом, что он собирается совместно с ним в Рим, чтобы сообщить обо всём императору, о чём уже было написано Августу (ИД. Т. 2. С. 221).