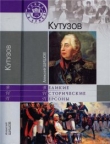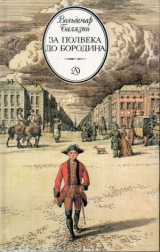
Текст книги "За полвека до Бородина"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
О славе Отечества и о гордости за него – подлинной и мнимой; о национализме и космополитизме, о шовинизме и расизме – явлениях столь же старых, как и мир, но перед каждым поколением непрестанно предстающих в новом обличье и нередко под не своими личинами, дабы сокрыть свое уродство привлекательными масками, не имеющими с их существом ничего общего.
Любезный мой читатель!
Прежде чем мы сумеем правильно понять существо проблемы, нам будет необходимо разобраться в вопросах довольно непростых.
И потому разреши мне предпослать нашему с тобой дальнейшему разговору небольшое отступление, которое необходимо для того, чтобы мы говорили на одном языке – языке науки.
Ты, конечно, понимаешь, что Мише Кутузову, девятилетнему мальчику, живущему в этой повести за двести с лишним лет до тебя, вопросы об иноземцах, об их долге новому своему отечеству, об отношении к ним коренных жителей России казались очень непростыми.
Даже и сейчас легкими и однозначными их тоже не назовешь. И потому я познакомлю тебя с четырьмя терминами, которые нередко встречаются тебе, но, возможно, ты не всегда над ними задумываешься.
Эти термины – национализм, шовинизм, расизм и космополитизм. При всей их кажущейся несхожести есть в каждом из них нечто особенное, но есть тем не менее и общее.
Националисты считают свою нацию самой лучшей, совершенно исключительной, а все прочие народы и нации – второстепенными или даже третьесортными конгломератами людей низшего порядка.
Для националиста весь мир, все народы и нации интересны постольку, поскольку полезны для существования, развития и благоденствия его нации.
При этом националист свои собственные интересы связывает со своей нацией и потому в ее успехах заинтересован так же сильно, как и в своих собственных. Отсюда все враги его нации воспринимаются националистом как его собственные, и он зачастую совершенно искренне отождествляет себя со своим народом, а народ с самим собою, не понимая, что он – это он, а народ – совершенно иное.
Когда же усилиями националистов дело дошло до крайности и отдельные нации стали противопоставляться всем прочим, раздуваясь от чванства, высокомерия и надменности, на сцену истории выполз шовинизм – явление еще более уродливое, чем породивший его национализм. В описываемое нами время этого термина еще не было, но шовинизм вызревал уже в колониальных войнах, в покорении более слабых народов, в пренебрежительном отношении к «дикарям» и «инородцам».
Само название «шовинизм» произошло от имени комедийного персонажа – Никола Шовена, выведенного на парижские подмостки французскими драматургами – братьями Коньяр.
Глупый, самонадеянный, спесивый новобранец Шовен, над которым в 1831 году потешался зрительный зал, усилиями подобных ему малограмотных маньяков через столетие стал синонимом чудовищного произвола, диких насилий, став одной из основ человеконенавистнической фашистской идеологии и причиной гибели многих миллионов людей, чья «вина» только в том и состояла, что они не принадлежали к «избранной» нации и расе.
Сродни шовинизму и расизм. Только если шовинизм, унижая все прочие народы и нации, возвеличивает одну нацию – свою собственную, то расизм делает то же самое по отношению ко всем прочим расам, унижая все другие, кроме своей.
Возникнув в древнем мире, в среде рабовладельцев, расизм пережил тысячелетия и пышно расцвел в эпоху Великих географических открытий и создания колониальной системы.
Вследствие того что недобросовестные лжеученые, подтасовав факты, объявили высшей расой белую, а внутри ее – «нордические народы», германцев и анг–лосаксов, весь остальной мир стал восприниматься расистами, как некая колониальная плантация, населенная ущербными недочеловеками.
Монстр белого расизма вызвал к жизни целую серию себе подобных желтых и черных уродцев. Националисты и расисты–африканцы и националисты–расисты–азиаты ответили своим белым ненавистникам тем же самым – объявили свои народы лучшими и избранными, свою культуру – высшей, свой образ жизни – наиболее человечным и совершенным.
Гаитянские диктаторы–негры «поднялись» до «высот» «черного» расизма и шовинизма, ничуть не лучшего, чем расизм «белый». В «черных» государствах Африки высшим шиком местных толстосумов–аборигенов стала считаться эксплуатация белых шоферов и слуг.
Гнусная идея совершила замкнутый цикл и возвратилась на круги своя – раса, ее породившая, сама начала страдать от порожденного ею урода.
В ряду интересующих нас понятий есть и еще одно – космополит.
Слово «космополит» – означает «гражданин мира» и по смыслу вроде бы должно противостоять и национализму, и шовинизму, и расизму, не объединяющими человечество, а, напротив, противопоставляющими один народ или расу всем другим. Посмотрим, так ли это.
Возникло это слово в Древней Греции, и человеком, впервые его употребившим, был, как утверждают, мудрец и бродяга Сократ. Он не написал ни строчки, но его афоризмы записывали за ним его ученики, и один из них – некто Эпиктет – как–то записал: «Я не афинянин или коринфянин, а я космополит».
В разное время термин «космополит» понимался по–разному. В средние века космополитами называли себя монахи и прелаты католической церкви. Они входили во всемирную церковную империю, и им были чужды интересы отдельных народов и государств, превыше всего ставили они благо папского Рима – вселенского центра католицизма, а следовательно, и свои собственные корыстные интересы, которые были неотделимы от выгоды их церкви.
Таким образом, благородная идея всемирной общности людей и их равенства, независимо от того, где они родились, впервые была своекорыстно использована могущественной всемирной организацией, руководителям которой было наплевать на все что угодно, кроме собственного профита.
Лицемерие римских попов вскоре было разгадано, но людское сознание они уже успели развратить, и светские циники, презрительно относясь ко всему на свете, в том числе и к своей собственной родине, говорили с высокомерным пренебрежением безродных выскочек: «Где хорошо, там и отечество».
Космополитами стали объявлять себя ландскнехты и кондотьеры, авантюристы высокого полета и всякая шваль помельче.
Возвышенная идея всечеловеческого братства и единства превратилась в свою противоположность, став откровенным орудием разобщения людей.
Таким образом, все эти четыре теории, при всем их различии, едины в одном – главном: они служат интересам разобщения людей, сеют ненависть и вражду между ними и играют на руку всем, кто в этих раздорах отыскивает свою классовую и идеологическую выгоду.
А теперь вернемся в середину XVIII столетия, в год 1754‑й.
– Были и честные среди них, и искренние отчизнолюбцы, – сказал Ларион Матвеевич, – да и ныне есть. Возьми, к примеру, соседа нашего по псковским вотчинам – Абрама Петровича Ганнибала. Он не только был чужеземцем и иноверцем, но и иной породы. Ну, как бы тебе пояснить это? – Батюшка задумался. – Есть такое французское слово «расэ», в русском языке не знаю я ему подобна. Словом, Абрам Петрович есть уроженец арапского племени и потому черен, как головня. Однако ж привержен отечеству нашему более некоторых иных моих соплеменников. – Батюшка вновь задумался и вдруг произнес: – Надо бы Абраму Петровичу при случае тебя представить. Он не только сосед наш, но и один из первейших фортификаторов и артиллеристов. И ежели станешь ты далее по инженерной части служить, то не миновать тебе быть у генерал–поручика Ганнибала под командою.
Знаком мне и Варфоломей Варфоломеевич Растрелли – архитектор милостью божьей. Нас уже давно не будет, а дворцы, что построили по его прожектам и в Петербурге, и в Петергофе, и в Лифляндии, останутся вечным украшением России.
Немало и других иноземцев мог бы я назвать тебе, Миша, но не в том дело. Живут они в России, на российской почве, и коль скоро пустили в нее корни, то и питаются ее соками. Однако ж, подобно полезному древу, дают ей и от себя. Так леса или сады сосуществуют с землею: берут от нее живительные соки, нам же дают плоды. И подобно то большому саду, в коем рядом с русскою яблонькой рос бы италианский лимон, а возле малороссийской вишни прижилась бы французская виноградная лоза. И хотя екзотические сии растения тонули бы в нашем саду в сотнях отечественных дерев, разве стал бы от их присутствия сад наш хуже? Или при взгляде на виноград и лимон испытывали бы мы досаду и раздражение?
Россия, сын мой, велика, как ни одна иная страна в мире. И на просторах ее за тысячу лет народы так перекипели, что порой и не скажешь, кто какого племени сын.
Да сие, по сути, и не столь важно, лишь бы служил стране своей честно и любил ее беззаветно.
Продолжение Беседы 5Михаил Илларионович Кутузов прожил долгую жизнь. И встретились ему за его 68 лет не тысячи – десятки тысяч разных людей. Он видел высочайшее благородство и самую низкую подлость. Встречался с беззаветной любовью и храбростью, сталкивался с мелким себялюбием и жалкой трусостью. Рядом с ним оказывались герои, проползали мимо него и ничтожества. Однако их человеческие качества не зависели от принадлежности носителя этих качеств к той или иной нации.
Во время одной из русско–турецких войн молодому еще Кутузову довелось служить вместе с неким подполковником Францем Анжели – полуфранцузом, полуитальянцем.
5 июля 1770 года в жестоком бою у реки Ларга Кутузов с двумя ротами своих стрелков выручил батальон Анжели, почти окруженный турками.
А через двадцать лет, в бытность свою чрезвычайным и полномочным послом России в Константинополе, Михаил Илларионович узнал, что Франц Анжели служит теперь Франции и намерен через Турцию пройти в Крым или на Кубань, чтобы организовать там антирусское восстание, подняв татар и черкесов.
В то время русскими войсками на Кубани командовал Суворов, и Кутузов предупредил Александра Васильевича о возможном появлении Анжели в районе сосредоточения его войск.
Кутузов писал об Анжели: «Он хитрой и затейливой человек, но малодушный и, быв уже один раз выгнат из России, довольно, думаю, имеет к нам злобы».
В другом письме Анжели получает от Кутузова еще одну характеристику: «…в этом человеке, безусловно, соединяется ум интригана с душой низкой и трусливой».
Кутузов следил за каждым шагом Анжели, извещая Екатерину II: «Я надзирать буду его поступки всеми способами». И «надзирал» до тех пор, пока Анжели не убрался восвояси.
Низкая неблагодарность Анжели к стране, приютившей его, разве не могла пробудить в Кутузове демонов слепой ненависти к иноземцам?
Ответим так: в ком–нибудь ином – могла, в Кутузове – нет. Ибо Кутузов видел множество примеров совершенно противоположных Анжели.
Достаточно рассказать только о некоторых эпизодах лишь одного сражения – Бородина.
Гордясь великими отчизнолюбцами – Раевским, Ко–новницыным, Ермоловым, Немировским, Тучковыми и сонмом иных русских героев и патриотов, разве не видел он холодного мужества шотландца Бар–клая–де-Толли, под которым в день Бородина пало четыре лошади, было убито и искалечено пять находившихся рядом адъютантов, прострелены треуголка и плащ? И Барклай, ни на секунду не потеряв самообладания, с начала и до конца сражения был в самом его пекле.
Разве не гордился Кутузов и не горевал, узнав о смертельном ранении грузинского князя Петра Багратиона или героической гибели сына пленного турка – двадцатисемилетнего русского генерала Александра Ку–тайсова? И не был героем Бородина немец Павел Пестель? Да, да, тот самый, глава декабристов, – «рыцарь из чистого золота – с головы до ног».
А после Бородина? Разве не поровну любви и доблести положили на алтарь России знаменитые партизаны – русский Денис Давыдов и немец Александр Фигнер? И зять Кутузова – партизан татарин Кудашев?
И все же сколь ни ярки были вспышки этой искрометной генеральской доблести, при всей их красивости чем–то напоминали они торжественные огни праздничного фейерверка, в то время как лавинная, всесокрушающая солдатская доблесть подобна была могучему лесному пожару, который, ревя и неистовствуя, неудержимо шел высокой жаркой стеной, круша и испепеляя все, что стояло на его пути.
А это и был народ, оставивший соху и взявший ружье, русский народ и все иные народы и племена, что вошли сами или были включены силой в Российскую империю, в единое государство, в котором судьбой истории предопределено было жить всем им вместе долгие времена…
А если теперь выйдем мы хотя бы немного за рамки «кутузовской» хронологии, то, продолжая нашу беседу, увидим среди тех, кто прославил Россию, и сына пленной турчанки Жуковского, и внучку эфиопа Ганнибала «прекрасную креолку» – Пушкину, мать русского гения. И если взять одну лишь немецкую поросль, то здесь окажутся и знаменитый художник Орест Кипренский, сын Адама Карловича Швальбе, и основатель национальной русской школы живописи Карл Брюллов, дополнивший свою фамилию буквой «в» по «высочайшему повелению», и драматург фон Визин, и великие мореплаватели Крузенштерн и Беллинсгаузен, и мало ли кого еще здесь не будет…
И все же, признавая сказанное, мы всегда должны помнить главное – сад, возникший на русской земле, посажен, взращен и ухожен миллионами тех, кто здесь родился. Тысячами стоят исконные российские дерева в огромном этом саду, и иноземные диковинки не только ничуть не портят его, но, напротив, придают то очарование, которое лучше всего определяется французским словом «шарм».
– А что, папенька, не было ли и у нас в роду каких иноземцев? – спросил Миша, ожидая услышать от отца то, чего он не знал.
Ларион Матвеевич чуть смутился:
– Не столь я в нашем родословии силен, чтоб сказать тебе о том наверное. Но сколько знаю: род наш искони русский и никакие чужеземцы в родне и свойственниках у Голенищевых – Кутузовых не значатся. Но впрочем, вопрос твой почитаю я сурьезным и небесполезным – всякий благородный человек должен собственное родословие знать. А посему почитаю я важной для себя обязанностью вопрос сей прояснить и после о том тебе сказать: ты – старший мой сын, и кому, как не тебе, надлежит о сем знать всю правду безо всякой утайки?
5Ларион Матвеевич сызмальства был приучен никакое дело в долгий ящик не откладывать. И потому сразу же стал задуманное предприятие обдумывать, или, как любил он говаривать, «обмозговывать».
Дело было для Лариона Матвеевича новое, и он, хотя и прожил уже немало и во многих предприятиях был отменно сноровист и грамотен, в дела гисторические, однако ж, глубоко не проникал и потому обратился в Герольдию с прошением.
Через месяц пришел ответ, что просителю надлежит явиться в Герольдию и, уплатив пошлину, ждать исполнения. Ларион Матвеевич деньги с человеком своим отослал, но работа отчего–то не свершалась.
Тогда к нерадивым чернильным людишкам поехал он сам, и когда потребовал честного ответа о подлинных причинах сей бумажной волокиты, то коллежские регистраторы и губернские секретари – мелкая приказная сошка, – убоявшись праведного его гнева, вынуждены были повиниться, что задача сия оказалась им не по плечу и что никаких сведений, кроме содержащихся в «Бархатной книге», они не отыскали. Однако ж деньги не вернули, отговорившись потратою на ничтожные свои изыскания.
Ларион Матвеевич привез домой лишь один листочек бумаги, содержавший обрывок его родословной, из чего следовало, что «в главе Осьмнадцатой «Бархатной книги» под нумером 178‑м значатся дворяне Кутузовы, а под 179‑м – Голенищевы – Кутузовы, показанные относящимися к роду Жостовых – Русалкиных. В родстве и свойстве и в одном с ними роде по сей же книге состоят: дворяне Плещеевы, Игнатьевы, Жеребцовы, Свибловы, Пушкины, Мусины – Пушкины и Бобрищевы – Пушкины, Бутурлины, Каменские, Челяднины, Воронцовы, Аксаковы, Вельяминовы, Исленьевы и иные знатные дворянские роды.
Все сии ветви написаны в главы 15–19‑ю и имеют нумера со 149 по 183‑й».
Ларион Матвеевич листок положил в бюро, но начатого дела не бросил: через неделю, поговорив со знающими людьми, отправился он с визитом к большому, как его уверили, знатоку российских древностей, поручику лейб–гвардии Семеновского полка, князю Михаилу Михайловичу Щербатову.
Однако, прежде чем познакомимся мы с новым нашим героем, нелишне будет узнать тебе, любезный читатель, о том, чего не знал Ларион Матвеевич – о генеалогии, сиречь родословии, которая изучает происхождение и родственные связи лиц, родов и фамилий…
Лекция 1. О генеалогииЕсли бы матушку небезызвестного тебе недоросля Митрофана Простакова спросили: «А бывают ли науки дворянские?» – то, возможно, эта интеллектуалка, четко знавшая, что география таковой не является, поразила бы нас и другим, проявив осведомленность в том, что несомненною дворянскою наукой является родословие, ибо оно занято исключительно рыцарскими сюжетами родства и свойства тех, кого издавна называли «белой костью» и «голубой кровью».
И даже жрецы сей науки отличались от прочих ученых истинным аристократизмом, хорошими манерами и изысканностью вкусов.
Разве можно было сравнить немногочисленных благородных генеалогов, раздушенных и напомаженных, с толпами тех же доморощенных географов – по сути дела, обыкновенных бродяг, – просоленных всякими там морскими пассатами и бризами, провонявшими порохом и потом, покрытыми с ног до головы пылью и грязью бесконечных скитаний?
Конечно же, сердце дворянки Простаковой, в девичестве урожденной Скотининой, в силу несомненного благородства происхождения, о чем свидетельствовали и обе принадлежащие ей фамилии, безусловно, было бы на стороне генеалогов – напомаженных щеголей из отставных кавалергардов и пажей, благородство которых подтверждалось не токмо «Бархатной книгой», но зачастую и «Государевым родословцем». И потому среди столпов генеалогии значатся князья М. М. Щербатов и уже знакомые нам П. В. Долгоруков и А. Б. Лобанов – Ростовский, столбовые дворяне Савеловы, Власьевы, Лихачевы и Барсуковы. Однако, как ни парадоксально, в дворянском государстве, науку эту процветающей назвать было никак нельзя.
Не расцвела она и после того, как дворянского государства не стало.
И в многотысячной армии книг по русской истории несколько фолиантов по генеалогии, роскошно, правда, изданных, напоминали и числом и своими сафьяновыми переплетами кучку гвардейских офицеров, затесавшихся в толпу пугачевских мятежников, волжских бурлаков или обыкновенных мужиков–лапотников.
А теперь немного о ветвях и деревьях. Так как всякий отдельный род, семью или фамилию генеалоги изображали в виде дерева с отходящими от основного ствола ветвями, где каждая ветвь соответствовала отдельной семейной поросли, то такие схемы стали называть «генеалогическим древом». А большую купу генеалогических дерев – дворянские фамилии, например, Франции или Англии, Грузии или Кастилии – мы могли бы назвать «генеалогическим лесом».
Так вот, если говорить о русском генеалогическом лесе, то здесь давно уже буйно растет трава забвения, а меж деревами запущенной этой чащобы бродят жалкие одинокие генеалоги–энтузиасты, напоминающие Робинзона и Пятницу на необитаемом острове.
И лишь несколько деревьев в этом заброшенном лесу еще сохраняют следы человеческой заботливости. Это фамильные дерева Пушкиных, Радищевых, Лермонтовых, Аксаковых… Да пожалуй, и все.
Могучее древо Голенищевых – Кутузовых стоит далеко от избранных. Оно находится в неухоженной чащобе, кою можно сравнить и с заброшенным кладбищем, за обвалившуюся ограду которого давно уже никто не заходит, и трава забвения проросла на старых могилах, будто нет на этом погосте родных могил, а все чужие…
Судьба русской генеалогии удивительна – в самодержавном дворянском государстве она была уделом избранных одиночек, и единственный систематический курс лекций по этой научной дисциплине был опубликован лишь в 1909 году, а его автор Л. М. Савелов скончался на восьмидесятом году жизни за океаном, как бы символизируя и мимолетный взлет той науки, которой он служил, и тихую, почти никем не замеченную ее кончину.
А между тем начало русской генеалогии было многообещающим. Она возникла как наука практическая и ставила перед собою чисто прикладные, утилитарные задачи: правильно определенное родство позволяло занять соответствующее «породе» место в обществе, получить свою долю наследства, отыскать могущественного покровителя – четвероюродного дядюшку или хотя и сомнительного, но все же четко зафиксированного в родословцах полулегендарного пращура, общего с каким–нибудь вельможей, в ком и искал покровительства бедный дворянчик.
Был в появлении интереса к генеалогии и другой мотив, ничего общего не имеющий с корыстью и карьеризмом, – интерес возвышенный и чистый, сродни увлеченности родной историей: хотелось определить место своей фамилии в истории отечества, узнать, как переплелась участь твоих прадедов и прабабок с судьбами родины. И вдруг обнаружить – к радости и счастью, с гордостью за них и за себя самого, – что их участь была и частью истории страны (посмотри–ка, как близки по смыслу слова «участь» и «участие») – и из родословцев получить подтверждение активнейшего их участия в делах отечества.
Русское родословие, как и многое прочее, стало предметом забот Петра I.
Однако сначала Петр выступил вроде бы гонителем генеалогии: в 1700 году он закрыл так называемую Палату родословных дел, открытую повелением его отца – царя Алексея Михайловича – за восемнадцать лет перед тем.
Возникла же палата после того, как Алексей Михайлович приказал всем служивым людям «быть без мест», то есть во взаимоотношениях по службе исходить не из того, чей род благороднее и знатнее, а только из живой реальности настоящего времени – места на служебной лестнице и того чина и звания, которые имел сам дворянин в настоящее время.
К 1700 году местнические споры вспоминались, как некие забавные происшествия, и в связи с этим своеобразным курьезом воспринималась и сама Палата родословных дел.
Однако к середине XVIII века, когда старая родовая знать сумела восстановить позиции, утраченные в царствование Петра I под натиском новых людей типа Меншикова, возрос и интерес к старым родословцам.
В некоторой степени способствовало этому и то, что еще при Петре была опубликована «Родословная роспись великих князей и царей российских». Ее покупали, читали и с удовольствием отыскивали собственные связи со старой царской династией – Рюриковичами и новой династией – Романовыми.
Да и сам Петр к концу своего царствования вроде бы вдруг проявил интерес к делам генеалогическим.
В 1722 году он приказал открыть Герольдмейстерскую контору, где снова стали заниматься родословием и, кроме того, учинять все, что относилось до геральдики, сиречь гербового дела.
Однако произошло это, конечно же, не вдруг.
Петр после победы над шведами стал императором, а новый титул обязывал его и к введению новых аксессуаров, соответствующих этому титулу.
Дело было с самого начала поставлено на серьезную ногу. В только что открывшейся Академии наук – тогда она, правда, называлась Академией наук и художеств – одной из первых была открыта кафедра геральдики. Так как предметом ее забот стало изучение генеалогий и изготовление чертежей для создания различных гербов, то она по характеру своей деятельности находилась, как мы бы сегодня сказали, посередине между науками и художествами. (По современным представлениям кафедра должна была считаться очень перспективной, так как находилась на стыке двух направлений или даже двух смежных наук.)
Но не все шло гладко. Когда, например, академик Миллер представил президенту Академии наук Кирилле Григорьевичу Разумовскому родословную императрицы Елизаветы Петровны, то получил такой ответ:
«Понеже профессор истории граф (так писарь изобразил непривычное ему слово «историограф») Миллер партикулярно поднес его сиятельству господину Президенту таблицу родословную Высочайшей фамилии ея императорского величества, о которой ему никогда от его сиятельства приказано не было, того ради его сиятельство, не разсматривая оного родословия, приказал из канцелярии помянутую таблицу Миллеру отдать и объявить, чтобы он ни в какие родословные изследования не токмо Высочайшей фамилии ея императорского величества, но и партикулярных людей без особливого на то указу не вступал, и никому бы таких родословий, под опасением штрафа, не подносил, а трудился бы только в одном том, что ему поручено от Президента, или в отбытности его от канцелярии, как то изображено в его контракте, чего ради отдать ему, Миллеру, сию родословную таблицу, и из сего журнала сообщить копию».
Конечно, дело было и в том, что хороший историограф Миллер оказался совсем плохим дипломатом: граф Разумовский – президент Академии наук – был сыном простого казака, а отцом государыни императрицы хотя и был император Петр, но по материнской линии и ее родословная сильно подкачала: мать «им–ператрикс Елисавет» – в святом крещении крестьянская дочь Марта Скавронская – родилась в курной избе и в молодости была и поломойкой в трактире, и скотницей, и прачкой.
Кому же была нужна такая историческая правда?
Однако далеко не все стыдились и опасались своих родословных. И те же Голенищевы – Кутузовы, заглянув в «Родословную книгу», устанавливали и близкое родство свое со знатнейшими фамилиями России, и, правда дальнее, очень дальнее, свойство даже с боковыми линиями царствующего дома.
Однако, чтобы утвердиться в этом, надлежало и Голенищевым – Кутузовым как следует разобраться в собственной родословной.
Князь Михаил Михайлович Щербатов, происходя из знатнейших и благороднейших российских дворянских родов, вел начало свое от крестителя Руси, былинного киевского князя Владимира Красного Солнышка.
Родоначальник его, по той причине, что крестил Русь, признан был церковью не просто святым, но объявлен еще и «равноапостольным», сравнявшись после смерти с апостолами – отцами церкви, учениками самого Христа.
В честь Владимира по всей Руси стояли храмы, он был одним из самых почитаемых святых. Можно ли было отыскать более благородного патрона и основателя рода?
Владимир Святославич был прямым потомком самого Рюрика – как тогда считали, основателя государства Российского, – а сам князь Щербатов был чистопородным Рюриковичем. И так как все свое родословие знал он назубок, то и историю России также знал лучше многих прочих, ибо понимал историю своего рода и своей родины совокупно и отделить одно от другого не мог.
Родители дали князю превосходное образование: он свободно изъяснялся по–французски, по–немецки, по–итальянски, знал не только философию, историю и литературу, но изучил право, финансы, экономику и даже естествознание и медицину.
С 1746 года числился он в Семеновском полку унтер–офицером, да так все им же и оставался, ибо увлекался не столь военною службой, сколь чтением и сочинительством.
Уже тогда предметом страсти Щербатова стала история, и в Петербурге среди тех, кто вместе с ним страсть его разделял, слыл молодой князь отменным знатоком сей великой и многотрудной науки и почти что историографом.
Отзвуки сей заслуженной славы донеслись и до Ла–риона Матвеевича, тем более что князь Щербатов жил на одной с ним улице – Третьей артиллерийской.
Зайти к князю на правах соседа Лариону Матвеевичу вроде бы и не составляло особого неудобства, да все ж хотя и был Щербатов младше его по званию, но по крови Голенищев – Кутузов ровней ему не был, и оттого задуманное предприятие не представлялось Лариону Матвеевичу безупречно верным.
И все ж резоны в пользу того, чтоб князь взялся за его дело, взяли верх, и капитан однажды завернул в дом Щербатова – лучший на всей их улице.
Когда Ларион Матвеевич пришел к князю, тот встретил его с холодною вежливостью человека, хорошо знающего себе цену. Хозяин дома провел гостя в кабинет, и Ларион Матвеевич поразился богатству княжеской библиотеки: в кабинете стояли тысячи книг. Во всяком случае, Голенищев – Кутузов ни разу в жизни не видал такого огромного собрания.
Щербатов внимательно выслушал Лариона Матвеевича, и было видно, что его просьба произвела на князя двоякое впечатление: во–первых, несколько шокировала князя – аристократы не исполняли частных заказов, на то были люди иных состояний, но, во–вторых, он испытал и радостное чувство гордости – его эрудиция признана была редкостною, совершенно уникальною, и, окажись в столице другой такой знаток, проситель, по–видимому, приехал бы не к нему, а к тому, другому. Однако ж гость его был здесь и, стало быть, признавал его превосходство перед прочими историками.
Чуть поколебавшись, Щербатов согласился выполнить просьбу Лариона Матвеевича, сказав ему по–французски разумеется:
– Как благородный человек, я не могу отказать в просьбе другому благородному человеку и посвящу досуг мой отысканию корней фамилии вашей. Однако ж, будучи занят в полку, не могу обещать, что это дело будет исполнено мною вскорости. Во всяком случае, как только я исполню его, то незамедлю тут же о том вас известить.
Ларион Матвеевич молча поклонился. Он тоже испытал от этого визита двойственное чувство: и рад был, что дело определено было в хорошие руки, и слегка досадовал, что князь отнесся к его просьбе не без колебания, а последнее свидетельствовало об известной сумнительности этической стороны предприятия, им затеянного.