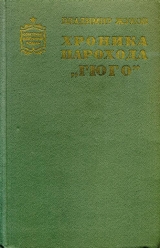
Текст книги "Хроника парохода «Гюго»"
Автор книги: Владимир Жуков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Если на пароходе стоят пушки, из них нужно стрелять. Для практики, хотя бы изредка. Чтобы предоставить такую возможность, и спешил к «Гюго» темно-синий американский военный катер, толкая перед собой сердитый, убегающий в стороны бурун.
– С чего они сейчас-то стрельбы задумали? – сказал Зотиков, лейтенант, начальник военной команды «Гюго». – Видимость плохая, дымка. Вот бы летом. Помните, товарищ капитан, когда в Такому ходили? Какая погода стояла!
– Не волнуйтесь, – отозвался Полетаев, разгуливая взад и вперед по мостику. – Это же не экзамен. Просто нам дают возможность пострелять, поучиться на настоящем артиллерийском полигоне.
Лейтенант поднял к глазам бинокль и забормотал вроде бы в ответ капитану, но, скорее, сам себе:
– Хорошо, солнце проглянуло...
Он долго не мог согнать с лица волнение, настороженно следил за тем, как к борту подвалил резвый катер, как по трапу начали подниматься люди, как Полетаев направился вниз, к себе в каюту, встречать гостей, и только когда хозяева полигона появились на мостике, вдруг переменился, развернул плечи и лихо представился, пояснил, что стрельбу будет вести он, лейтенант Зотиков.
Американские офицеры – один длинный, рыжеволосый, другой плотный, с бородкой, мягко облегавшей круглое лицо, – не были настроены столь официально: глаза и губы их еще хранили улыбки от разговора в капитанской каюте, и они разом вздрогнули, вытянулись в ответ на доклад Зотикова, а сопровождавший их капитан-лейтенант из советского представительства одобрительно подмигнул Полетаеву: «Ишь какой молодец!»
Полетаев хмыкнул и приказал вахтенному штурману ложиться на курс. Он вспомнил, как тревожился лейтенант и как сам успокаивал его, а теперь подумал, что действительно никак нельзя ударить в грязь лицом. Полетаев не ожидал, что на борт явятся офицеры довольно высокого ранга – кэптен, тот, рыжий, и коммандер, бородатый; считал, что будет достаточно лоцмана, чтобы указать границы полигона, и, хотя эти двое шутя тоже назвали себя лоцманами, только артиллерийскими, и привезли с собой служебную карту, было ясно, что стрельбам «Гюго» придается особое значение, наверное, их результаты запишут в какой-нибудь доклад или отчет, а возможно, и расскажут подробности журналистам – для пополнения хроники союзнических отношений.
Полетаев ходил, думал, а бородатый американец тем временем ловко прицеливался секстаном на еле видимый, затянутый мглой берег. То, что он определял место «Гюго» астрономическим прибором, а не по компасу, внушало уважение и к нему, так тщательно выполнявшему свои обязанности, и к району стрельб, существующему в таких точных границах, что их требуется обнаруживать секстаном.
Бородатый несколько раз спускался в штурманскую рубку, тщательно обшарил биноклем горизонт и учтиво сообщил Полетаеву: можно ложиться на боевой курс.
Полетаев оглядел стоящего в стороне, странно равнодушного с виду Зотикова, спросил, объявлено ли команде, чтобы по тревоге действовал только расчет кормового орудия, и, услышав глухое «да», кивнул вахтенному помощнику. Тотчас залился колокол громкого боя, и под его бодро-долгий звук сбивчиво затопали по палубе.
Бежали четверо, разных по росту, разношерстно одетых, и только одно объединяло их: одинаковые серые спасательные жилеты, наряд, положенный по любой тревоге: боевой, шлюпочной, пожарной. А немного погодя на краю банкета вырос Зотиков, и Полетаев удивился, что не заметил, как лейтенант скатился с мостика и как оказался на своем месте стреляющего.
– На румбе? – спросил Полетаев и приказал по телефону уже неподвластно самостоятельному лейтенанту: – Боевой пост шесть, открывайте огонь!
Зотиков на секунду оторвался от бинокля и посмотрел на орудие. Непривычно отвернутое, оно, казалось, сдвинуло, потащило за собой, изменило все вокруг. Кормовая мачта, ванты, стрелы, пологие ступени надстройки как бы насторожились, отдали себя в подчинение стальной трубе, которая жадно вглядывалась в даль, ища место, куда можно наконец выдохнуть быстролетный снаряд.
– Ле-евый борт, ку-урсовой угол сто двадцать! По-о щиту. При-цел девяносто, це-елик двадцать. Выстрел!
Хищно и звонко щелкнул замок. Ухнуло, ударило мощно слева и сзади, и обдало горячей волной, и оглушило до сладкого звона в ушах. На банкет шлепнулась пустая гильза, покатилась в сторону.
В бинокль было видно, как за щитом в косых лучах упавшего сквозь тучи солнца взметнулся фонтан – словно белый, фантастически выросший куст. Запах пороха щекотал ноздри, пьянил Зотикова. И еще громче, чем прежде, он подал команду. У щита снова вырос фантастический куст, и – о радость! – точно, как хотелось Зотикову, с недолетом. «Вилка, есть вилка», – твердил он про себя и пел, пел:
– Бо-ольше два. О-очередь, шаг один. Выстрел!
Теперь Зотикову казалось, будто он чудом переместился к казеннику пушки, туда, где подающий и заряжающий, как бы играя, торопливо перебрасывали с рук на руки тяжелые снаряды. Зотиков мысленно тоже брал их и толкал в казенник, потому что командовать ему было уже нечего, а просто так стоять он не мог и стрелял хотя бы в воображении.
Оглушенный выстрелами, щурясь от застилавшего глаза пота, Зотиков ждал последнего снаряда, того, что угодит наконец в самый щит.
– Давай! – закричал лейтенант, не слыша себя и лишь губами чувствуя, что кричит в своем торжестве. – Давай! – повторил он и подхватил рукой сползающую с головы фуражку. – Ну что же?
Странно, орудие не отозвалось на его зов, и Зотиков обернулся в тревоге, сердясь, не понимая.
– Снаряды все! – донеслось до него сквозь пустоту, заложившую уши.
– Как все?
– Двенадцать выстрелили. Как положено по упражнению, сами говорили.
– Ну да... двенадцать. Одного не хватило, черт...
Но ведь приятно и так. Все-таки он видел белые кусты под самым щитом, все-таки доказал, что умеет стрелять.
– Наводить порядок! – пропел в последний раз Зотиков и побежал на мостик узнать, видели ли и там, что последний снаряд непременно бы продырявил щит.
Пенный след за кормой «Гюго» плавно изгибался, и там, на недолгой стежке, протоптанной винтом но воде, покачивался щит. Минуту мачта загораживала, мешала, а потом снова стал виден щит и расчет орудия – люди стояли на краю банкета в своих черных шлемах, как бы не желая расставаться с азартом стрельбы.
Вот и катер-буксировщик поравнялся с кормой. Матросы в белых шапочках машут руками, кричат, и на банкете тоже машут, и с катера летит что-то оранжевое, маленькое, шлепается на банкет. Апельсин?
– Еще раз благодарю, – сказал Полетаев не устававшему хранить на лице выражение счастья Зотикову и тише, приказным тоном добавил: – А теперь ступайте вниз и составьте американцам компанию за обедом.
«Составить компанию» – это значило пить водку с гостями. Ни себе, ни другим своим помощникам разрешить этого Полетаев пока не мог: впереди швартовка на военной базе, чтобы взять последний груз, а лейтенант на швартовке не занят, пусть выпьет. И кто-то же из начальства должен проявить знаменитое русское гостеприимство!
Еще вначале, знакомя с американцами, капитан-лейтенант, что приехал с ними, шепнул Полетаеву, усмехаясь: «Очень хотят подольше побыть на судне. Велели катер не присылать, пойдут до самого Роджер-пойнта. Не возражаете?»
Полетаев не возражал. Перед стрельбой настороженно относился к американцам: что подумают, что скажут нежданные инспектора, а теперь, после успеха Зотикова, – пожалуйста, сам бы с удовольствием посидел за столом, поболтал, если бы не идти к причалу. Да, он бы поболтал с американцами – интересно, что за люди.
А берег, высокий, с обрубистыми, тут и там выступающими мысами, медленно приближался. Точно в назначенное время появился на маленьком катерке лоцман и стал спокойно, уверенно подавать команды на руль. Полетаеву оставалось лишь по долгу капитана проверять в уме, все ли верно, хорошо ли для судна в указаниях этого человека, знающего фарватер к базе. Все было верно, хорошо, и он снова стал думать об американцах, сидящих сейчас внизу, в кают-компании. Что их привело на советский пароход? Только служба или еще любопытство, желание что-то понять? И когда «Гюго» мягко ткнулся в деревянный причал, когда подали первый швартовый конец и корма под напором забурлившего винта пошла к берегу, когда можно было считать, что швартовка состоялась, Полетаев послал вахтенного матроса вниз, чтобы тот привел кого-нибудь из кают-компании, своего, конечно, но только не Зотикова, лейтенант пусть сидит.
Он подписывал бумаги лоцману, когда в штурманскую рубку вошел радист, и нетерпеливо, не доведя до конца нехитрую свою роспись, спросил:
– Ну как? Они довольны?
Оказалось, внизу в общем все идет как будто неплохо. Американцы ждут его, капитана, хотят выпить за его здоровье, но за стол сели недавно. Отведали чего там было наставлено и произносили тосты, пили за Зотикова, например, и еще за победу союзных наций и за долгий всеобщий мир после войны. Всё и дальше, объяснял радист, шло бы хорошо, но вдруг Зотиков сказал американцу, тому, с бородкой, Мерфи, что, прежде чем пить за всеобщую победу, надо выпить за Красную Армию и Красный Военно-Морской Флот, которые сумели выстоять в единоборстве с немецко-фашистскими захватчиками и, несомненно, расколошматят Гитлера без англо-американского второго фронта, который обещали-обещали, да, видно, так и не откроют. Может, и не скажи этого Зотиков, заметил радист, все бы и ничего шло в кают-компании, но черт все-таки дернул пушкаря, и теперь внизу не дипломатический прием, а говорильня и спор, достойный каюты матросов второго класса.
– А офицер наш, из представительства, что? – тревожно спросил Полетаев.
– Смеется.
– Как смеется?
– Нормально. Слова примирительные вставляет. Советует не забывать, что собрались не на деловое свидание, а приятно пообедать. Вот он, капитан-лейтенант из представительства, – дипломат.
У Полетаева отлегло от сердца. Кажется, ничего особенного. Если капитан-лейтенант смеется, значит, все о’кэй.
Он вошел в кают-компанию улыбаясь, и все встали. Поднял предусмотрительно налитую для него стопку и предложил тост за единство союзников в общей борьбе, за победу и слегка поморщился, подумав, что тут уж про это говорили и пили без него, а он не придумал ничего нового, оригинального. Еще у двери он с удовольствием подметил, что за столом находятся все, кого он попросил быть, а сейчас подумал, что закуски и водки поубавилось, но опять же, как он и хотел, глаза блестели только у Зотикова и третьего механика, остальные соблюдали назначенную им, капитаном, приличествующую событию умеренность. Что же касается американцев, то они, видно, отдали должное русской водке, может, по Мерфи это было не так заметно, а кэптен Андерсон, рыжая голова которого возвышалась выше всех за столом, был явно навеселе. Он и теперь, пока Полетаев закусывал, потянулся к бутылке и, налив, как-то радостно и отчаянно опрокинул стопку в широко разинутый рот.
– Боттом ап! – зычно смеялся рыжий. – Рашен мэнер! До д-н-а... Вери велл!
– У нас на приемах, – тихо пояснил сосед Полетаева, капитан-лейтенант, – у нас на приемах предлагают тост и просят выпить по-русски, до дна. Но «до дна» можно перевести только «боттом ап», кверху дном; по-английски не очень прилично звучит... А американцам как раз это и нравится, думают, мы так нарочно шутим. Они вообще-то за столом не любят говорить о серьезном...
Мерфи тоже налил себе и встал, осторожно держа рюмку в сухих, цепких пальцах. Свет из иллюминаторов падал на его плечи, а лицо оставалось в тени и казалось бледным. Темные глаза пристально вглядывались в сидящих за столом, и Полетаев подумал, что капитан-лейтенант не прав, есть американцы, которые и за столом говорят серьезное, этот, например, Мерфи. Хотел возразить соседу, но тот уже начал переводить, на лету подхватывая слова:
– Господин капитан, господа офицеры парохода «Гюго», позвольте мне от имени моего коллеги кэптена Андерсона и от себя лично выразить признательность за доставленное нам удовольствие сидеть за этим столом. Докладывая о визите к вам, мы постараемся самым искренним образом описать ту боевую, подлинно морскую атмосферу, которая царит на судне. Мы почувствовали здесь тот дух собранности и решимости, который, мы знаем, силен в русском народе и который позволяет советским войскам так стойко сражаться с нацистскими ордами... Я бы на этом и закончил свой тост, но разговор, возникший до прихода господина капитана, заставляет меня немного задержать ваше внимание. Я обнаружил, что некоторые из вас, и в частности лейтенант Зотиков, артиллерийским искусством которого мы так восхищены, не точно представляют роль американо-английской коалиции в войне, и я бы считал свой долг офицера и представителя западного мира невыполненным, если бы покинул ваш гостеприимный пароход, не поделившись информацией, которой располагаю я и, видимо, не располагает лейтенант Зотиков...
Полетаев нахмурился. Бородатый, похоже, собрался поскандалить. К чему он так обостряет? Стрельба, что ли, должна была, по его расчету, выйти похуже, и он решил подпортить итог? И еще этот дешевый ораторский прием: выбрать из слушателей одного – Зотикова – и шпынять его для вящей выразительности!
Мерфи заметил, что Полетаев недовольно заворочался, переложил со звоном вилку и нож, но не отступил:
– Мы рассуждали здесь о втором фронте. Разумеется, открытие его не входит ни в мою, ни в лейтенанта Зотикова компетенцию. Но нельзя, говоря об этом, замалчивать, сбрасывать со счетов огромные по важности действия западных держав, которые движут войну в определенном направлении, к победе. Я имею в виду такие решающие битвы, как наступление англичан у Эль-Аламейна, высадка союзных войск в Северной Африке, сражение у атолла Мидуэй, битва за Атлантику. Я имею также в виду нынешние действия на Средиземном море. И наконец, ленд-лиз, в реализации которого деятельное участие принимаете вы, русские моряки. Имея самый крупный в мире военно-технический потенциал, моя страна, США, предоставила его своим союзникам для достижения общей победы. И я предлагаю поднять тост за то, чтобы наши совместные действия по разгрому врага проходили в обстановке точного понимания вклада каждой страны в эту войну, чтобы будущие историки не уподобились отважному лейтенанту Зотикову, а были справедливы в своих оценках, чтобы каждый получил то, что он по праву заслужил на столь крутом повороте истории!
Вежливая улыбка на секунду озарила лицо Мерфи. Он выпил водку медленными, глотками и сел, озираясь, ища одобрения.
Капитан-лейтенант, закончив перевод, шепнул Полетаеву: «Вам надо ответить. У вас, хозяина, есть право на последний тост...» Он хотел еще что-то добавить, но Полетаев уже поднимался, волнуясь и удивляясь, что не может найти первое слово, хотя минуту назад в голове промелькнула целая речь. И вдруг увидел, что у всех, кроме американцев, рюмки стоят полные, как и у него, и понял, что никто не выпил за тост Мерфи; не сговариваясь, все поступили, как один, а у Зотикова рюмка даже стоит далеко от тарелки, чуть ли не на середине стола, демонстративно отставлена... И тут же пришло спокойствие и те слова, которые надо было сказать:
– Господин Мерфи, наш гость, высказал интересную и достойную мысль насчет будущих историков. Я горячо присоединяюсь к этой мысли, правда, с одной существенной поправкой: чтобы будущие историки, перечисляя битвы, названные господином Мерфи, не забыли поставить впереди этого списка разгром немцев под Москвой, а затем под Сталинградом. – Он сделал паузу и почувствовал одобрительное движение за столом, шепот, кто-то, кажется, даже тихонько прихлопнул в ладоши. – А говоря о ленд-лизе, – продолжил Полетаев, – я хотел, бы пожелать будущим историкам, чтобы они воздали должное не только американскому военно-промышленному потенциалу, но и советскому. Мы, моряки, хорошо понимаем выпавшую на нашу долю ответственность доставлять в свою страну из США и Канады столь нужные грузы, но, простите, господин Мерфи, я еще не слышал ни от кого у себя на судне, ни на других судах, что именно мы, тихоокеанцы, несем основную тяжесть борьбы с врагом. Ее несут наши бойцы под Ленинградом, Белгородом, Орлом, Курском, наши рабочие на Урале и в Сибири. Там, в России. А мы им помогаем. Всеми силами, как можем, на том участке, где нас поставили... Вот так. Ваше здоровье, господа!
Все выпили в молчании. Только кэптен Андерсон, верзила Андерсон не донес рюмку до рта, что-то пробормотал и засопел, упершись головой в большие растопыренные пальцы. Мерфи посмотрел на него с опаской и встал.
Зотиков с третьим механиком подхватили Андерсона под руки, повели к двери. Рыжий смущенно улыбался и гладил лейтенанта по голове.
– Надо же, надрался! – сокрушенно смотрел вслед американцу капитан-лейтенант из представительства. – Так я и знал! Не учитывают они, что водка есть водка!
На причале, возле трапа, уже дожидалась легковая машина. За рулем сидел «нейви», матрос военного флота, а из задней дверцы, возле которой стоял Зотиков, торчала длинная нога в черной штанине: видно, кэптен никак не мог усесться. Мерфи презрительно оглядел машину, торопливо пожал руки провожавшим, козырнул и сел на переднее сиденье. Капитан-лейтенант забрался рядом с рыжим. Машина загудела, призывая расступиться толпу солдат, готовых начать погрузку, и быстро скрылась за углом склада.
– Ну что же, – сказал Полетаев, – с дипломатией управились, пора подумать о грузе. Все-таки двести тонн взрывчатки берем. Надо распорядиться, Вадим Осипович, – обратился он к старпому, – чтобы курили только в одном месте, в красном уголке.
– Уже, – сказал Реут. – Уже распорядился.
Старпом повернулся, и Полетаев увидел, что из-под кителя у него свисает на ремешках черная кобура револьвера.
«Да, – подумал Полетаев. – Этому не нужно напоминать. Службу знает!»
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
– Так возьмешь меня, Андрей? – спросил Левашов и посмотрел на Щербину с боязливым ожиданием.
Щербина промолчал, даже головы не поднял, ковырял свайкой толстый стальной трос.
– Возьми, – походатайствовал Огородов. Он стоял в накинутом на плечи полушубке – праздный, неизвестно зачем появившийся на застывшей в камчатском морозе палубе. – Возьми, – повторил электрик. – Пусть узнает, что такое «тяжеловес» и как их из трюмов вытаскивают, эти ящики.
– Боцман назначит кого надо, – изрек наконец Щербина.
– Боцман, боцман, – заныл Левашов. – Будто он тебя не послушает!
Щербина и тут головы не поднял, но по тому, как двинул скулами, вроде бы для улыбки, было видно, что ему приятно услышать, какой у него авторитет, как он себя поставил. Мало, выходит, что к зиме у Левашова со Стрельчуком наметилось некое подобие дружбы.
Маторин, Никола Нарышкин, Надя Рогова – те уж как старались, только боцман их рвение не шибко замечал. Есть дело – красить или мыть чего, и давайте шуруйте, ребятки. А Левашов – особь статья. То сигнальные флаги в порядок приводит, то в нижнем коридоре, в теплом месте, латает шлюпочные чехлы, то с кем-нибудь из старичков кают-компанию в салатный колер одевает, лакирует карнизы – словно бы по специальной программе готовится, чтобы все знал, все умел, через все корабельные работы прошел.
И еще подробность: Стрельчук ему самую свою святую вещь начал доверять – связку ключей от разных его, боцманских, кладовых. Раньше, бывало, прострелит боцману поясницу, но он все равно сползет с койки – краски отпустить или ветоши, а теперь велит звать Левашова, ему втолковывает, где что найти и чтобы выдать без лишку.
Электрик Огородов, когда заходил разговор о Левашове, ничего особенного в его привилегии не усматривал, относил ее на счет боцманова сына. «Сын у него в армии, – пояснял электрик, – чуток постарше Левашова, но чем-то на него похожий, я карточку видел. Он в Одессе до войны, кроме школы, аэроклуб посещал. Ну, а когда грянуло, его тотчас в Оренбург, а военным самолетом овладел – на Север куда-то, под Мурманск, что ли, направили: по письмам неясно – полевая почта, и все, летчик-истребитель».
Может, и прав был Огородов? Тосковал боцман по сыну, а тут ему Сергей Левашов и подвернись. Скромный, понятливый, да еще хлебом его не корми, дай послушать про море. Чуть что, интересуется, о случае каком-нибудь подбивает рассказать. Другие ученики, вроде Нарышкина, полгода корму от юта не могли отличить, а этому что ни скажи, какие слова ни употребляй – все понимает.
– Уж возьми его, Андрей, на разгрузку, – снова попросил Огородов и поплотней запахнул полушубок.
– Ладно? – подхватил Левашов.
– Чего там! – махнул рукой Щербина. – Тебе на вахту скоро. А свободное время, Серега, у тебя другим занято...
И замолчали все трое. Неловко замолчали, потому что сказано было хоть и всем известное, но такое, что не обязательно обсуждать вслух. Он ведь Алферову имел в виду, Щербина, с нею у Левашова обычно занято свободное время.
Еще в Сан-Франциско, когда на «Гюго» только собиралась команда, кочегар по фамилии Оцеп пристал к Огородову:
– Слыхал, у нас теперь матросы в отдельных каютах жить будут.
– А где, – спросил электрик, – столько кают наберут, в трюме, что ли, понаделают?
– Да их немного надо. Одну. Для одного матроса.
– Ага, для Алферовой. И где же старпом нашел эту каюту?
– Докторскую. А тот, когда появится, будет жить в лазарете, понятно? А кстати, – осведомился Оцеп, – почему ты решил, что это старпом распорядился?
– Так, – увернулся Огородов, – показалось. Капитану не положено подобными делами заниматься, а Реуту в самый раз.
Пошли обратно, во Владивосток. Погода стояла отменная; в столовой из-за неполного состава команды просторно, машина новая – если б пушки под чехлами на глаза не попадались, когда на палубу выходишь, любой бы забыл, что идет война. И почти каждый вечер в столовой концерты – гитара и мандолина, а Клара-дневальная солирует.
Чаще другого заводила Клара «Анюту», песню про то, как работала девушка в цветочном магазине и раз зашел туда молодой лейтенант, купил цветов и влюбился в нее, в продавщицу. Чем у них дело кончилось, неизвестно, потому что песня обрывается на том месте, когда прислал лейтенант письмо и девушка грустит и радуется.
Ничего особенного не было в словах песни, а только запоет Клара первый куплет, и такая повиснет тишина, что самый тихий звук мандолины слышен, и машина будто бы поспокойней начинает бухать, тоже прислушивается.
Зайдите на цветы взглянуть —
Всего одна минута, —
Приколет розу вам на грудь
Цветочница Анюта...
Вот в такую минуту поднял однажды Огородов голову и обвел глазами всех, кто слушал песню. Он стоял у отворенной двери и увидел в коридоре Алю Алферову в берете и в теплой куртке, с вахты, значит. Стоит, и взгляд ее устремлен в одну точку. Даже страшно показалось электрику – такой взгляд. А потом увидел: слезы у Али катятся по щекам.
Конечно, жалостливая эта «Анюта», за душу может взять, но чтобы заплакал человек при всех, такого Огородов раньше не замечал.
– «Турлес» вспомнила, – сказала Аля. – Парень там у нас был, тоже «Анюту» пел. Когда бомба разорвалась, его сильно ранило.
– Умер? – спросил Огородов так же тихо, как она, почти одними губами.
– Да.
Значит, Аля с «Турлеса»! На нем с Севера через Атлантику шла и всю известную морякам трагедию изведала!
Это была новость, хотя и тонувших и побывавших под хорошей бомбежкой на «Гюго» хватало – со всех морей, со всех пароходств пособирались. Сам капитан Полетаев не зря порой носил перчатки, когда и тепло, и вёдро. В команде знали: зуд временами у него на руках начинается, и ничего с этим врачи поделать не могут, говорят, на нервной почве. А «почва» на Черном море образовалась, милях в десяти от Крымского побережья: два дня и две ночи цеплялся за спасательный круг Полетаев после того, как его теплоход повстречался с торпедными катерами немцев. Долго катера с того места не уходили, все прожекторами просвечивали, из пулеметов воду полосовали...
И когда Оцеп, зубоскал и несерьезный человек, изволил вскоре заметить, что Алферова-де излишне ученая для матроса – первый курс института инженеров водного транспорта окончила, Огородов с жаром возразил:
– Ну что ж, тем лучше. Не зря, выходит, ее наверх поселили. Место третьего штурмана вакантное.
– Э, – засмеялся Оцеп. – Так было бы слишком просто.
– А как же?
– Не знаю. Это уж по твоей части вынюхивать и наблюдать.
Ему и вправду, электрику, ничего не оставалось, как наблюдать. Но когда прибыли во Владивосток и народу на «Гюго» набралось до полного штата, все вокруг расплылось, размазалось – порт, разгрузка, каждый норовит смыться на берег. Аля реже стала попадаться на глаза. Только в следующем рейсе начало кое-что проясняться. Причем оказалось, надо брать в расчет новичков, этих ребят – торговых моряков набора сорок третьего года.
В машине их семь, учеников, и на палубе четверо. Те, кто внизу у котлов и мотылей, быстро пристали к делу; может, потому, что за них взялся сам д е д, старший механик. А на палубе Стрельчук – вот и вся академия. И ч и ф, старпом, каждый день столько работы навалит, что хоть со всего пароходства палубные команды собирай. Бывало, пока боцман своих подчиненных к делу приладит, аж охрипнет. А Реуту идея пришла: проверить грузовые и прочие снасти по всем мачтам да починить, если что не так. Чинить не требовалось – новый пароход, а вот перебрать, проверить... Загонит боцман Николу Нарышкина на мачту и орет: «Тяни правую оттяжку!» – а тот, наверху, кивает, мол, хорошо, тяну, а сам за фал сигнальный дергает – того и гляди из блока выхлестнет.
С Левашовым ничего подобного не случалось, не зря его Стрельчук привечал. Да и плотник, другие из палубных неплохо относились. А вот Щербина, все заметили, тот его сторонился. Временами Огородову казалось, что они знакомы давно и Левашов что-то лишнее знает про Андрея, вот тот и держится подальше, не то стыдясь чего-то, не то желая, чтобы ему про это «лишнее» напоминали.
И был еще прямо-таки неприятель у Левашова – Маторин. В одной каюте жили, работали частенько вместе, а у Сергея для Сашки ни спокойного взгляда, ни доброго слова не находилось. Тот одно, а Левашов обязательно другое – вечный спор. Но это, полагал Огородов, их дело, никого не касается, чего они не поделили. Электрику за Левашовым в отдельности, без Маторина, было интересно наблюдать, потому что, глядя на него, многое можно было выяснить про Алферову. Именно отсюда тянулась дорожка к Алевтине, а дальше, хотел того Левашов или не хотел, к самому Реуту, старпому.
Стали все замечать, что уж больно часто крутится Левашов возле Алферовой. В общем-то ничего особенного, матросы оба, и когда после второго рейса обратно пошли, из Такомы, то они на пару вахту стояли, «собаку», с нуля до четырех. К тому времени Левашова и Маторина уже на руль определили, обучились они. А на вахте два матроса положено, каждый вертит штурвал по часу. И, наверное, можно было бы признать случайностью, что Аля с Левашовым объединились в одной вахте – списки не они составляли, сам Реут. Но вот то, что Левашов стал частенько исчезать за дверями Алиной каюты, тут уж никакой случайности не ищи. Один раз может быть случайность. А если все лето и осень – тут уж прямой закон, точное правило.
Алевтина с ним ласкова и не скрывает того на людях. Правда, скрывать-то что: любой заметит, что это ласка сестры или друга. И мало Стрельчук обучал Левашова морскому делу по особой статье, так теперь она взялась. Вечером берут в штурманской рубке секстан и стоят на ботдеке, измеряют по очереди высоту луны или звезд. Довольные, прямо как ребята из мореходки на судовой практике.
Так и шло, пока однажды не застал Реут Алю в штурманской, когда подбирала она нужные для учебы справочники, и не сказал ей, что, мол, не слишком ли это – преподавать палубному ученику астрономию, когда тому еще надо заслужить право называться приличным матросом.
В точности слова старпома знал один Тягин. Он присутствовал при разговоре и сообщил о нем Огородову. Но главное было ясно: не нравятся старшему помощнику Алины с Левашовым занятия в отдельной каюте, так не нравятся, что он даже при третьем о них решил заговорить. И когда Алевтина положила справочники на место и сказала: «Хорошо, мы заменим астрономию такелажным делом, матросу оно необходимо», Реут, видно, еще сильнее растревожился, потому что ответил: «Вам, между прочим, не мешало бы отдыхать после работы. Такелажному делу научит боцман».
Как действовала потом самодеятельная Алина «мореходка», Огородову во всех подробностях установить не удалось. Он и решил проверить, что думает по этому поводу Оцеп, главный задира на пароходе. А тот:
– Э, старина, не углядел!
– Ладно, сдаюсь... Одного в толк не возьму, как это чиф терпит?
– Ничего он не терпит. Он их вместе теперь на вахту не ставит и выходные порознь дает.
И ведь точно! Алферова с Левашовым вместе вахту стояли всего один рейс, веселые такие из рулевой вниз спускались: мы-де всех сегодня на полторы мили обставили. Они, значит, так старались выдерживать курс, что за их вахту судно большее расстояние проходило. Алферовой, конечно, затея. Еще приговаривала: «Вот что значит королевские матросы!» Она, значит, и Левашов королевские, а остальные так, на черный хлеб зарабатывают. Но потом прекратилось, Левашов с кем-нибудь другим вахту стоял. А попозже старпом его совсем от этой должности отставил, вернул обратно в подчиненные Стрельчуку. И на берег – правильно Оцеп напомнил – не видно, чтобы они вместе с Алей уходили, а это опять-таки регулировать мог только Реут.
Так и шло время. «Гюго» возит грузы через океан, а команда занимается своими делами: кто пар в котлах держит, кто машину маслом поливает, кто штурвал крутит, а кто и обед, ужин варит – тоже дело необходимое.
Один из рейсов привел на Камчатку, в Петропавловск. Стояли на рейде в Авачинской губе, ждали разгрузки. На сопках снег лежал, а на воде – лед, не такой, чтобы требовался ледокол, но приличный, довольно крепкий. И ветром все тянуло из дальнего угла бухты. Неуютно на палубе, зябко, но Огородов все же решил прогуляться. Смотрит, Щербина устроился в закутке, за лебедкой, и на конце толстенного троса делает петлю, заплетает проволочные пряди.
– Привет, – сказал Огородов. – Куда такую громадину готовишь?
– Да вот старпом велел стропы мастерить. Может, тяжеловесы выгружать будем.
– Сами, без грузчиков?
– Может, и сами, – сказал Щербина.
– Деньжат, значит, подзаработаете, – сказал Огородов. – По закону, если команда сама выгружает, ей рублики с каждой тонны положены. Сверх зарплаты.
Щербина вскинул черные глаза на электрика.








