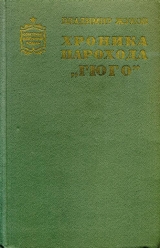
Текст книги "Хроника парохода «Гюго»"
Автор книги: Владимир Жуков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
И стало совсем тяжело. Она понимает, что сейчас расплачется, убежит, не попрощавшись. Но все уже собираются, уходят. И голос той, в сером костюме, насмешливый и немного капризный: «Значит, решено! В отпуск едем вместе. Только если опять начнешь пропадать со своей яхтой, я тебя ждать не стану...»
«Пропадать со своей яхтой». Эти, что ли, слова навели на мысль, придали сил? С крыш капало, чавкала вода под ногами, и Аля шла, думая решительно: «Я докажу, докажу, что я ему нужней. Знаю, что ему интереснее, и буду нужной. Уже была и буду впредь. Я знаю, как поступить...»
Что за чудо эта «Омега»! Острые мачты, точно Нептунов трезубец, кажется, выросли из самого моря, из его зеленоватой пучины, осторожно проткнув осадистый, выкрашенный в черное с золотом корпус. Тугие снасти упрямо линуют небо. Даже ветер, у которого хватает мочи нести бригантину по волнам, когда она кутается в серые одежды парусов, – даже силач ветер не может справиться с певучей натянутостью штагов, фалов, лееров...
– Эй, Алферова! Замечталась?
Голос рулевого выводит Алю из оцепенения, отвлекает от монотонных движений весла в ее загрубелых, покрытых ссадинами руках.
– Раз! И – раз! И-и – раз!
Рулевой безжалостен. Звонкое «И-и – раз!» – словно кнут по усталой лошади. Шлюпка убыстряет ход, шесть весел косо, бритвами, режут воду. Аля мысленно повторяет за рулевым: «И – раз, и – раз!» Так легче вести весло вперед, а потом что есть силы падать назад вместе с ним. «И – раз...»
Когда же кончится эта пытка? Пятый день на море ни морщинки. Штиль, мертвый штиль. «Омега» дремлет на якоре, а две белые шлюпки бродят вокруг, точно ищут пропавший ветер.
– Еще разок отработаем подход к борту. А ну, навались!
Боже, вот печет солнце! Вперед – назад, вперед – назад. Истинные галерники, только что цепями не прикованы. Вперед – назад, вперед – назад...
Впрочем, если держат на судне, тоже не легче. Практиканты, осоловевшие от жары, жмутся в тень, дремлют, видя путаные, нездоровые сны. Ошалело вскакивают под зычную команду в мегафон: «Повахтенно! К левым вантам. Через марсы вниз на палубу. Бегом!» Еще хорошо, если через марсы, а то и повыше – через салинги. Теперь, правда, ничего, не страшно на тридцатиметровой высоте. А поначалу, когда впервые карабкались, екало внутри, казалось, уже не спуститься вниз на желтые доски палубы.
Так вот и гоняли несколько дней на рейде Феодосии, пока малость не обвыклись новички, не научились кое-чему из древней морской службы. Потом пошли, белея парусами, вдоль низкого берега Крыма к Керченскому проливу. Свежий ветер дул, пролив проскочили быстро, а за мысом Ахиллсон даже качнуло. Але не забыть – первый раз стояла на руле. Штурвал тяжелый, двое практикантов крутят его за дубовые рукояти. И ночь была. Желто светится компас, а сбоку, в черной мгле, с перерывами, точно из последних сил, вспыхивает дальний маяк...
Вот так бы и идти на всех парусах, как неделю ходили по азовскому мелководью – западным берегом к Бердянску, оттуда на юг, к Темрюку. Да только встали возле Ачуевской косы на якорь и застряли в безветрии, в солнечном пекле.
Ау, ветер!
Шлюпка наконец приникает к борту «Омеги». Теперь можно найти тень, а еще лучше облиться из шланга. Але было сначала неловко одной среди ребят скакать в купальнике, но оказалось, все тут, на «Омеге», молодцы; никто не пристает, не напоминает, что она на судне в общем-то по крайнему исключению. Третий штурман даже каютку свою уступил, спит на палубе. Она первые только ночи маялась в духоте, потом вытащила матрас на крышу рубки. Тоже не уснешь толком, но зато можно смотреть на крупные южные звезды, висящие совсем близко – над мачтами. Аля и сейчас сказала себе: «Скорее бы ночь».
Но еще утро, еще два часа занятий до обеда – секстаном мерить высоту солнца над расплавившимся в желтое марево горизонтом. Потом морская практика. Штурман будет тыкать пальцем в снасти: «А это что? А это?» Но когда нет в ладонях рукояти весла, все это уже не страшно, даже хочется поскорее увидеть за темным стеклом секстана плоский, как медный пятак, солнечный диск, водить пальцем по строчкам таблицы логарифмов, считать.
Ребята лезут к ней в записи – проверить. Знают, у нее по астрономии вечная пятерка. И она гордо ухмыляется: все-таки превосходство...
Ночью не спит, смотрит на звезды. Они стали совсем другие, даже Большая Медведица, «ковш», который знает каждый. Дуббе, Мерак, Фекда, Алиот, Мизар, Бенетнаш – вот как они именуются, эти привычные звезды. Только одна, средняя, без названия. А неподалеку утюгом вытянулось созвездие Льва. В носике бриллиантом сияет Регул. Его первым Аля поймала в зеркальце секстана.
Она шепчет, перебирая созвездия: Арктур, Северная корона, кусочек Пегаса виден – две яркие точки. Этот квадрат Борис показывал, давно. Шли по набережной, и он вдруг показал рукой на небо. И приблизился к ней – его щека была совсем рядом, – чтобы она могла следить взглядом за его рукой.
Аля вспоминает о пролетевшем времени, и ей не верится, что столько нового вошло в ее жизнь всего за один год. Директор института водного транспорта, правда, поначалу и слушать не хотел о том, чтобы ее принять, горячо убеждал: «Что вы задумали? С третьего курса химфака уйти! Стране нужны специалисты! Мы ведь можем зачислить только на первый...» Она сказала, что согласна на первый. «И потом, вы... женщина. Штурманы, капитаны подолгу находятся в море, им трудно растить детей». Она ответила, что вопрос о детях пока не стоит. «Придется пройти матросский ценз, а это значит – тяжелая физическая работа». Она заявила, что выдержит, во всяком случае, надо попробовать. В технологическом тоже кудахтали, но тех быстро отшила: «А если бы ушла на завод? По семейным обстоятельствам?»
Вот тогда и подстерег ее Борис – уже студентку судоводительского отделения, будущего штурмана дальнего плавания. Утром подстерег возле института, за мостиком через Екатерингофку. Она опаздывала, знала, что через две минуты звонок на лекцию, и все не могла отделаться от чувства, что он специально так подгадал, чтобы не оставалось времени потолковать всерьез. Весною виделись раза три, и тоже мельком, на людях, а летом он пропадал в Крыму. И ладно бы времени в обрез, можно пропустить лекцию, целый день пропустить, если бы... Только слова его, точно эхо, повторили те, директорские, когда она просила принять. «Знаешь, море...» – сказал он, и она не дала договорить. «Да! Знаю! Вы сейчас скажете, что море хорошо с берега. И еще про пассаты, про острова Фиджи и Тромсефьорд. Что они великолепно умещаются в вашей комнате. Вам дороги только игрушки. Море – игрушка, «Кит» – игрушка. И я...»
«Ты меня не так поняла! – Он схватил ее за руку. – Подожди! Что-то не так получилось. Я пришел сказать... что ты излишне всерьез принимаешь меня... все, о чем мы говорили. Подумай, прежде чем ломать жизнь...»
Она не дослушала, убежала. И вот теперь на «Омеге», в Азовском море. Парусная практика. Странно, ей по-настоящему хотелось стать химиком. «Тебе же нравится, когда пахнет хлором», – говорил Борис. Да, нравится; вернее, нравилось. А теперь нравится вот это – мачты, звезды, зыбкий свет над компасом. Аля попробовала представить: она стоит на мостике парохода в белом кителе с нашивками, и вокруг разлита синева юга... Нет, действительно странно, как открылся вдруг желанный путь, с которого она уже не свернет.
«Я ушла с химфака, – думала Аля, – чтобы исчезла пропасть между мной и Борисом. А она расширяется каждый день. Для меня ведь все вокруг н а с т о я щ е е, я никогда бы не стала играть в морскую игру».
– Не спишь, Алевтина?
Она обернулась. Это вахтенный, Леднев, тоже из практикантов. Рад, что нашел, с кем поговорить, скоротать время.
– В эту азовскую духотищу, понятно, не уснешь, – сказал Леднев. – Целую неделю штиль! Скорее бы в порт куда пристали, я бы в киношку, на танцы сходил. Ты любишь танцевать, Алевтина?
– Нет, – отрубила Аля, ей не хотелось разговаривать.
– А я смерть как люблю. Приз однажды заработал. Чепуха, тройной одеколон, но приятно. Хочешь, и тебя научу? Я курсы западных танцев посещал. Тустеп, бостон – что угодно...
– Эй, мало днем наболтались? – с матрацев, разложенных на палубе, поднялась косматая голова. – Отдохнуть не даете!
Аля подтолкнула Леднева, чтобы уходил, а сама осталась у борта, да так и простояла до пяти утра, когда заавралили: поднимался ветер.
Курс взяли на Белосарайский маяк, и все поняли, что пошли на перевал Азовского моря, к Мариуполю.
Парусник на редкость удачно подвалил к причалу Хлебной гавани. Вечернее солнце низко висело над землей. Два старика сторожа, попыхивая цигарками, молча глазели на пришельцев.
Штурман сложил ладони рупором, крикнул:
– Эй, почему народа нет никакого? Футбол, что ли?
Потом на «Омеге» говорили, что виноват радист: возился с передатчиком, а надо было слушать приемник. Но это только поначалу так говорили, в первый час. Скоро стало ясно, что дело не особенно менялось оттого, слышал ты сам или нет первую сводку. Вот, пожалуйста, вникай:
«С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня германские-войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии... Только в Гродненском и Кристыно-польском направлениях противнику удалось...»
Первые дня три на паруснике еще был порядок. Вахту правили, чинили паруса, возились с такелажем. Только за эти же три дня половина практикантов сумела перебывать в военкомате. Возвращаясь, показывали предписания: зачислен на Черноморский флот. И собирали вещи. Руководитель практики растерянно поглядывал в кубрик, где все меньше оставалось занятых коек. Наконец пришла и ему телеграмма. Странная, никто в ней ничего толком не понял, да хорошо, что она хоть что-то определила. Велено было сажать практикантов в поезд и везти прямым ходом, никуда не заезжая, в Архангельск, в распоряжение тамошнего пароходства.
В поезде Аля придумала: позвонить в Ленинград. Лежала на багажной полке, под самым вагонным потолком, и придумала. В Москве, когда ждали товарняк, высидела четыре часа в очереди и дождалась. Соединили с тем номером, вытверженным наизусть, вечным, словно он наколот на руке: 3-18-22.
В трубке хрипело, трещало, а потом отозвался бодрый, незнакомый голос: «Военврач третьего ранга Кротков слушает!» – «Что?! – напугалась Аля. – Какой врач? Мне нужна квартира Сомборских!» – «Это и есть квартира профессора Сомборского. – Далекий голос звучал уже не так бодро и официально. – Но Константина Сергеевича пока нет». – «А Бориса, можно Бориса?» – позвала Аля. «Бориса? Кто спрашивает?» Аля думала, что молчит целую вечность, пока нашлась: «Родственница, я в Москве проездом. Так можно Бориса?» Теперь молчали там, в Ленинграде. Наконец: «Не знаю, как вам помочь. Евгения Ксаверьевна уже эвакуировалась. Нюра, их домработница, устроилась на завод, а Константин Сергеевич должен через полчаса выехать в действующую армию; я отправляюсь с ним, внизу ждет машина...» – «Но где же Борис?» – «Он три месяца как уехал. Бросил аспирантуру и уехал. Завербовался куда-то... И это в такое время, представляете!» – «Представляю», – растерянно отозвалась Аля и услышала телефонистку, объявившую, что разговор окончен.
Три месяца как уехал. «Значит, когда я была в Ленинграде, могла все узнать, – решила Аля и перебила себя: – Узнать... Зачем? Не от меня же он уехал, он со мной никогда не был. Он от себя уехал. От яхты, книг, карт. Почему? Ему так нравилось все это. И куда? На Мурман, Камчатку? Он шутил как-то, что хорошо бы стать учителем в Якутии, в районе падения тунгусского метеорита, или в Бурятии... Боже, какая огромная у нас страна!»
Так ей думалось уже в теплушке, на низких нарах. Тогда еще не пришла тоска, просто было непонятно, следовало разобраться, решить, почему все да отчего. По сводкам выходило, что война совсем близко подкатилась к городу, в котором Аля родилась и провела почти всю свою жизнь. Выходило, что немцы уже где-то под Петергофом. И красноармейцы с котелками, с зелеными сидорами подтверждали: говорят, на окраинах города окопы роют.
Еще из Мариуполя она послала матери телеграмму, но ответа не получила. Только в Архангельске разыскало ее письмо в мятом, захватанном конверте. Мать сообщала, что они с отцом эвакуируются в Ташкент, пусть Аля пишет туда до востребования. И чтобы себя берегла. Как они устроятся, так чтоб и она приезжала, в лихое время вместе надо держаться. А в конце приписка:
«Жалко дом бросать, вещи собирала и все плакала».
В Архангельске, в пароходстве, приняли охотно. Практиканты? Вот вам практика – в порт, на разгрузку. И дни потекли одинаковые, как доски в штабелях: с утра на Бакарице, на лесных биржах, на тесных причалах, а вечером в школе, ставшей на время общежитием. И грустно было от гулкости школьного класса с кроватями, с отгороженным брезентом углом – для нее, Али, сделали ребята, да чужое место, как ни обживай. И еще оттого грустно, что, оказалось, был один человек в жизни, для которого все, ради которого все, а теперь его нет не только рядом, но и просто в другом городе, исчез неизвестно куда, словно умер.
Она сидела на подоконнике, безучастно смотрела в окно, когда в класс влетел Леднев и прямо с порога – чечетку. Два коленца и еще с прискоком для завершения и в ладоши.
– Сидишь, – сказал он, переводя дух. – Сидишь, Алевтина, и ни черта не знаешь. Как самая последняя обывательница, которая об одной только своей квашеной морошке думает. А я вот кадровика сейчас встретил, злодея этого рябого, который нас, лихих флибустьеров, в затрапезных грузчиков превратил. Останавливает меня, злодей...
И Леднев рассказал: на пароходы их расписывают, должность всем – матрос первого класса. Значит, четыреста двадцать целковых в месяц и харчи. А про дальнейшую учебу никому ничего не известно. Во всяком случае, кадровик заявил, чтобы про институт пока не думали.
Он, Леднев, и проводил Алю до самого трапа «Турлеса», нес всю дорогу, перехватывая из руки в руку, ее чемоданчик. На борт подниматься не стал, но и не ушел. Ждал, наверное, с час, пока она устроилась на новом месте, а потом сошла на причал, взволнованная и вроде бы смущенная. Леднев кивнул ей и пошел в сторону кормы, с глаз вахтенного.
Получалось, что они как бы гуляли и во время этой прогулки должен был у них произойти какой-то важный разговор.
Аля это почувствовала по тому, как молчал Леднев – искоса поглядывал, ломал щепку.
– Ну, ты чего? – спросила она, глядя на кормовой флаг «Турлеса» и думая, что теперь это ее флаг. – Чего ты мерехлюндию нагнал?
– Да так, – сказал Леднев. – Может, последний раз в жизни видимся. Разнесет по земле в разные концы – и все. А мне... знаешь, Алька, мне очень без тебя одиноко будет. Замечала, я в институте всегда поближе к тебе садился? С тобой хорошо – рядом. А потом «Омега», Архангельск... Влюбился, что ли.
– В меня? Вот придумал!
– Ну и придумал. – Он смотрел на Алю, надеясь, что она скажет еще что-нибудь, но она только улыбалась, как бы извиняя за ошибку. – Ладно, прощай, побегу я.
– Стой, – сказала Аля и взяла его за руку; не крепко взяла, просто чтобы не обижать, и он это почувствовал.
– Да нет, пойду. Барахлишко собрать надо. Может, и мое судно завтра объявится. Вроде на «Коммунар» должны назначить... Прощай. – Леднев высвободил свою руку и зашагал прочь, временами оглядываясь, а потом заспешил, почти побежал.
Аля растерянно глядела ему вслед. Стало совестно, что обошлась жестоко с парнем. Можно ведь было сказать какие-нибудь слова, ласковые слова можно было даже найти, чтоб не так резко, не так быстро кончился разговор, необычное прощание. Впервые ведь, как ни странно, за ее девическую жизнь было сказано т а к о е.
Она и перед сном, когда растянулась на верхней койке в узкой каюте, думала про это, заново переживала недавний разговор. Что он говорил, Леднев, там, у кормы, под крики чаек? Другой, возникший в мыслях, произносил слова, каких Леднев, может, ни за что бы не сказал, толкуй они хоть сутки; он убеждал Алю, что она и красивая, и ласковая, и умная, что по сравнению с ней другие девушки гроша ломаного не стоят, потому что ни одна не назовет все созвездия на ночном небе, ни одна, кроме Али, не лазила на реи настоящей бригантины, потому что Аля – матрос первого класса парохода «Турлес».
Снялись со швартовых на следующий день. Поговаривали, что путь неблизкий, в Англию. Аля ухмыльнулась: «Знал бы Борис! Не по карте – по настоящему морю».
Еще раз подумала о Сомборском, когда у самого горла Белого моря повстречали первый конвой союзников. «Турлес» шел в кильватер за военным тральщиком – так теперь проводили торговые суда. А конвой тот двигался по всем правилам: транспорты в три ряда, эсминцы по краям, в небе гудят моторы.
Аля как раз сменилась с руля, стояла на мостике, когда поравнялись с конвоем. В бинокль можно было хорошо разглядеть и чужие, непривычные флаги, и ящики, плотно забившие палубы, и маленькие пушки в круглых, будто обрезанные стаканы, банкетах. Эсминцы устало сбрасывали с острых носов белую пену. Они жались к медлительным, глубоко осевшим торговым судам, и Аля вспомнила Бориса, его морскую игру. Со вздохом вспомнила, как потерянное навсегда.
У входа в Кольский залив тральщик отстал, вскоре его поглотила дымка, густо застилавшая берег.
«Турлес» отвернул к северу, ходко пошел в одиночестве, все сильнее раскачиваясь на пологих волнах. Они катили из дальних, таинственных полярных областей. И если бы не торчал теперь капитан все время на мостике, если бы не приказ его подвахтенным не исчезать с палубы, зорко наблюдать за небом, за поверхностью моря, то можно было подумать, что и войны никакой нет.
Аля, когда заступала на руль, посмотрела на капитана впервые близко и очень внимательно. У него были тяжелые, мохнатые брови и сердитые глаза. Заметив Алю, он, однако, улыбнулся, сказал совсем не по-капитански: «Здравствуйте», – и она, оробев от простого, совсем не подходящего к месту слова, ответила так же: «Здравствуйте» – и застыла у штурвала, ломая голову, встретил ли ее капитан с иронией или по-доброму.
Нет, пожалуй, по-доброму, как и другие, внизу, команда. Один так в первый же вечер, за ужином, в любви объясняться стал. Шутил, конечно, – на людях как иначе?
Весельчак он, этот Алексей-машинист. Поел первым и сидит бренчит на гитаре. И среди куплетов все к ней, к Але: «Не про вас ли? Эх, зачем мы на пароходе, а не на бережку!» Аля краснеет, смущается, а он, балагуря, выведывает ее биографию. И нельзя не ответить, неловко, другие тоже прислушиваются, видно, интересно им, как это женщины стали попадать в матросы первого класса.
А один из угла прямо ел ее глазищами. Плечи как у борца, сразу определишь – кочегар. Смешно: такой огромный, а все зовут его Славик. И такой спокойный. Вот уж, глядя на него, не скажешь, что судно, может, в эту минуту находится в перекрестии немецкого перископа. Да и другие, впрочем, не нервничают.
Алексей-машинист, так тот пел свои песенки и когда радио приняли с английского теплохода, который шел где-то милях в трехстах по курсу. Не радиограмма, а вопль: «Атакованы авиацией, горим». Конечно, никто об этом по пароходу не сообщал, но слух просочился из верхних рубок вниз, в столовку.
Владислав тогда наконец разжал губы.
– Может, уберешь бренчалку-то? Тонут ведь люди.
– А я что, насмехаюсь? – Гитарист прижал струны. – Ты, Славик, прислушайся ко мне, а не к своим тревожным мыслям. «Н а п р а с н о с т а р у ш к а ж д е т с ы н а д о м о й, е й с к а ж у т – о н а з а р ы д а ет...» – пропел он и глухо оборвал аккорд. – Эх, братцы, а ведь все старушки на свете одинаковы – и английские и русские! Всем горько на душе, когда их сынки пропадают в соленой купели.
Владислав больше ничего не сказал, и другие, кто был в столовой, молчали.
Аля обвела всех взглядом. Такими же хмурыми, озабоченными люди бывали по утрам, когда радист приносил свежую сводку, – обсуждали дела на фронте, гадали, как дальше пойдет война. И Аля со всеми обсуждала, а теперь ей вспомнилась мать – живет где-то в Ташкенте, таком далеком и незнакомом, что его и представить нельзя, и подумала: «А обо мне родные ничего толком не знают, и долго, очень долго не будут знать».
Алексей снова провел по струнам, и опять у него получилось: «Н а п р а с н о с т а р у ш к а...» И все молчали.
После вахты, ночью, Аля забралась на койку одетая. Смутное беспокойство не оставляло ее, хотя наверху, на мостике и в рулевой, внешне было по-прежнему, как и в прошлые дни. Капитан все так же находился наверху, встретил ее улыбкой и «здравствуйте». Это стало у них какой-то игрой. Аля улыбалась всякий раз в ответ и тоже говорила: «Здравствуйте». Да, все было по-прежнему, даже курс тот же, как и на прошлой вахте, – 258 градусов, да только беспокойство пришло и не отставало.
Задремала и тотчас проснулась; лежала без сна, словно ожидая чего-то. А через полчаса загремел колокол громкого боя.
Аля выскочила на шлюпочную палубу, комкая спасательный нагрудник. Один за другим выбегали все, кто был внизу. Вертели головами, бросая тревожные взгляды на густо-серые, в пене волны, в белевшее как бы в немощном рассвете небо.
Сильно качнуло, и Аля поняла: круто сменили курс, уже не обращали внимания на то, чтобы идти против зыби. Глянула на мостик. Там был вахтенный штурман и рядом капитан в дождевике с нахлобученным капюшоном, из-под которого торчал бинокль.
– Вона, вона они! – крикнули рядом. – Заходят.
– Эх, три самолета... Точно. Туманчик бы сейчас, А то ишь разгулялось!
– Заткнись!
– По курсу, гляди, по курсу заходят!
Аля ухватилась за шлюпбалку. Вот горе! И стрелять нечем. Хоть бы пулемет какой... Она еще выше запрокинула голову: самолеты летели уже почти над судном.
Надрываясь на полном, самом полном ходу, билась внизу машина, но ее удары не могли пересилить гул моторов, лившийся с неба. Казалось, именно истошный воздушный рев и должен был раздавить, разрушить пароход, послать на дно. Но ухнуло рядом, разорвалось где-то у борта, рванулась фонтаном вода, и стало ясно, что будет дальше.
«Турлес», заваливаясь на борт, опять сменил курс. Три новых столба воды почти разом взметнулись у самого его борта. Еще поворот – теперь обратно, как заяц, путать следы. Но гончие по следу идут, рядом они. И не охота это – расстрел.
Лопался, разрываясь на части, воздух. Дрожала, сотрясаясь, палуба. Суетились у шлюпки люди. Аля тоже сдирала чехол, поправляла тали. Кинулась к другой шлюпке, споткнулась, упала. Над леером вырос новый фонтан. Палуба косо пошла вбок, тяжело вздрогнула. Нет, надо встать, идти. Что это с машиной? Такое впечатление, что остановилась. А самолеты? Откуда их столько, было же три... Она добралась наконец до шлюпки, но та уже была готова – висела над кипящей, изрытой волнами водой.
Последнюю шлюпку спихнули с кильблоков кое-как. Где-то по ту сторону рубки ухнуло громче всего, и заложил уши боцманский крик: «Шла-а-нги! Гори-и-ит!»
У шланга шершавая кожа, разлегся, надулся сытой змеей. Голова змеи уползла в желтое и черное. Черного больше. Клубится, не дает дышать. Хорошо, что быстро воду из машины дали. Еще бы, еще, вон как мостик обдало: костер, прямо костер! А палуба забита лесом, груз – доски, бревна. Утонуть не скоро дадут, а гореть, ох гореть будут!
Черно кругом, прямо ночь. Где там боцман? Аля, пригнувшись, напряглась, потащила шланг вперед. Шаг, еще, вот теперь лучше. А где же самолеты, что еще натворили? Трещит все вокруг. Глоточек бы воздуха, один глоточек, капельку, и смотреть – как бы сделать, чтобы можно было смотреть?
Сквозь клочья дыма проглянуло белесое, изумленное небо.
Мачты, желтая груда досок, стянутая цепями. Слева, совсем рядом, рубка, серое облако, вырывающееся из окна, сносимое ветром назад, за высокий цилиндр трубы.
Аля удивилась, что она на мостике: не заметила, как забралась сюда, волоча следом за боцманом тяжелый, будто свинцом налитый шланг. Тугая струя рвалась из рук боцмана, хлестала по рулевой, ниже, вбок, на палубу и снова вверх. Откуда-то снизу ей помогали еще два изогнутых водяных столба, хрипящих, в бусинках разлетающихся брызг. Они жадно слизывали огонь, и только дым по-прежнему густо валил, стлался клубами почти горизонтально.
«Где же самолеты? Улетели? Всё уже?» Аля подняла голову, щурясь, смотрела ввысь, не видя ничего, кроме мелких облачков, пока ее не сшибло ударом, судорогой, прокатившейся по корпусу «Турлеса», пока она не повалилась назад, на самый край мостика, исковерканного еще раньше бомбой...
– На бак! Давай на бак!»
Она узнала голос старпома и, обдирая руки о железо, поднялась, кинулась за ним, срываясь со скользких ступеней на занозистое дерево палубного груза. Впереди бежали еще двое, слышался тяжелый, неровный топот.
Вот и фок-мачта, теперь спрыгнуть, удержаться. В люк, ниже, в темноту. «Где-то бурлит вода. И палуба на баке разворочена. Как холодно! Кто это? Он, опять старпом. И еще двое. Да, да, сейчас!»
Тяжелую тушу брезента еле вытолкнули наверх. Тянули тросы, торопливо разматывали. С треском по борту развернулись штормтрапы. Аля перекинула ногу через планширь, но ее столкнули, почти скинули обратно на палубу – полезли другие. Она не обиделась, пусть. Потащила трос, обводя через форштевень, на барабан брашпиля.
Пар шипел, точно сердился, что его выпускали в худые, расшатанные взрывом цилиндры. Трос дернулся, заскользил, прижимая пластырь к пробоине. Старпом кричал в телефонную трубку: «Машина! Машина! Включай донку! Качай, говорю, вашу мать!»
Люди, оставшиеся без работы, сгрудились у борта. Молча смотрели, как подрагивает напрягшаяся парусина: сдержит ли воду эта ненадежная защита, хватит ли ее силы, чтобы идти пароходу дальше?
Дым на спардеке постепенно рассеивался. Рисунком сумасшедшего проступало исковерканное крыло мостика, сгоревшая почти начисто рулевая рубка, голо, как на деревенском пожарище, торчащая труба. И все это с перекосом, с наклоненными мачтами, не выходившими при качке в свою обычную гордую вертикаль.
Человек, стоявший рядом с Алей, взмахнул рукой и рухнул на палубу с глухим, безнадежным вздохом.
– Алексей! – Она вскрикнула, первая наклонилась к нему. – Леша!
Машиниста подняли на руки, понесли. Он был мокрый, порванный борт куртки обнажал тельник, запятнанный кровью. На секунду открыл глаза, посмотрел вбок, на пляшущий маятником горизонт, не видя, безразлично.
– Бомба это его, сука, – сказал матрос, тот, что поддерживал голову Алексея и плечи. – Он ведь на баке находился, когда мы прибежали, раньше туда пошел – шланги готовить. Бомба его, сука.
– Точно, – сказал другой. – Когда по надстройке шарахнуло, там тоже надо было ждать. Эй, осторожней, легче, говорю!
– Кровища-то, вишь, по штанине текла, – сказал первый матрос, когда начали продвигаться по доскам, груженным на передней палубе. – И в воду лазил, за борт. Мне-то ничего, я целый...
Аля слушала, старалась шагать в ногу, смотрела на бледное, искаженное болью лицо Алексея. И совсем по-женски, понимая, что по-женски, и не боясь этого, впервые за два трудных часа спросила соседа:
– А бомбежка кончилась?
В ответ раздалось глухо, зло:
– Узнаешь. Иди себе.
Алексея внесли в каюту доктора, растолкав перевязанных и ждущих перевязки, уложили на койку.
Доктор, волоча бинт, присел на корточки, начал считать пульс. Разом наступившее молчание нарушил его приказ: всем идти в красный уголок. Помощь раненым, обожженным, ушибленным он будет оказывать там. И добавил: «Через некоторое время».
– Товарищи! – Капитан, поглаживая густую бровь левой рукой (правая у него была забинтована, на привязи), оглядел команду, собравшуюся в столовой, и еще раз громко повторил: – Товарищи! Я думаю, не надо объяснять, зачем я приказал прийти сюда всем, кроме вахтенных. Не буду говорить и о том, что у нас нет возможности толковать долго, – всем надо быть на местах, исходя из создавшегося положения, А вот положение это нам надо всем хорошо представлять... Трудное, не скрою, положение. Трое убитых, девять раненых. Хода нет, судно дрейфует. Пробоина опять же. Думаю, нас бы не винили, если бы мы покинули пароход. – Капитан умолк и обвел взглядом липа слушавших его людей. Потом не сказал, крикнул: – Но мы выполним свою задачу до конца! Так?
– Так, – подтвердил кто-то, один за всех.
– Ну вот. Я это и хотел услышать. – Он снова заговорил спокойно, словно уже все было по-другому вокруг, словно и раненым теперь будет легче, раз принято окончательное и бесповоротное решение, и самолетам незачем больше прилетать – все произойдет так, как говорит он, капитан. Дал распоряжение, чтобы наготове оставались шлюпки, и как с машиной – вся надежда теперь на механиков. И еще указание: на место сгоревшей рубки натаскать тряпья, пакли, дымовых шашек. Прилетят снова – устроить представление: горим, мол, скоро потонем, отстаньте.
Это досталось Але – устраивать ложную пожарную кутерьму.
Казалось, из легких никогда уж не выдохнуть сухую горечь, не отмыться от копоти, не отделаться от запаха гари. Единственная радость: не видно, что вокруг творится, где бухает. Трижды подымали дымище, раз вечером и дважды на рассвете, холодном, мрачном, как бы последнем.
Потом Аля прибежала на корму, где у запасного штурвала стояли теперь рулевой, вахтенный штурман и капитан, – жаловаться, что осталась одна всего дымовая шашка. Прямо с ней, с этой шашкой, явилась. А капитан взял коптилку и швырнул за корму. Далеко швырнул – сильный, хоть и раненый!
– Смотри, – сказал. – Вон туда смотри.
Справа, в ветреное пространство, серебряно освещенное солнцем, непривычно впечаталась черная полоска. Тоненькая, чудилось, вот-вот порвется. Аля поняла сразу: берег, напрягла зрение, и все никак не получалось, чтобы виделось четко, ясно.
– Ну вот, – сказал капитан. – Чего ж ты теперь-то плачешь? Дошли ведь, черт нас возьми, дошли! – Он обнял ее одной рукой, здоровой, и она уткнулась ему в плечо. – Ну, ну, – тихо твердил капитан, и не то чтобы порицал или успокаивал, твердил так, будто и ему хотелось ткнуться кому-нибудь в плечо. – Ну, ну, ступай в душ, Золушка. А то ведь к Англии подходим. Заграница как-никак.
Полоска на горизонте приближалась. Широкий залив сачком втягивал обгорелый, завалившийся на борт «Турлес», заботливо огораживал плоскими берегами, а потом надвинулся причалами, черными бортами судов, кранами, закопченными стенами фабрик. Это была Шотландия. Где-то дальше, на холмах, раскинулся вальтерскоттовский Эдинбург.








