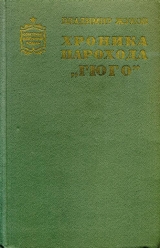
Текст книги "Хроника парохода «Гюго»"
Автор книги: Владимир Жуков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Но Жогов молчал. Я перевалил его на спину, потом снова на бок, взял за подбородок, потряс. В мутно проступившем вдруг, как бы сразу, предутреннем свете я видел, как стекают по Федькиным щекам дождевые капли, и щеки были мертвенно-бледные. И тут же, пугая и объясняя все, за ухом обнаружился резкий, раздвинувший редковатые волосы след моего камня – багровый, с разодранной кожей по краям.
Страх, безумный, не изведанный еще даже в эту проклятую ночь, тошнотой подступил к горлу. Я заметался вокруг безжизненного тела Жогова. Бесцельно, суетливо.
– Федя! Федор!.. Я не хотел. Понимаешь, так вышло... Слышишь?
Распластал его навзничь, стал тереть ему щеки. Вода вроде сошла с них, но они были все такие же бледные.. И тогда я закричал, громко, мне казалось, так громко, что должны услышать даже в Калэме, в проклятой Калэме, где все происходит так глупо, так чудовищно безнадежно:
– Э-эй! На по-о-о-мощь!
Эхо в промокшем лесу не получилось. Только в ушах отдалось: «о-о-мощь». И тут же на вершину насыпи вылетел автомобиль.
Я побежал, размахивая руками, крича, добрался до крутого склона и полез, срываясь с глинистых, скользких уступов.
Поднялся невысоко – шум удалявшегося, затихавшего постепенно мотора говорил, что наверху делать нечего.
Невдалеке, под основанием насыпи, я увидел бетонную трубу, широкую, наверное, в два человеческих роста, сквозь нее слабо сочился ручеек. Это открытие мне показалось чрезвычайно важным, и я вернулся к Жогову, с трудом поднял его, подхватил под ноги и под плечи и, раскачиваясь, стараясь не упасть, побрел по лужам.
Я положил Федора на сухое место, вот только ноги, как ни старался, оказывались в ручье. Но они были все равно у него мокрые, и я решил, что это в конце концов неважно.
Бег к насыпи, тяжесть ноши, наверное, отвлекли меня от страшных мыслей, показалось, что еще не все потеряно, и я стал черпать ладонями воду у бетонного среза и лить ее на голову Жогову, за воротник. Пошарил в карманах его макинтоша, вытащил носовой платок (своего у меня не было) и, намочив, стал прикладывать осторожно к ране.
Я действовал почти машинально, методически и потом перестал. И тут вспомнил, что, когда искал платок, под макинтошем у Жогова, нащупал что-то твердое, тогда я не разобрал, не понял, что это.
Поднял мокрую полу, сунул руку в карман брюк и вытащил матросскую финку в ножнах. Наборная ручка тяжко легла в ладонь...
У нас у всех, у палубных, были такие финки; они крайние нужны для такелажных поделок, чтобы полоснуть, если нужно, пеньковый трос. Я утопил свою, когда спускался на плот. Но тогда, во время вахты, нож был со мной наподобие матросского инструмента, а этот, что я выудил из жоговского кармана, был явно прихвачен для иных целей. Я даже удивился мысли, что матросскую финку можно с успехом использовать для д р у г о г о.
Неприятный холодок пополз по спине, жестокость и злость вновь шевельнулись во мне, заставили поднять голову, распрямить плечи. Я уж больше не макал платок в воду, сжал его в руке и припал ухом к Федькиным губам.
Странно, что я не догадался проверить раньше: дыхание, хоть и слабое, но теплое, живое, чувствовалось явственно, и показалось даже, что губы моего неприятеля дрогнули, как бы готовые что-то сказать. И тогда я, торопясь, вытянул у него из-под воротника цветастый галстук – мокрый насквозь и от этого ставший словно бы в два раза крепче, сложил накрест его холодные, с тонкими запястьями руки и стянул их галстуком, соорудив двойной топовый, или, как его еще называют, полицейский, узел. Потом выдернул у себя из брюк ремень и сильно, безжалостно связал Федькины ноги, проковыряв его же ножом дырку для пряжки.
Теперь оставалось подняться на насыпь. Я вышел из трубы и стал взбираться по косой пологой линии, как это делают лыжники. Половина дела, я считал, сделана.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
– Вы не волнуйтесь, капитан. Обойдется!
Консул уселся в кресло, не сняв плаща и шляпы, далеко вытянув ноги, и этот вид его – человека, озабоченного происходящим только лишь по-служебному, «от» и «до», – разозлил Полетаева больше, чем обращенные к нему вялые, необязательные слова.
Он и не волновался. Если уж говорить о его состоянии, то надо подбирать другое слово. Досадовал, скорее всего. На себя досадовал.
– Волнения не входят в мои обязанности, – сказал Полетаев, отвернувшись к иллюминатору. – Я здесь затем, чтобы принимать решения.
– О, решения все уже приняты! – Консул посмотрел на часы. – Похоронная машина придет вовремя, это у них закон. Не знаю только, много ли вмещает автобус. Человек сорок, наверное. Вы сколько сможете отпустить на кладбище?
– Не больше двадцати.
– Да, пожалуй. А с этими беглецами надо ждать. Полиция здесь тоже первоклассная.
Наступило молчание. Полетаев с горечью усмехнулся: словом «тоже» консул связал блюстителей порядка с похоронной компанией. Наверное, в мыслях он произносил еще одно «тоже», приплюсовывая сюда «Гюго» и его, Полетаева. Может, и справедливо... Сколько пароходов толчется в Портленде, Сиэтле, Такоме – округе, подвластной консулу, – и все нормально: погрузка, ремонт, оформление документов, приемы, вежливые разговоры, тосты за победу союзников, медленно тающие кубики льда в стаканах с виски. А тут... За два дня на одном судне столько событий! Хватит на целое пароходство. И он, консул, еще выделил почему-то Полетаева из всех капитанов, дружески потянулся к нему...
Они познакомились на приеме в Морском офицерском клубе. Стояли друг против друга, как встретившиеся после двадцатилетней разлуки школьные товарищи, и говорили, без всякой связи переходя на все новые и новые темы. Вспоминали довоенную Одессу, делились впечатлениями о Канаде (консула недавно перевели оттуда в Соединенные Штаты), обсуждали дела на фронте и тут же – рузвельтовский «новый курс», недавнюю речь президента, этого дальновидного политика, стремившегося укреплять дружбу и сотрудничество с СССР.
В тот вечер консул отвез Полетаева до порта на своей машине, никак не мог распрощаться, а потом они поднялись на судно и протолковали до рассвета, попивая невкусный остывший кофе.
Это было на второй день после прихода в Америку. Потом, в Калэме, Полетаева позвали к телефону в портовую дежурку. Консул весело поздоровался, сказал, что у него выдалось свободное время, предложил проехаться вместе с ним по окрестностям. Полетаев был не прочь, да борту он не нужен, его только смущало, что консул находится далеко, – как им встретиться. Но тот опять оживленно забухал в трубку: «Сорок миль по здешним дорогам – не расстояние».
Да, не расстояние... Полетаева не было на борту пять часов, и за это время они успели с консулом вернуться в Портленд, поколесили по городу, съездили в Национальный парк. Солнце припекало на лесистых склонах, от сосен с низкими широкими кронами шел острый смолистый запах. Веселясь, как мальчишки, они кормили хищно-доверчивого гризли орехами, а могучим горным кабанам совали сквозь сетку вольера сигареты, и кабаны жадно жевали табак, дрожа от удовольствия, как наркоманы. В лавочке возле зверинца консул купил пакет сосисок; поднявшись по горной тропе, они зажарили их на каменной жаровне – одной из тех, что предусмотрительно устроены среди кустов, на полянах, для посетителей парка...
Такой приятной прогулки после долгих дней в море не было у Полетаева еще ни в один рейс. И всего пять часов. Всего лишь триста минут. Немногим больше одной вахты.
А потом был «Гюго» – сразу же показалось, еще из машины, что необычный, хмурый, повернутый не левым, как прежде, а правым бортом к причалу. Полетаев торопливо шагал к трапу, не обращая внимания на то, что консул не поспевает за ним. И наверное, еще от их разговора в парке осталась, мелькнула искорка юмора – только сквозь зубы, невеселого:
– По крайней мере мне не надо идти звонить по телефону, сообщать о гибели человека. Консул здесь.
Это было, когда Полетаев уже выслушал доклад вахтенного штурмана, а потом старпома у себя в каюте, наверху. И, как сейчас, консул, не снимая плаща и шляпы, уселся в кресло и так же сидел, далеко вытянув ноги. Потом сказал:
– Нет, вы все-таки напишите мне официальное донесение.
Вечером в день аварии он уходил на берег, к телефону, сказал, что вызвал своего помощника, но сам не уехал, хотя мог это сделать совершенно спокойно. Рано утром ушел в город, вернулся неторопливой походкой, сказал:
– Договорился о похоронах. Все в порядке. Они очень удивились, что гроб не нужен. Показали роскошный альбом – тридцать два образца...
Зачем он это делал, консул? Хотел избавить своего нового знакомого от хлопот? Но тогда почему держался подчеркнуто официально, называл Полетаева не по имени и отчеству, а «капитан». Там, в парке, они незаметно, как бы само собой, стали говорить друг другу «ты», и это еще больше подчеркивало прелесть проведенных вместе часов; грубоватое, прямое «ты» было бы и сейчас в пору, оно ведь часто звучит и начальственно. Только с первого их шага на палубу вновь возникло холодно-вежливое «вы». Не хотел ли новый знакомый сказать этим, что ошибся в нем, Полетаеве? Или боялся, что окажется хотя бы стороной втянутым в историю? Но Полетаев объяснил ему: гибель матроса – чистая случайность. Так, по крайней мере, считал он сам, капитан. И ему, капитану, даже если бы обнаружились явные оплошности команды, приведшие к несчастному случаю, грозили бы неприятности не такие уж сильные: он ведь отсутствовал. И алиби мог подтвердить не кто-нибудь, а сам консул Союза Советских Социалистических Республик.
Но оплошностей не было. Полетаев замучил вопросами с десяток людей, исчертил толстый блокнот схемами злосчастной перешвартовки. Не было оплошностей! Конечно, всем еще займется специальная комиссия, а потом еще одна – из пароходства, но Полетаев уже теперь мог лишь удивляться тому, как лихо задумал и осуществил поворот его старший помощник Реут. В премии команде за этот рейс можно было бы не сомневаться – такой перегруз, да еще на сутки раньше снялись бы со швартовов.
Только одно не выходило на капитанских чертежах, не укладывалось в расчеты: поспешность, с какой произведена перешвартовка. По записям в вахтенном журнале получался скачок, прямо взрывной переход от монотонных перечислений – «Идет погрузка», «Идет погрузка», «Машина в шестичасовой готовности» – к страшному теперь «Подана команда изготовиться...». Точно Реут торопился сделать все до его прихода. Но почему же он не начал раньше, когда вишневого цвета консульский «фордик» вынес капитана на федеральное шоссе № 44? Ведь тогда уже ставили последний паровоз на левый борт и о повороте, пока не готова машина, не шло и речи. Боялся предложить? Опасался, что капитан останется и начнет командовать сам? Или думал, что капитан вообще не согласится на поворот при таком сильном, слишком сильном течении?
Задавая себе эти вопросы, Полетаев приходил к выводу, что действительно остался бы, не поехал с консулом. Но что бы от этого изменилось? Случайность не пощадила бы и его – на то она и случайность. А может, и пощадила бы, обошла? Нет, это не имеет значения, раз его не было на пароходе. Потому и спросил, первым делом спросил Реута, когда тот изложил все в подробностях: «А как вы сами расцениваете случившееся?» Старпом ответил глухо и коротко: «Обидно, хоть плачь». Он выглядел непривычно усталым, осунувшимся, и даже в глазах его, как всегда смотревших прямо и твердо, не было все-таки прежней старпомовой уверенности. Словно бы что-то незыблемое, по его расчетам, безотказное на сей раз обмануло. «И эти еще, на берегу! – воскликнул вдруг Реут, как бы ища поддержки. – Не смогли правильно перенести концы. Такое простое дело!»
«И эти еще», – выхватил из сказанного мысленно Полетаев. А кто другой? Или что другое подвело Реута? Теперь уже было ясно, совершенно ясно, что старпом хотел перешвартоваться в отсутствие капитана, сам все сделать. У него была причина проявить самостоятельность, и он смело воспользовался ею, не побоялся отпущенной ему ответственности. «Но что же все-таки его удержало поначалу? – снова задал себе вопрос Полетаев. – Конечно, Реут – человек быстрых решений, только не верится, чтобы он пошел на такое дело по наитию, с кондачка. Видно, обдумывал все и не решался начать, а потом что-то подтолкнуло, может, помогло, придало уверенности...»
– Скоро собираться. – Консул развел руки в стороны и зевнул.
– Да, – сказал Полетаев и снова отвернулся к иллюминатору, уставился в глухую пелену не прекращающегося с ночи дождя.
«И еще одно хотел бы я знать, – вернулся он к своим мыслям. – Что связало этих двух пропавших – Жогова и Левашова?»
Тут даже Реут, дотошный Реут, символ порядка в дисциплины, не мог ничего объяснить – исчезли, и все. Готовясь к подъему флага, вахтенный помощник обнаружил, что вместо Левашова вахту ночью стоял Маторин, поджидал, когда тот, как было обещано, вернется. Обшарили весь пароход – нет следов. Полетаев приказал даже вскрыть будки и тендеры паровозов, осмотреть причал и берег возле судна. Хорошо, что все это происходило не на глазах у консула. А вот когда в капитанскую каюту старательный Измайлов заявился, тут он был, дипломат, рядом, только не в кресле, не в шляпе, сдвинутой на затылок, – на диване сидел, тихо, в уголке, настороженно выслушивал предположения главы судового комитета: «Я, товарищ капитан, хочу обратить внимание, что Левашов исчез после того, как побывал на американском буксире – после аварии...»
Он тогда быстро отправил непрошеного советчика вниз, стыдясь за произнесенные в его каюте слова («Как можно? Парень, глядишь, утонул, может, повесился – мало ли какое несчастье могло стрястись»), отправил, стыдясь и досадуя на себя тоже, что люди из его экипажа могут так думать, делать такие поспешные выводы. Но следом за Измайловым, наверное, столкнувшись с ним на трапе, явился старпом и доложил, что отсутствует не один Левашов. Нет еще матроса Жогова.
Это круто меняло дело. Правда, по инерции осторожности в выводах Полетаев пытался и тут дать понять, что ему не нужны панические донесения, но Реут, оказывается, был точен: показал ключ, которым заперт ныне опечатанный, без выходного платья, рундук Жогова.
Консул внимательно щурил глаза, сидя на диване в уголке. Тогда-то и сказал:
– Вот вам и опять, капитан, удобно... Я здесь...
Полетаев только глянул на него: не до юмора.
– В донесении я все напишу. А если они сбежали, что мне полагается делать? Такое в моей практике впервые.
Но его тоже голыми руками не возьмешь, консула.
– Так ведь прежде надо решить, капитан, сбежали ли они. Вы чувствуете, как это звучит на юридическом языке? То-то!.. Кто эти ребята?
Кто? Действительно, кто они? В судовой роли – имя, отчество, фамилия. Видишь их на мостике, в рубке, они выполняют команды, на собранном тобой совещании слушают, глядя внимательно или равнодушно тебе в глаза. Ну еще доложат: болен или повздорил с боцманом, тоже как-никак подробность биографии. А вообще, по-настоящему?
В первую ночь после случившегося Полетаев думал о погибшем Щербине – вот так же, стремясь постичь, что его самого связывало с этим человеком. Служба, общее дело – несомненно. Но ведь это пока палуба под ногами, пока ты – матрос, я – капитан. А на земле? Даже не на земле, а когда ты в море, лежишь на койке и чувствуешь себя не моряком, а просто человеком, когда забываешь, что умеешь и что должен делать, просто дышишь, ощущаешь, что у тебя есть руки, ноги и бьется сердце, пропуская без устали сквозь себя теплую ж и в у ю кровь... как тут?
Ах, сколько раз вспомнил в ту ночь Полетаев о Вере! Это ведь благодаря ей был для него Щербина, лежащий в самодельном, обтянутом кумачом гробу, не просто матросом, идеально выполнявшим его распоряжения и распоряжения других, подвластных ему, капитану, людей. Вычерчивая схемы, пересчитывая в десятый раз формулы, Полетаев содрогнулся внутренне оттого, что с нелепой, случайной смертью Щербины исчезло в небытие что-то из его жизни – дорогое, невосполнимое. И следом за горестным чувством утраты нарастало другое – понятого, наконец, чего-то чрезвычайно важного, чего он еще не определял для себя как главную, пожалуй, истину.
Ему открылось, что бремя его ответственности значительно больше, чем он представлял себе раньше, – больше ответственности и так достаточно солидной – за судно, груз и экипаж, их сохранность и благоденствие. Что рядом с этой ответственностью есть другая, не менее солидная и столь же обязательная – ощущать людей, подвластных тебе, как часть твоей собственной жизни. Это трудно ощущать так. Потому что тогда обязан делать больше, чем делаешь, чем ты способен. Трудно – и надо.
Как капитану, трезвому, расчетливому человеку, ему, возможно, не следовало брать на судно Щербину. Но он взял. Потому что в эту минуту, сам того не ведая, был больше, чем капитан. И тут ночью в Калэме – тоже больше, тоже ответственней. И не комиссия из пароходства, не расследование беспокоили его, а Вера. Что же ответить ей, если она спросит: «Как же вы не уберегли его?»
Торопились? Да... И по формулам выходит все правильно. Туда ведь, в формулы, не подставишь как столько-то килограммов силы, столько-то миллиметров диаметра троса теплую кровь сердца Щербины.
А эти двое – Жогов и Левашов? Вера про них не спросит. Только консул. Выстрелом в десятку, в самую суть: «Кто эти ребята?» Он не знал только, консул, что Полетаев тотчас же добавил, развил про себя вопрос: «Кто эти ребята тебе, капитан?»
«Жогов. Вежливо-улыбчивый, щуплый. Виртуоз, когда стоял у штурвала. Лоцманы пели ему дифирамбы, говорили, на сто проведенных судов – один такой. Американцам он лихо отвечал на команды: «Ие-ес, сэр-р!» Ему не нужно было переводить самые сложные приказания, даже старинный счет румбов, которого придерживались краснолицые старички из Беркли, Олимпии и Виктории. А что еще? Что... Нет, черт возьми, что-то должно быть еще. Ну ладно...
Левашов. История в Петропавловске, когда надавил лед и он, будучи на вахте, не усмотрел за якорями. Реут его наказал, своей властью наказал, излишне строго... Фу, опять Реут. О ком же речь? Но, может, это наказание – причина. Обида и все такое? Нет, пожалуй, давно было, зарубцевалось, да и вот, вот главное: герой той аварии – с разломом. За такое ордена бы надо давать. Он и Маторин там были... Маторин. И он же достаивал вахту. Не это ли связь? В чем? Друзья, живут в одной каюте. Но ведь Маторин и доложил вахтенному штурману, что Левашова нет. Буксир? Буксир, на который так прилежно указывал Измайлов? Но и там был с Маториным вместе; тут уж какое-то пристрастие предсудкома чувствуется... А что же, что еще? Да, говорили, он влюблен в Алферову. Это скорее всего первая любовь у парня, и ему, кажется, несладко. Так. Любовь. Первая любовь. От нее не бегают, ее выпрашивают, стоя на коленях...»
Полетаев даже усмехнулся чуть-чуть: анализу мало помогали собственные впечатления молодости. «А Вера? – продолжал думать он. – Вера сказала: «Возьмите его к себе на пароход». Знал ли Щербина? Думал ли об этом, был ли благодарен? Эх, разве в том дело! Он, Полетаев, знал – вот главное, тут все, тут самое важное. А что же было с этими двумя? Совместные рейсы, авария. И ведь разговаривали не раз. Он помнит, как белозубо смеется Левашов – Сергей Левашов. Если бы тогда в Петропавловске навалились на танкер, дело могло бы кончиться судом. Определенно могло бы... И он, капитан, даже решил, что все возьмет на себя – неправильно выбранная якорная стоянка. Но это «если бы». А так, по существу? Нет, не поставишь себя сейчас на их место, не решишь ничего. Поздно.
И он еще больше раздосадовался на себя, больше, чем вернувшись с прогулки на повернутый другим бортом к причалу пароход. Ушло то ночное чувство, когда он вдруг ощутил себя по-новому – гораздо более сильным. Теперь его наполняла только твердая расчетливость, какая приходила в самые сложные минуты жизни, хотя сложного, собственно, сейчас ничего не было. Просто Жогов и Левашов в эту минуту перестали существовать для него как личности, люди с тысячами причин, заставлявших их поступать так или иначе. Они являлись просто матросами, которым надлежало находиться на борту и которых теперь не было. И он сказал консулу, четко произнося слова:
– Вы спросили, кто эти ребята. Ничего особенного за ними раньше не примечалось. Но сейчас их исчезновение я вынужден юридически квалифицировать как попытку изменить Родине. И в качестве лица, ответственного за экипаж и судно, прошу вас немедленно принять меры к их розыску и скорейшему возвращению.
– Решительно! – отметил консул, помолчав. Он приложил палец к губам, и брови его задумчиво поползли кверху. – Решительно сказано. Я согласен с вами, капитан. Но тут есть маленькая деталь...
– Какая?
– Среди наших союзников могут найтись такие, что подучат этих молодцов просить политического убежища. Или они, черт бы их забрал, сами задумали такое. И им пойдут навстречу.
– А как же измена, бегство за границу? Преступление должно быть наказано. На то есть наш закон.
– Наш! – Брови консула возвратились на свое обычное место. – Наш закон здесь не действует. Тут охотно сделают вид, что в бегстве нет никакого преступления. Их бы еще остановила кража: скажем, если бы беглецы прихватили с собой что-нибудь с судна – ценности там какие-нибудь или что. Тогда бы сказали: да, это преступление, наказывайте, как там по вашим законам...
– Понимаю. – Полетаев кивнул, мрачнея. – Я распоряжусь, чтобы проверили.
– Да, пожалуй. На всякий случай. А я пойду перезвонюсь кое с кем по телефону.
Консул говорил спокойно, неторопливо и так же неторопливо вышел из капитанской каюты, но в иллюминатор Полетаев увидел его другим – он почти бежал, огибая склад, ступая в лужи; полы его расстегнутого плаща разлетались, будто крылья. И Полетаев понял, что консулу тоже несладко, может быть, труднее, чем ему, капитану. Он наверняка уже тридцать раз проклял и тот прием, где они встретились, и ту минуту, когда предложил совершить совместную прогулку. Ему, консулу, куда лучше было бы сидеть сейчас у себя в кабинете, ждать донесений от посланного в Калэму помощника и вообще не знать, не видеть в глаза невезучего капитана «Гюго», словно бы специально выделенного судьбой испытать все крайности, от разлома судна до бегства – двух! – матросов в чужую, капиталистическую страну.
Полетаеву то и дело докладывали результаты осмотра всех мест, откуда могло исчезнуть что-нибудь стоящее.
Через некоторое время консул воротился с причала. Спокойно, уселся в кресло, сдвинул на затылок мокрую, потемневшую от дождя шляпу.
– О’кэй. Поговорил. Сначала с местным деятелем. Спросил, не было ли замечено что поблизости...
– Ну?
– Сказали, нет, ничего. Тогда я обратился с заявлением повыше. Вот что у них, у чертей, здорово, так это телефоны! Из этой будки на причале – мигом и куда хочешь, хоть в Вашингтон, хоть самому господу богу... А у вас какие новости?
– Мне доложили, что никакой пропажи не обнаружено. Это частичный, правда, осмотр, сейчас опрашивают команду, но я уверен, что результата никакого не будет. Сейф в порядке, судовая касса цела, и ключ у меня. – Полетаев похлопал себя по карману. – Вряд ли они прихватили посуду из столовой!
– Ну уж вы очень налегаете, Яков Александрович. Я ведь так сказал про кражу, для примера.
Полетаев отметил про себя это первое за сутки обращение по имени и отчеству и подумал, что кривая консульского настроения, видимо, пошла вверх. Собственно, так и должно быть. Судя по всему, он, консул, был абсолютно уверен в американской полиции, в том, что она найдет беглецов. Его заботила только неясная пока с точки зрения его службы возможность водворения их на пароход. А в целом это означало, что все идет к концу для него, консула. Он ведь помашет с причала шляпой и уедет, как только станет не нужен здесь. При желании может даже потом вычеркнуть случившееся из памяти, во всяком случае, тревога на судне не станет для него чем-то таким, что повлияет на его дальнейшую работу в здешних краях, а главное, ему не нужно будет решать потом, почему же все-таки покинули пароход двое матросов и что с ними делать дальше. Это удел его, Полетаева.
И, подумав так, Полетаев, сам того не замечая, встал и заходил по каюте – прямой, с бледным хмурым лицом.
Вот тогда и изрек консул спокойным, с л у ж е б н ы м голосом, развалясь в кресле: «Вы не волнуйтесь, капитан. Обойдется!» Добавил, что похоронные машины придут вовремя, высказал надежду обнаружить беглецов.
И Полетаев подумал, что, может, действительно не стоит слишком беспокоиться? Как консул, как тысячи людей там вон, на берегу, за сизой завесой дождя – в своих домах, конторах, автомобилях. Что им за дело до парохода, странно нареченного именем великого француза! Почему Гюго? Зачем Гюго?
В дверь постучали. Третий помощник Тягин доложил, что согласно опросу команды и проверке никаких пропаж на судне не обнаружено, даже все вещи Жогова, кроме выходного платья, на месте, а Левашов – так тот сбежал в рабочем; матросы, живущие с ним, утверждают, что все в наличности, до последнего галстука.
Кстати, сообщил Тягин, старпом опечатал и рундук Левашова.
– Хорошо. Вы свободны, – сказал Полетаев и, отвернувшись, почувствовал, что помощник не уходит, даже не взялся за ручку двери. – Что у вас еще?
– Я хотел, – потупился Тягин, – мне необходимо доложить... Помните, во Владивостоке к нам следователь приходил? Насчет пропажи НЗ из шлюпки на «Чукотке»?
– Да, помню.
– Ну вот... Он, следователь, искал, кто у нас на берег сходил, в тот день, когда... это самое, НЗ исчез. По приметам выяснял...
– Так что, что?
– У следователя наш радист и Жогов подошли. Похоже были одеты, как тот, что с «Чукотки»... Следователь, правда, сказал, что и на «Каменец-Подольске» тоже несколько подошло, я еще подумал, вроде форма, как все одеваются...
– Говорите яснее!
– Сейчас, сейчас. Понимаете, я рассказал Жогову про следователя. На вахте однажды рассказал, что следователь приходил, искал того, кто на «Чукотке» орудовал. Ну а теперь Жогов сбежал. И я подумал: может, вправду Жогов в эту кражу из шлюпок замешан? И Левашов. Испугались, что разыскивают, и сбежали.
– А почему вы раньше молчали?
– Сам не знаю. Вот недавно наши шлюпки осматривали, и я вспомнил.
Тягин мялся у двери, никак не мог уйти, хотя Полетаев снова сказал, что он свободен. Казалось, третий помощник готов выдержать любое наказание за свое легкомыслие – все лучше, чем уйти раскаявшимся, но непрощенным.
– Ну вот вам, Яков Александрович, и причина. Что-то нехорошее за вашими беглецами.
Это консул сказал, уже когда помощник наконец ушел. Полетаев хотел ответить, что факт, сообщенный Тягиным, нечем подтвердить здесь, в Америке, но не успел. На ходу, вышагивая по каюте, он увидел в иллюминаторе блестящую, как рояль, черную машину возле пакгауза и дальше, на пологом спуске, тоже черный старомодный автобус. Даже на таком далеком расстоянии было видно, как мечутся на лобовом стекле, разгоняя воду, «дворники». Словно автобус торопливо утирал слезы.
Гроб понесли сквозь молчаливую тесноту, люди как бы нехотя расступились, и Полетаеву, поддерживавшему передний угол, показалось, что они не хотят расставаться с Щербиной даже мертвым.
Дальше вышло трудней – в наружном коридоре невозможно было развернуться, да еще приходилось переступать через высокий порог. Красный кумач еле выплыл за стойки второй палубы, в тесное пространство возле причальных свай. Руки, поддерживавшие гроб, путались, плечи сталкивались, и еще хуже стало, когда коридор кончился, – его почти наглухо запирала черная стена паровозного тендера с угрюмо торчащим, чуть поржавелым буфером. И опять Полетаев подумал, что Щербину все держит здесь, не хочет с ним расставаться – даже узость коридора и странный палубный груз, ради установки которого так неистово выполнял свою последнюю работу этот парень.
Уже начался прилив, но «Гюго» еще низко сидел в воде, ниже причала, и никак не выходило приподнять гроб на метр, наверное, ни у кого не хватало роста, но потом каким-то чудом, каким-то неуловимым совместным движением двух десятков рук тяжелую ношу подали кверху, и ее тотчас же, снова непонятно как, не качнув, подхватили другие руки, и кумач воспарил, застыл как бы в невесомости над палубой, теперь уже навсегда расставшись с нею.
Полетаев встал на кнехт, пачкая рукав плаща о тированный, жирный трос, переступил на лесенку, прикрепленную к паровозному тендеру, и, перебрав торопливо ступеньки, перескочил на деревянный, скользкий от пропитавшей его за ночь и утро воды причальный настил. Ему уступили место, и он опять встал впереди, поддерживая острый, давящий книзу угол, и только тогда ощутил, что идет дождь, и лицо его мокро, и губы сами собой ловят пресные капли. И тут же подумал, еще не сделав первого шага, что гроб раскрыт и косые полосы, значит, хлещут по лицу и е г о, и хотя это обычай – нельзя опустить крышку, – но это плохо, нельзя так.
Губы по-прежнему жадно ловили дождевые капли, и казалось, что ничего нельзя сказать, но он все же выдавил низким, изменившимся голосом слово-сигнал, чтобы идти, чтобы всем разом, в ногу. И тотчас, словно разбуженный его капитанской командой, оглушающе заревел пароходный гудок. Сначала хрипло, будто отдувался, выплевывал пар, но это всего мгновение, потом басовый звук мощно набрал силу и, не теряя тона, поплыл, грустью затапливая округу. Полетаев чувствовал, как все его тело содрогается от протяжного звука, как холодеет спина и в ушах колко звенит: он поначалу не понял, отчего это – гудок, и рассердился, потому что не приказывал никому, чтобы был гудок, – распорядился кто-то другой, за него. Но сразу подумал, что хорошо – прощальный гудок, как пароход пароходу, и хотя нет такого обычая, но это хорошо.
Гудок пропел трижды, умолкая на четкие две секунды, и за это время они дошагали до черной машины. Кто-то дал Полетаеву его фуражку, и он машинально взял ее и стоял в раздумье, словно бы соображая, что с ней делать, раз надевать все равно не нужно.
И опять поначалу неясный, неузнаваемый, появился рядом консул, взял за локоть, отвел к углу склада, подальше от столпившихся возле похоронной машины людей.
– Меня только что вызывали к телефону в портовую дежурку, капитан. Представьте себе, они нашлись, ваши матросики. Звонили из полицейского участка Медоу-Хейтс, милях в тридцати отсюда. Они там. Вы уж увольте меня от кладбища. Ладно? Я лучше помчусь туда.








