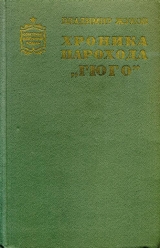
Текст книги "Хроника парохода «Гюго»"
Автор книги: Владимир Жуков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
Месяц простояли в ремонте. Много ли это, мало, чтобы забыть, какое оно, море, когда тянется кругом, насколько хватает взгляда? И вот уже остался позади Лох-Ю, порт, куда заходили поджидать, пока соберется караван английских, канадских, американских транспортов, чтобы сообща под охраной двигаться через кишащий субмаринами океан. И не в Архангельск – на запад.
Днем с мостика возникает странная, но захватывающая картина: не очень ровными, а все же колоннами идет целая эскадра, семьдесят два судна. И довольно близко друг к другу, спокойно с виду, величаво. Только вскоре стало известно, что уже не семьдесят два парохода в колоннах, а на четыре меньше. Отстали, потерялись, а потом безответный «SOS» – эсминцев охранения на всех не хватит. Вот и пялят глаза кочегары на манометры, вот и лелеют каждый подшипник машинисты, вот и строги по-особому механики на главных постах. Обороты, даешь обороты, как велено, чтобы удержаться в колонне!
– Устала?
Это капитан. Остановился рядом с Алей, посмотрел из-за плеча на бледный кружок компаса – как там на румбе? А сам вот-вот повалится с ног.
– Вы бы отдохнули, Степан Тихонович.
– Спасибо, милая, что заботишься. Только нельзя мне. Вот станешь сама капитаном – поймешь.
Она? Капитаном? Аля зажмурилась на секунду. А что? Капитаном. Первый курс института – это почти половина мореходки, той, что дает обычно штурманам диплом дальнего плавания. Можно доучиться. Но не в этом, в сущности, дело. На месте она, на своем, прочном – вот что главное. «Ради Бориса начала, нет ли, – сказала себе, – неважно теперь. Мое, собственное».
А впереди были еще долгие мили до берега и такие же ночи, непроглядные вдвойне – по глухому мраку и неясной судьбе.
В Нью-Йорке, когда направились кучкой в тесные, затопленные автомобилями улицы, Славик, кочегар, придержал Алю за локоть.
– Ну как, отошла? Нам, знаешь, в машине что, – ни фига не видно, вот и не думаешь. Вам наверху трудней. Да ты молодцом, все говорят, молодцом!
Он хотел идти дальше, держа ее под руку, но Аля вывернулась, сердито повела плечом. Не понравилось, как смотрел Владислав: говорил вроде про одно, а думал про другое – как бы покороче отношения наладить. Сухо ответила:
– Чего там – молодцом... Как и все.
По карте выходило просто: вот Архангельск, исходный пункт; потом Атлантика, Панамский канал. Аля повела пальцем на север – вот Портланд, штат Орегон, США; ну, а теперь влево – куда? – через Алеутские острова, мимо Командоров, теперь на юг... справа Камчатка, слева Курилы, Охотским морем и дальше – пролив Лаперуза; так, так и вот сюда, – СССР, Вла-ди-восток. Еще десять тысяч километров, и кругосветка бы получилась!
«Вернусь в Ленинград, – подумала она, – и будет у меня кругосветка. А пока, выходит, – дальневосточница...»
Аля понимала: «Турлес» нужен на новом месте, иначе бы не стали гнать его в такую даль, и она здесь нужна. Но все равно было трудно, когда вспоминала свой город, блокадный теперь, когда читала в газетах про Сталинград. Казалось, мало, ох как мало возит грузов ее пароход. Только как сделаешь больше?
И в каютах разговоры – о том же. Может, слова другие, у ребят на словах все иначе выходит, чем у нее.
– ...А ты, кореш, станешь дома рассказывать, какая дорожка тебе в жизни привалила, океанская, – и не поверят. Магеллан! Молчи уж. Знай и молчи. Как памятник самому себе.
– Х-ха, памятник! Это точно. Памятник несбывшимся надеждам.
– Почему – несбывшимся? Сбывшимся. Мне семь лет еле-еле исполнилось, когда из дома смылся. В моряки. Через час на вокзале поймали. Валенки у меня с собой были и пугач – на металлолом выменял. Дед у нас по дворам ходил, за бутылку петушка сладкого давал на палочке, а за три крана медных, водопроводных – пугач. У нас в доме ни одного крана не осталось, все к черту посворачивали, деду этому. Зато бахали – пугачи-то. Ого-го!
– То-то тебя к пушке определили, пугач. Вон по какой линии мечты, оказывается, сбывшиеся.
– Нет уж, дудки, моряк я, а не артиллерист. Настрелялся за кругосветку. На штурмана буду учиться.
– Давай, давай, пойду к тебе под начало, когда старпомом станешь. Ты меня по блату от вахт ночных освободишь. Спа-а-ать буду, как люди нормальные на бережку, по пятьсот минут без перерыва!
– А слышали, братцы, капитана-то нашего к ордену представили. Что довел «Турушку» до родного и близкого Дальнего Востока. Ой, что-то нравится мне здесь! Страсть. Боюсь, на всю жизнь останусь. Прощай, Пенза, родная, где меня на вокзале из бегов перехватили да не удержали. Рыбу подамся на Камчатку ловить.
– Крабов, крабов давай. Экспортный продукт.
– Можно и крабов... А гитарку, гитарку-то зачем уносите? Эй, слышь-ка, не надо! Споем сейчас, душу повеселим. Помнишь Алексея? Знатный машинист был.
Спит деревушка... где-то старушка
Ждет не дождется сынка-а...
Сердцу не спится, старые спицы
Тихо дрожат в руках.
– Э-эх! Кому что.
– А сводку знаете? Тяжелые бои в Сталинграде. Надо же, до самой Волги доперли.
– Обломится! Дай-ка я прикурю... Вспомни, как пластырь в Баренцевом море заводили. Дырища в борту какая! А ничего, живем...
– Вот именно. Ты слушай да дело свое молчком твори, Магеллан. Памятник несбывшимся надеждам.
Ветер уныло гудит в трубе,
Тихо мурлычет кот в избе.
Спи, успокойся, шалью накройся,
Сын твой вернется к тебе...
– Наверное, в полярку пойдем, а, братцы? Северным путем? Тут, в порту, сказывали, в полярку пароходы уходят, в Архангельск.
– Видал, по мамке соскучился, домой захотел!
– Трески ему, трески на обед. У них, у поморов: «Трешшочки не поешь – не поработаш».
– В Архангельск! А чего повезешь туда? В Америку еще надо сбегать, чтобы в Архангельск идти.
– А мне в здешних краях нравится! Ох, боюсь, останусь я во Владивостоке. Золотой Рог, представляешь, бухта называется, потом – Улисс, Диомид. Во названия! Для романтических людей земля эта предназначена.
– Да уж не чета твоей Пензе.
– Ладно, ладно, ты Пензу не трогай! У нее своя гордость.
– Кончай спор, морские волки, гитару давай, что ж замолчал! Одесскую свою, слышь, Одессу давай вспомним, чтобы недолго ей в оккупации оставаться:
На свете есть такой народ,
Что даром слез не льет.
Всегда играет и поет
Счастливый тот народ.
Кого вы ни спросите,
Ответят: «Одесситы!»
Одесса-мама, чудный город м-о-й...
– Ну, разом!
Ой, Одесса, жемчужина у моря,
Ой, Одесса, ты терпишь много горя,
Ой, Одесса, чудесный, милый край,
Цвети, Одесса, рас-цве-тай!
Отплавали туманное лето, злую ветреную осень, одолели зиму, морозную, загнавшую ртуть в термометрах на самый низ. И все это время Алю ждали, подстерегали, ощупывали глаза Владислава. А то вдруг загородят коридор его широкие плечи, не пройдешь. Просила – не слушает, пробовала не замечать – не помогает.
Потому и не удивилась, когда вошла однажды к себе в каюту и увидела кочегара: сидит на скамейке.
– Полчаса жду, – миролюбиво сказал Владислав. – Находился в стороне от тебя, время пришло, чтобы рядом. Ты, я думаю, сама поняла – некуда тебе деваться.
– От тебя?
– Ну да. Никого к себе не подпускаешь. Думал, может, жених есть. Письма твои смотрел. По конвертам – все мать пишет. Одна ты... А девушке как одной? Природа должна взять свое.
– Так это природа. При чем же ты?
– А я и есть природа...
– Слушай, – перебила Аля, – а если я сейчас кого-нибудь позову? Как думаешь, что будет?
– Ничего не будет. Хоть самого капитана зови. Скажу, что иголку с ниткой зашел попросить. Факт.
– А что гадости говоришь, не чувствуешь?
– Природа... – ухмыльнулся Владислав.
Как Аля не успела отскочить? Тяжелая рука коснулась ее щеки, скользнула по волосам, другая вцепилась в плечо.
– П-пусти! – Она оттолкнула его, больно ударилась о койку.
Коридор. Трап. Еще один. Запыхавшись, постучала к капитану.
– Степан Тихонович... – Аля хотела сказать про Владислава, но вышло другое: – Степан Тихонович, я слышала, как придем в порт, в Америку, так кое-кого из команды будут переводить на другие суда. Прошу включить меня. Непременно.
– Тебя? Может, что случилось?
– Нет. – Аля легонько куснула губу. – Я просто так, чтоб вы потом не забыли. Я очень прошу.
На секунду промелькнуло: а как же «Турлес», как же без него? Но только на секунду, тотчас вернулось прежнее: «С н и м вместе на одном пароходе больше не могу».
А капитан неожиданно согласился:
– Что ж, видно, пора тебе. Поплавай на другом судне. Жалко, конечно, привык я к тебе. Но ты поплавай, тебе опыта морского набираться нужно. Обещаю перевести.
Вот и получилось: прости-прощай, «Турлес», кругосветная каравелла. Разбомбленная, обгорелая, обстрелянная, обсмотренная в цейсовские перископы. В Сан-Франциско Аля перешла на новенький «Виктор Гюго». Одна. Остальным списанным с «Турлеса» достался другой «Либерти».
Команда еще вполовине, что могли насобирать с других судов. Остальных, говорят, дадут во Владивостоке. Ребята ничего, приветливые. И штурманы, механики ничего, внушают доверие. Капитан – тот сразу и откровенно понравился – большой, спокойный, уверенный в себе. Да, уверенный, это у него на лице написано. Может, передастся чуток его уверенности? Аля об этом думала, когда беседовала с ним, – он каждого, кто приходил на пароход, приглашал к себе в каюту, выспрашивал, откуда да что.
Аля, правда, не очень распространялась, рассказ ее больше походил на заполнение анкеты, но капитан, Полетаев этот, Яков Александрович,, не досаждал особенно вопросами. Ему, видно, что-то еще было нужно, кроме биографии. Вдруг спросил: «А как вам Нью-Йорк показался?» Она ответила: «Ничего, большой». «Так что мир уже повидали?» – спросил Полетаев. Она сказала: «Ага, повидала. Не такой уж он большой, мир-то, оказывается». И засмеялась. Полетаев тоже засмеялся. Нет, он ничего, новый капитан.
А старпом другой, совсем другой. Посмотрел молча и отвернулся. И так вот, не глядя, сообщил, что жить она будет в отдельной каюте – есть на ботдеке каюта. «Хоспитал» выведено по-английски над дверью, на металлической планке (тут, на «Гюго», все надписи по-английски).
Так вот она – пустая каюта с двумя койками, одна над другой, и здесь Але жить. Немного неловко перед ребятами, матрос ведь она, ей положено обитать внизу, вместе с командой. Но раз старпом велит, пусть так и будет. Они хозяева на пароходах, старпомы.
С утра встала на работу. Боцман Стрельчук и знакомиться толком не стал: бери скребок, сурик, лезь на подвеску, раз назначена. На подвеску так на подвеску, не привыкать к матросской работе. Чудно только – суричить борт нового парохода. Впрочем, может, и надо. Месяц «Либерти» этому, американскому, а уж сквозь серый его с голубым наряд проступила рыжая ржавчинка.
Аля мерно взмахивала кистью, стоя лицом к гладкому, в ровных швах борту, и вдруг услышала с причала крик:
– Братцы, а ведь у нас баба появилась!
Чистый асфальт, во всю стотридцатиметровую длину парохода пустота. И посередине фигура – шляпа серая, макинтош серый и галстук желто-зеленым попугайчиком. Худой этот человек, тощий прямо, да как зычно у него вышло: «Баба!» – с радостью или изумлением, но все равно. «Баба появилась» – это от чего с «Турлеса» ушла. На Владислава похоже. Неужто и тут такой есть? Теперь-то куда бежать?
Потому и смелость, наверное, появилась, что решила: некуда: Гордо стояла на узкой доске, держась за трос, словно циркачка. И ответила громко, как он:
– Чего орешь? За границей все-таки!
Матросы на соседних подвесках одобрительно засмеялись, а тот, с желто-зеленым галстуком, молча ступил на трап и исчез.
Вот и легко стало. Вот и домом Аля зовет уже не «Турлес», а «Гюго». И ребята здесь тоже ничего, даже тот, что орал с причала, – старший рулевой Федя Жогов, Разве что старпом Реут. С ним как-то пошло по-особенному, волю хочет свою показать в отдельности ей, Алевтине Алферовой. Ну да ничего!
А письма по-прежнему только от мамы, и мили бегут за кормой те же, что и последние два года, – долгие-долгие, пока приведут к своим берегам.
Что поделаешь, Аля – матрос, и страсть у нее одна – море.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Веселый человек в цилиндре, в длинноносых башмаках подмигивал и взмахом руки показывал куда-то вниз. Контуры его, составленные из электрических лампочек, то в дело меняли цвет, становились то лиловыми, то желтыми, то вдруг наполовину зелеными, а потом целиком красными. А рядом – в вышине – еще лампы, непрерывные, сплетенные в буквы нитки неона, тоже разноцветного, и гулкая ярмарочная музыка, и шарканье шагов, и голоса, и смех. Сияющий, цветастый, не затихающий до ночи Луна-парк на краю Такомы, штат Вашингтон, США.
Аля засмеялась тихо, одними губами и посмотрела вбок, на шагающего рядом Левашова – высокого, гибкого, потом обернулась на мистера Кинга, на его полную, такую же, как он сам, жену и худеньких, голенастых дочерей, выстроившихся по ранжиру: старшая Джилл – студентка, младшие – двойняшки Пегги и Кандис; всего с матерью – семь. В свою машину Кинг посадил только ее, Алю, и Левашова и гнал сюда, в парк, точно хотел заработать приз за скорость езды, остальные добирались как-то иначе.
– Другой сосед, – сказал мистер Кинг, поймав Алин взгляд, и поправился: – Другой машина мой сосед везет мой семья, – и засмеялся, радуясь удачно сказанной по-русски фразе.
У него были уже и входные билеты на всех, и Аля подумала, удобно ли, что платит он, мистер Кинг, и еще про то, что неизвестно, сколько стоит билет, а у нее осталось всего два доллара, а у Левашова, наверное, и десяти центов не сыщешь – потратился, конечно, до мелкой монетки на первый свой американский гардероб. Она в который уж раз ироническим взглядом обвела фигуру соотечественника: палевый, цвета крем-брюле, костюм в мелкую клетку и голубая рубашка, из-под воротника которой выпирал огромный, «ленинградский» узел черного, похоронного, галстука. Все здешнее, из такомских магазинов, а за версту отличишь своего!
Она подумала так, когда еще только вылетела к трапу, злясь, что именно ее настиг старпомов приказ: «Прошу переодеться. Поедете с Левашовым в гости к американцу». Он всегда, что ли, будет ее выделять, Реут? Даже не спросила, к какому американцу, зачем и почему с Левашовым, с этим мальчишкой из палубных учеников. Бухнула первое попавшееся, что у нее на эту стоянку в запасе есть еще один выходной и она его собирается потратить более разумно. Но старпом сказал: «Вам это не зачтется как выходной». И ушел. Нечего было делать, она вышла к трапу – ехать. Внизу, на причале, увидела палево-голубого Левашова рядом с толстячком в пропотелой шляпе, с черной коробкой ленчбокса под мышкой.
Она отказалась сесть на переднее сиденье – туда влез расфранченный Левашов – и, сидя сзади, в одиночестве, невольно слушала довольно бойкую русско-английскую болтовню. Когда миновали главные улицы и бегущее от порта стадо автомобилей несколько поредело, когда вдоль дороги замелькали отличимые друг от друга лишь по цвету домики на ровных лужайках, ей уже стало понятно, что хозяин машины – лебедчик, нагружает «Гюго», ярый противник нацизма, восторгается героизмом советского народа и учит из солидарности русский язык. А так как русский по сложности не идет ни в какое сравнение с другими известными мистеру Кингу языками и овладеть им самостоятельно по учебнику совершенно невозможно, он, мистер Кинг, вот уже третий день использует в качестве репетитора Левашова, и тот ему так нравится, что сегодня он, мистер Кинг, отправился к капитану Полетаеву и попросил разрешить Левашову побыть у него, мистера Кинга, в гостях. Но поскольку у русских не принято ходить в гости поодиночке (это разъяснил чиф мейт, старший помощник капитана Полетаева), мистер Кинг рад принять у себя дома и мисс Алферову.
Вот, значит, как. Занятно! Аля и не заметила, что включилась в беседу сидевших впереди, и совсем отошла, подобрела, когда машина подкатила к белому домику и по асфальтовой дорожке заспешила навстречу приветливая миссис Кинг, а следом все ее многочисленные дочери – начиная со старшей Джилл, студентки, и кончая двойняшками Пегги и Кандис.
Не заметила Аля и как оказалась в просторной кухне, а потом в комнатах, затененных ситцевыми занавесками, с низкими широкими кроватями, с куклами, аккуратно рассаженными на них, с тонконогими столиками, солидными комодами и шкафами. Все говорили разом, и она говорила, вернее, приговаривала одно и то же: «прелестно», «хорошо», «да», «конечно», а потом вернулись в кухню, и Аля сама вызвалась сбивать клубничный крем к торту, который миссис Кинг готовилась поместить в духовку.
Джилл стояла рядом и покровительственно улыбалась сквозь очки, а Пегги и Кандис причмокивали от удовольствия, будто уже пробовали пухлый, издающий чистый запах ванили торт.
Откуда-то поблизости, наверно из большой комнаты рядом, донеслась музыка, и Аля прислушалась удивленно:
И кто его знает,
Чего он морга-а-ает!
Чего он морга-а-ает...
Такома, штат Вашингтон, хор Пятницкого! И тотчас Аля вспомнила Левашова. Улыбнулась всем американкам сразу, шагнула за дверь.
В той, другой комнате было сумеречно от нависших над окном веток, только изумрудно светился глазок радиолы. Мистер Кинг, уже снявший комбинезон, в костюме и галстуке, тая от удовольствия, менял пластинки. Следом за «Калинкой» завертелась «Вдоль по улице метелица метет», потом «Распрягайте, хлопцы, коней» и снова: «Поморгает мне глазами и не скажет ничего-о-о!»
Левашов, улучив минутку, шепнул ей:
– Как это он еще свое семейство в сарафаны и кокошники не вырядил! Тут где-то церковь православная есть, километрах в ста, так он туда ездил – посмотреть.
– Глупости говоришь, – отрезала Аля. – Нравится – и пусть. И ты радуйся, наше нравится. Пусть их больше таких будет, Кингов.
Она говорила тоже шепотом, опасаясь, что хозяин услышит ее с Левашовым разговор, но странно – Левашов как раз этого и не боялся. Не успела она умолкнуть, как он, обращаясь к толстяку, почти дословно перевел на английский ее слова, словно бы продолжая давний спор.
Аля еще раньше заметила, что Левашов знает английских слов ненамного больше ее, но так изобретательно использует их, не очень заботясь о складности речи и произношении, что со стороны могло показаться, будто он вполне прилично владеет английским. Вот и теперь разошелся, начал втолковывать американцу, что тот делает непростительную ошибку, находя причины фантастической стойкости русских в борьбе против гитлеровцев лишь в неповторимой, мистической их любви к своей беспредельной земле, к своим избам, самоварам и балалайкам. А между тем, объяснял Левашов, есть еще другой патриотизм. В нем-то и секрет. Ибо Зоя Космодемьянская, капитан Гастелло – летчик, знаете, который направил свой самолет в колонну вражеских автомашин? – вот они и тысячи других наших героев защищали и защищают с о в е т с к у ю землю, с в о и заводы и фабрики.
«Прямо как лектор какой-то говорит, – с досадой заключила Аля. Получалось, что не она сопровождает этого мальчишку в «заграничные гости», а, скорее, он ее. – Странно, я и не замечала его среди других ребят...»
И вдруг вежливо молчавший мистер Кинг вскочил, затараторил, что Левашов не прав, что он опять за свое: хочет все на свете объяснить экономическим детерминизмом. Но это не так, он, мистер Кинг, уважает марксизм, но нельзя же все сводить к экономике! Людьми движут и силы иного, духовного, порядка: жажда свободы, например, ненависть к угнетению. Разве они ничего не весят на чашах весов войны?
– Допустим. – Левашов иронически улыбнулся. – Но тогда объясните мне, почему же помощь вашей страны моей называется «ленд-лиз»? Взаймы или в аренду? Уж тогда бы все безвозмездно, в духовном, так сказать, смысле, раз у нас ненависть к нацизму общая.
Тарабарщина из русских и английских слов получалась несусветная, но Кинг, видимо, уловил смысл сказанного и заволновался еще пуще, быстрее забегал по комнате. Аля решила, что пора прекратить этот внезапный, никем не предусмотренный спор.
– Хватит, – сказала она. – Хватит, Сергей...
И тут же поймала себя на мысли, что удовлетворена словами Левашова, что и сама, случись, заявила бы то же самое, хоть и сильно задело американца сказанное. Кто же виноват? Вот ведь и дом у Кинга, и машина, и кухня с белым, точно брусок льда, холодильником, а за всем этим, крути не крути, – война. На ней все нажито, потому что работы лебедчику хоть отбавляй. Срочная, сверхурочная, такая, сякая. Вполне материальный получается тут, в Америке, результат духовных устремлений...
В комнату неожиданно ворвалась женская часть семьи Кингов. Настал черед пирога с клубничным кремом и какого-то ледяного питья в высоких запотелых стаканах, шума, и смеха, и тесноты на диване. И Аля была уже не в кресле, а среди девчонок – справа Пегги, слева Кандис. А может, и наоборот. И Джилл, студентка, ласково, покровительственно смотрит сквозь стекла под блестящими дужками.
Еще веселее стало, когда собрались ехать в Луна-парк. Судя по всему, сюрприз был запланирован мистером Кингом не только для русских, но и для всех остальных.
Аля показала на часы, тихо спросила Левашова:
– Не поздно будет?
– Мне нет. Но вы решайте.
«Решайте...» Она даже обиделась немного, вспомнив в парке эти слова. Смотрела, как оранжевые башмаки Левашова, покачиваясь, будто в воде, распухают в кривом зеркале, ширятся, точно два огромных помидора, растущих на глазах, и над ними сразу – голубая рубашка с черной полоской галстука, а дальше, дальше – боже! – какой-то розовый тюфяк с пуговицей вместо носа. И еще смеется! А это кто рядом? Неужели она? Фу!
Джилл подтолкнула ее легонько к другому зеркалу. Там они обе вытянулись в два хлыстика, два стебелька с тюльпанчиками-цветками вместо голов.
И на карусели с ней, с Джилл, и мороженое – «айскрим» – тоже из ее рук. Только когда подошли к какому-то навесу с автомобильчиками на желтом латунном полу, мистер Кинг сунул ей отдельно жетон вроде монетки и показал на автомобильчик – тот, что поближе. Потом хрустнуло вверху, запахло так, будто перегорели электропредохранители, – углем, что ли, или жженой резиной, и по автомобильчику с маху ударило сзади, потом бузануло спереди, и ей показалось, что она сейчас вылетит далеко за барьер. Но Аля – удивительно! – осталась на жестком сиденьице, вцепилась руками в крепкий обруч руля. И в секунду покоя в пустое пространство впереди вдруг въехало лицо Левашова – блаженное отчего-то, и голос его донесся сквозь хриплые выкрики джазовых труб: «Педаль. Нажимайте на педаль».
Лицо исчезло. Она нажала. Руль стал свободным, податливым, и машинка поползла вперед, ткнулась несильно в такую же, как она, в мягкий, надетый на машину резиновый обод, и сзади опять стукнуло, но уже не сильно, а потом еще сбоку, и уже вроде бы приятно, во всяком случае, смешно, и опять лицо – его, Левашова, этого мальчишки, у которого все здесь получается лучше, чем у нее.
Где же он? А-а... Он, оказывается, толкнул ее автомобильчик и разворачивается, возвращается к ней. И вот уже вместе заходили кругами, бок о бок, и по какой-то неслышной, только им двоим ведомой команде разъезжались, разнося под хохот и визг сразу пять, шесть других машинок. Голубые искры осыпались на латунный пол, и было немного страшно, чуть-чуть неловко оттого, что у них с Левашовым так здорово выходит, что они оказались королями (или «королевскими»?) на этой арене веселой отваги. Кинги хлопали в ладоши. Прямо овацию устроили, когда они вышли за край барьера. Левашов, галантно нагибаясь, пожимая руки американкам, что-то объяснял – Аля только уловила, что «Гюго», наверное, завтра-послезавтра уйдет.
Джилл держала Алю за руку, быстро говорила, нарушив свой обет молчания, а потом прижалась щекой на секунду, царапнула золотой дужкой очков. И покраснела, даже в разноцветье огней было видно, что покраснела девчонка, и не было в ее взгляде ни обычной иронии, ни спокойствия.
– Она говорит, что завидует вам. Вы поняли? – Это Левашов сказал, опять первым успел. – Джилл говорит, что у них в Америке женщины не бывают ни матросами, ни капитанами, а ей так хотелось бы отправиться сейчас вместе с вами.
И тогда Аля потянулась к Джилл, поцеловала ее и почувствовала, что сама краснеет. Ей ведь еще никто и никогда не завидовал. Никто!
Голубые шары фонарей подлетали к переднему стеклу машины и отскакивали в стороны, замирали вдали – похоже было, их кто-то ловит, развешивает на столбы. Когда подъехали к воротам порта, Кинг обернулся назад, посмотрел грустно.
– Я очень благодарить за этот вечер, – сказал он. – И капитан Полетаев. У русских прекрасный душа. Мы все будем помнить вас... товарищ Алья.
– Правильно! – Левашов подскочил на сиденье. – Не «мадам», а «товарищ». Мои уроки не пропали даром!
Аля и Сергей постояли, пока красные огоньки машины не дрогнули, не двинулись, пока она медленно огибала угол здания, вспыхнув голубым и зеленым от упавшего на нее света рекламы, пока, фыркнув, не пропала за поворотом. И сразу вокруг стало пустынно, тихо.
Измайлов, машинист и председатель судового комитета, мягко ступая, внес свое большое тело в каюту. Негромко спросил, шевеля усами:
– Вернулись? Ну как прошло, благополучно?
Аля, щурясь от яркого света ночника, натянула до подбородка простыню. Ах вот, значит, что. Кроме капитана и старпома этот тоже причастен к береговому походу.
– Трудно было? – все так же приглушенно говорил Измайлов. – Я предлагал, чтобы и третий человек отправился, все бы тебе легче было... Левашов пацан еще. Но ничего, обошлось?
– Обошлось, – сказала Аля.
– А на политические темы разговаривали?
– Разговаривали.
– И как?
– Левашов резко говорил. Без дипломатии.
– Вот видишь, я не зря опасался. Незрелый он еще, первый раз за границей. Но я на тебя надеялся.
– Зрелый он, зрелый, Измайлов. Ты бы его попросил лекцию ребятам прочесть. Про два вида патриотизма, русскую душу и экономический детерминизм. – Аля улыбнулась под простыней, прикрывавшей нижнюю часть лица. – Это он все американцу втолковывал.
– Чего, говоришь, экономический?
– Детерминизм.
– А-а. Так, говоришь, обошлось? Порядок? Ну я пойду, пожалуй.
– Иди, иди, спи спокойно.
Аля погасила ночник. В темноте показалось, что она опять стоит у ворот порта и видит, как удаляется, пылая красными угольками, машина мистера Кинга. Потом ей представился Левашов, шагающий рядом, такой довольный собой. И вдруг захотелось, чтобы он всегда вот так шел рядом. Как лучший друг... Нет... не то. Брат? Да, пожалуй, как младший брат.
Ржавый, исцарапанный борт поднимается из воды. Где-то в глубине парохода тяжело вздыхает донка. Серое небо хмурится и швыряет вниз пригоршни дождевых капель. Два матроса сидят на подвеске, стучат молотками по железу. Ржа сыплется вниз, в воду, забивается в глаза. Тук, тук-тук-тук. Как дятлы. А дождь – редкий, надоедливый и сонный, словно день заболел гриппом. Тук. Тук-тук. Тук.
– А ты, значит, и на паруснике плавала? – говорит Левашов и еще некоторое время стучит молотком, тщательно, по кусочкам очищая железный лист.
– Да, на практике, – отзывается Аля, – перед самой войной. Учебное судно «Омега». Ты его, наверное, в кино видел – «Дети капитана Гранта»; оно там яхту «Дункан» изображало.
– Здорово! И как, трудней на паруснике, чем здесь? – говорит Левашов и показывает молотком вверх, туда, где борт обрывается, где плывут по небу серые рваные тучи.
– Трудно? Везде трудно. Когда... когда себя в руках не держишь. Меня давно, еще в Ленинграде, один человек наставлял: если уж быть матросом, так королевским. Понимаешь?
– Да, да! – радостно восклицает Левашов. – Он прав, тот человек. Я так не думал, но чувствовал почти так же. Я поэтому и уехал из Москвы. Надо найти свой мир, надо, чтобы не за тебя решали, а ты сам. Правда?
Аля смотрит на него, молчит. Он ведь еще не знает, что сам всего не решит. «Что-то общее есть у нас, – думает Аля. – Что-то общее в прошлом – мы не очень рассчитали свои силы, отправляясь в путь».
Она вдруг замечает: глаза у Левашова серые-серые, и, сама не зная почему, пододвигается к нему, и рука ее медленно скользит по гладкой, вымазанной суриком доске.
– Сережа, хочешь, будем вместе заниматься астрономией, навигацией? Я научу тебя всему, что знаю, а потом пойдем дальше и сдадим на штурманов. Экстерном сдадим.
– Ой... Конечно хочу!
А рядом, в полуметре, ржавый, исцарапанный борт поднимается из воды, и где-то в глубине парохода тяжело вздыхает донка. Серое небо по-прежнему хмурится, сея редкий дождь на бухту, в пустые, раскрытые трюмы. Капли дробно шарят по обломкам досок, по ворохам бумаги на пустых твиндеках.
Два матроса снова начинают стучать молотками по железу борта. Тук, тук-тук. Тонкий, дребезжащий звук колокольчика еле пробивается сквозь удары, зовет откуда-то сверху, точно с этого серого, простуженного неба.
Матросы медленно поднимаются по штормтрапу и, вытирая ветошью руки, молча идут по палубе. Обед.








