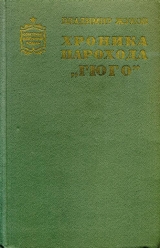
Текст книги "Хроника парохода «Гюго»"
Автор книги: Владимир Жуков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
– Ну что ж, ладно, – сказал Полетаев и мысленно представил на месте Суханова молчаливого второго помощника Клинцова с вечной трубкой в зубах, а потом высокого смуглого Измайлова с густой, как у папуаса, шевелюрой, с твердым басистым выговором. Замена, однако, получилась не совсем в пользу штурмана и машиниста, хоть их было и двое. – Ну что ж, ладно, – повторил Полетаев, как бы примиряясь и с этим.
– Комсомол у вас теперь мощный, – сказал Суханов. – Молодежи вон сколько наприсылали. Они сегодня первое собрание проводят. Парень есть один толковый, Маторин. Палубный ученик, но секретарствовать сможет, к думаю. Посоветовал его избрать. Вам можно не ходить. Измайлов сам все провернет... – Он оборвал фразу и посмотрел вопросительно, словно спрашивая: «Все, кажется?»
– Хорошо, – сказал Полетаев и встал.
– А когда в море, Яков Александрович? – спросил Суханов и тоже поднялся. – Скоро?
– Ты теперь посторонний, – усмехнулся Полетаев. – Посторонним таких секретов знать не положено. А вообще, знаешь, мне здорово будет тебя не хватать.
– И мне вас. Кто знает, доведется ли встретиться!
Они обнялись и троекратно поцеловались. Разжали объятия, покрасневшие, смущенные.
Дверь за Сухановым со стуком затворилась. Полетаев медленно, будто впервые, обвел взглядом каюту – блестящую крышку стола с круглыми медными часами над ней, дверь в спальню, откуда виднелась застеленная пикейным одеялом высокая, как саркофаг, койка с ящиками комода под ней, полка с книгами, перегороженная рейкой-креплением, иллюминатор с зелеными занавесками, диван, на котором только что сидел человек, увидеть которого ему, Полетаеву, быть может, никогда больше не доведется...
Он смотрел на все эти предметы внимательно, широко открытыми глазами, и ему казалось, что теперь, со стуком двери, за которой исчез Суханов, кончается какой-то долгий период в его жизни и начинается новый, возможно, более трудный, чем предыдущий, но сулящий в конце концов что-то нужное не только лично ему, Полетаеву, но и множеству других людей – и тем, кто сейчас в окопах, в танках, самолетах и на кораблях, и тем, кто сидит в кабинетах наркоматов и пароходств, и молчаливому Клинцову, и кучерявому Измайлову, и палубному ученику Маторину, которого сегодня изберут комсоргом.
Он думал так и стоял, озираясь, пока взгляд его не упал на серый конверт с письмом Веры. Написанное там живо возникло в сознании, словно имело непосредственную связь с приходом бывшего помполита, и Полетаев подумал, что, как ни странно, восполнить отсутствие Суханова, взвалить на свои плечи груз его забот ему, капитану, проще, чем решить, как быть с Верой, старпомом и самим собой.
«Забыть все, вот как придется сделать, – сказал он не то письму, звавшему его, не то себе самому. – Произошла авария... Могут же случаться аварии не с судами, а с капитанами, черт побери!»
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Электрик Огородов был прав, когда говорил третьему помощнику, что «Гюго» раньше чем через два дня в море не уйдет. Не ушел он и в следующие два дня. Только на пятый день утром пересек бухту и застыл на швартовых возле угольной эстакады на мысе Чуркин.
Но теперь уже не было на пароходе тишины. То и дело над палубой с грохотом проезжал металлический ковш, и из его пасти обвалом сыпалось в трюм что-то похожее не то на землю, иссушенную суховеями, не то на мелко истолченный бетон. Весила «земля» подозрительно тяжело: судно быстро осело, хотя груза в трюмах набралось не выше человеческого роста. Матросы недоумевали: просыпавшуюся с эстакады пыль не брал голик, приходилось скрести лопатой, но и ту, полную, с трудом поднимали даже самые крепкие ребята.
Погода испортилась. Из низких туч сеялся мелкий, сонливый дождь.
Огородов ходил в фуфайке с высоким воротом, закрывавшим его худую, длинную шею, зябко прятал руки в карманах. Несколько раз за день он появлялся в наружном коридоре и оттуда посмеивался над матросами: в мокрых, блестящих дождевиках они усердно чистили палубу.
– Ну и работенка! Поди, лет двадцать в песочек не играли.
– Тебя бы сюда!
– Лучше вас в сухое место, – не отставал Огородов. – Чего скребете? На хромовую руду вода не действует. Подсушит ветерком, и сметете. Ах, вы не знаете, что хромовую руду в трюмы сыплют? Нехорошо... стратегический материал, между прочим! Хром куда добавляют? В сталь. Такая она вязкая становится от хрома, что ее никакой снаряд не берет. Ждут, поди, не дождутся союзники нашего «Гюго»: у них такой руды маловато...
Он бы еще долго просвещал матросов, да уже слышался топот боцмана и голос, пришептывающий на шипящих:
– Га! Пособирались! Давно ли перекур был? А ну, Зарицкий, Левашов, а ну давайте! Шабашить скоро, а палуба як майдан... Не стыдно, Огородов? Шел бы к себе в машину, нечего народ от дела отвлекать!
Электрик беззвучно смеется, только губы растягивает, а боцман – к матросам.
– Маторин, Рублев, у борта, глядите, что? Что, спрашиваю? А ты, Щербина? – Стрельчук сердито смотрит на матроса, но тот отвечает таким равнодушно-спокойным взглядом, что боцман не задирается, несется дальше.
Боцман как снежок, что катится по талому снегу. Катится и растет, и вот уже не снежок, а ком – собрал, прилепил к себе все, что мог. То голик возьмет, подчистит, то лопату схватит, поскребет, сунет ее матросу и тут же поднимет лючину, двинет, а за ней вторую и других подзовет, и чистая полоса пролегла на палубе, матросы дальше идут, а Стрельчука и след простыл – в другом месте тоже работают, надо проверить, что да как.
Только Щербина не двигается, достает сигарету из пачки, протянутой Огородовым. Они стоят, курят, прислушиваясь к лязганью тележки на эстакаде.
– Ну как тебе здесь? – спрашивает Огородов. – Освоился?
– Ребята на судне вроде ничего, – говорит Щербина. – А дело я не забыл.
– Ты сам устроился или пособил кто?
Огородов выжидательно смотрит на Щербину, но тот молчит. Огородов выставляет руку на дождь и ежится, точно озяб, но по лицу видно, что он просто над чем-то раздумывает.
Он знал Щербину давно, еще до того времени, когда его призвали на военную службу. Огородов работал машинистом на «Илье Муромце», а Щербина пришел на ледокол матросом. Потом они потеряли друг друга из виду. Только перед самой войной во двор дома на Первой Речке, где жил Огородов, вошел однажды краснофлотец в бескозырке набекрень и белой форменке. Был он не один – рядом, опасливо поглядывая на соседские окна, шла Лизка, дочка портового механика, завербовавшегося недавно на Камчатку. Лизе было тогда уже лет семнадцать, но с кавалером она еще на людях не показывалась. В окнах поднимались занавески, женщины, стиравшие возле колонки, разгибали спины, поплыл шепоток: «Ишь девка! Был бы тут отец, небось чужого матроса побоялась бы в дом вести».
Огородов, поглядывая из-за горшков с фуксиями, подумал примерно то же, но минут через пять краснофлотец вышел и закурил у крыльца, спокойно озираясь вокруг, а вскоре появилась и Лиза.
Они ушли и больше вдвоем во дворе не появлялись. Огородов знал: встречаются на пустыре, за домом, куда-то уезжают. Подошел однажды к Щербине, поджидавшему Лизавету, напомнил про себя, про «Илью Муромца» и будто невзначай вставил, что Щербина правильно домой к девке не ходит: честь Лизаветину беречь надо.
Щербина ответил, что в девичьей чести не разбирается, а, в общем, предпочитает, чтобы в его дела поменьше совались. Намек Огородов понял, отстал. Потом ушел в рейс, вернулся, когда уже началась война. С Камчатки прикатила дурная весть: Лизин отец погиб, придавило его кунгасом. А Лизавета сразу после школы устроилась на работу в пароходство машинисткой. Про кавалера ее сказывали, что отправился с морским батальоном на фронт, и жив ли, нет, вроде и сама Лиза не знает. И вдруг новость. Дите у Лизаветы появилось. Это событие взбудоражило весь дом на Первой Речке, о нем долго судачили соседи. Одни жалели Лизу, другие осуждали.
Огородов помалкивал, держал свое мнение при себе. И неожиданно у себя на пароходе нос к носу столкнулся со Щербиной. Был тот не похож на прежнего – помятый, злой, видно, с долгого похмелья. Ни с кем не разговаривал, только когда по делу приходилось, бросал сердитые, обрывистые фразы...
– Значит, сам на «Гюго» устроился, – говорит Огородов, довершая свой прежний вопрос.
– Сам не сам, а устроился, – недовольно отзывается Щербина. – Я, знаешь, сколько из госпиталя добирался? Семнадцать суток. А по городу походил, осмотрелся, и вышло: вроде бы незачем было являться. Корешей с плавбазы, с «Амура», все вспоминал – кто слесарь, кто бондарь. Они бы враз дело подыскали, а я что – матрос. Какая это профессия! И спина болела, нога плохо гнулась, хоть плачь.
– И из друзей никого? – спрашивает Огородов и снова выставляет руку на дождь, словно проверяет, идет ли.
– Ясное дело, – сердится Щербина. – Кто где! Я потому и вдарился к вам на Первую Речку. На Ленинской стоял и поезд увидел. Можно, конечно, трамваем, но я поезд увидел и решил поехать... Я ведь не писал ей, Лизке. Чего, думал, особенного у нас было? Как у всех, всегда.
– А приехал и увидел, что особенного.
– Вроде в гости явился, проведать, а в углу кроватка деревянная, с загородочкой.
– Сам же говоришь – не писал.
– Писал – не писал! – передразнивает Щербина. – А что у нас, любовь была? Гуляли просто. Мало ли парней с девками гуляет?
– Твой ведь в кроватке, – не отстает Огородов.
– «Твой»! А Лизавета чья?! Я ее сколько не видел. Не смог так... сразу.
– Неужто сбежал? Непохоже на морского пехотинца.
– На всю морскую пехоту чего валить! Мне одному думать полагалось. Целый день во дворе сидел, изобретал.
– Долго. До Первой Речки езды полчаса.
– Да я уж и решил... поехал, а она, вишь, не пустила, Лизавета. Сказала: раз писем не писал, раз в первый день не признал, видеть меня не хочет.
– Гордая, – качает головой Огородов. – Ты это заметь себе.
– Я тоже не мальчик. Еще проверить следует, с кем она тут... без меня. Доказать надо!
– Доказать? Да малец – ты вылитый. Поглядеть не догадался?
– Догадался! – Щербина вплотную приближает лицо к Огородову и дышит тяжело, срываясь. – Догадался я в кадры сперва наведаться, разузнать, кто я такой теперь. А там здоровые нужны, да еще механики, радисты. Образованные! С моими-то бумагами только на баржу, водоливом, зад греть у железной печки!.. Как быть? А тут повестка вдруг пришла, и, вишь, к вам направили.
– Непонятно, – отзывается Огородов. – В загранку месяц оформляют. Маловато у тебя времени было... Так на Первую Речку больше не наведывался?
Ответа нет. Они молчат, курят. Мимо пробегает боцман, сердито ворчит. Щербина бросает окурок за борт, сплевывает.
– Я еще в тыловую жизнь не обмакнулся. Огляжусь, пока не женатый.
ГЛАВА ПЯТАЯ
ЛЕВАШОВ
Олег был в трусах, только что из душа. Глядя на него, невольно думалось, как приятно отдохнуть после работы.
– Пойдешь тальманить, – сказал он и, пригнувшись, уставился в зеркало, прикрепленное к дверце шкафа.
– Тальманить? – переспросил я и покраснел. Ужасно: я не знал, что означает это слово.
Многие заметили, что я хорошо разбираюсь в пароходном хозяйстве, а Олег даже похвалил за начитанность. Мы теперь жили в одной каюте – что-то перераспределяли, перетасовывали в команде, Щербина ушел к матросам первого класса, и мы с Зарицким оказались вместе. Правда, Маторин и Никола тоже были тут, но присутствие Олега искупало все. И вот – надо же! – я выглядел вроде других новичков.
– А... что такое «тальманить»?
– Стропы считать. Сколько в трюм опустили. Не пыльное занятие.
– И долго?
– Всю ночь.
– Но я же целый день работал. Спать-то когда?
– Теперь и ложись. Маторин, между прочим, час как на трюме. Тоже с утра вкалывал. Впрочем, спроси боцмана, может, передумает. Это он велел передать.
Без четверти двенадцать меня разбудили. Понуро, не стряхнув сна, я побрел к первому трюму. Маторин, спокойно поджидавший смену, сунул мне листок, исписанный черточками и цифрами, потом стянул шубу с белым цигейковым воротником:
– Надень, зябко.
Было действительно холодно. От воды, невидимой из-за яркого света прожекторов, тянуло сыростью. Клубы пара, вырываясь из лебедок, низко плавали в неподвижном воздухе.
– И вот еще обувка, – сказал Маторин. – Знатная! Боцман дал.
Он расшнуровал и ловко стянул высокие, как сапоги, ботинки, напялил на свои широкие лапы мои заношенные штиблеты и дал последнее указание:
– За люстрами смотри. Одна гаснет, зараза, контакт плохой.
Он ушел. Путаясь в длинных шнурках, я долго прилаживал странные, не иначе как американские ботинки, потом спешно, стараясь не забыть, поставил на листе, который дал Маторин, четыре косых черточки, означавших первые за мою смену стропы.
– Мех, – сказал лебедчик в брезентовом дождевике. – Мех в тюках. Легкий.
– Да, – согласился я и только после этого заметил, как просто расправляются грузчики с тюками из грубой серой мешковины. Авторитетно продолжил: – То же золото по цене. За ленд-лиз расплачиваемся.
– За что? – переспросил лебедчик.
– По-английски «ленд» значит «одалживать», «лиз» – «сдавать в аренду». По договору американцы нам вооружение в долг дают. Провизию, пароходы. Вот и везем им мех.
Внизу, в трюме, пять или шесть дядек – пожилых, один даже с мужицкой, словно из давних лет, бородой – молчаливо раздергивали сетку с тюками. Я знал, что это нестроевые мобилизованные, встречался с такими, когда ездил с Океанской в порт на разгрузку. Тогда вид этих кое-как одетых, исхудалых людей не очень бросался в глаза – их положение было сродни моему. Но теперь, когда я малость подкормился на пароходе, когда расхаживал в прочных, как у альпинистов, ботинках и легкой цигейковой шубе, мне стало жаль работавших в трюме, и я мысленно посочувствовал им – их трудному, монотонному быту в каком-нибудь бараке за городом, странному положению призванных как бы в армию, но не солдат в форме и с оружием, оторванных от дома, от привычных деревенских забот и ежедневно, без выходных, ворочающих тяжелые ящики, бочки, мешки, которыми набиты пароходы...
Я пропустил несколько стропов и записал их наобум. Но тут стук лебедок оборвался, грузчики полезли наверх.
Оказывается, настал обеденный перерыв. Вернее, просто перерыв, потому что еды у грузчиков никакой не было. Они уселись в кружок на лючины, достали кисеты, бумагу и по очереди поклонились красной тлеющей точке трута. В воздухе потянуло густым махорочным запахом. Но им все-таки хотелось есть, я услышал, как бородатый, откашлявшись, сказал:
– А не худо бы тушенку грузить заместо мехов. Глянь, и разбился ящик какой, поели бы.
– Хо-хо! – загалдели вокруг. – А счет банкам? Известно, сколько в ящике. Сиди!
Я подошел ближе.
– Может, товарищ моряк американской сигареткой угостит? – спросил бородач, тот, что вспомнил про тушенку.
– Сигареты? – замешкался я. – С удовольствием, да вот... не курю.
Я соврал. Я считал себя прочно, на всю жизнь курящим уже целую неделю. Правда, сигарет у меня своих не было. Тем, кто пришел на пароход до начала рейса, их не выдавали, хотя по морфлотовскому пайку пачка полагалась ежедневно.
Не было своих, но я закуривал у кого придется. Мог и теперь сбегать к вахтенному краснофлотцу у трапа. Да ведь принес бы одну сигарету, выпрошенную вроде для себя, а тут желающих на десяток.
– Не курю, – повторил я и для вящей убедительности развел руками.
– Жалко, – сказал бородатый. – Баловство, конечно, эти сигаретки, но аккуратные больно, и дух приятный, ровно ладаном курят.
– А что, – спросил лебедчик, – дороги сигареты в Америке?
– Двадцать пять центов.
Цены я знал: на пароходе не раз рассказывали в подробностях, что за океаном почем.
– И без карточек, в достатке торгуют?
– В каждом ларьке.
– Не растрясло, стало быть, американцев, – уточнил бородатый. – Легко им!
– Да ить и они воюют, голова, – вставил его сосед. – В газетке постоянно печатают.
– В газетке! Какая ж им война, когда они на краю света живут.
– Стойте вы! – приказал лебедчик. – Я лучше спрошу, много ли это – двадцать пять центов, которые за пачку сигарет. Чего еще наторговать можно?
Вопрос меня напугал, но тотчас обрывки слышанного в общежитии, на барахолке, на владивостокских улицах, на пароходе стали удобно склеиваться в мыслях во вроде бы увиденное, пережитое. А грузчики смотрели доверчиво, с интересом ждали подробностей незнакомой им жизни. Ведь с отголосками ее они волею войны вынуждены были ежедневно сталкиваться: выгружать, ворочать ящики, исписанные словами непонятного языка.
– Костюм, пусть скажет, сколько костюм! Выходной, тройка!
– Погоди, хлеб почем? И это – сало, во сколько ящик ценят?
– Хорошо, сало! Пускай про сало объяснит!
Я не знал, кому отвечать. Но тут лебедчик потянулся и шлепнул рукой по высокому голенищу моих шнурованных ботинок.
– А за эти вот сколько отдали?
– За ботинки? – Я прикидывал, вспоминал. Говорили, что рабочие ботинки можно купить долларов за пять, только надо учесть, что эти высокие, как сапоги. – Девять долларов, – сказал я, – да, девять.
– А одеваются как? – не унимался лебедчик. – Вот рабочие по порту, к примеру, как мы?
– Да как? – отбивался я. – В робе. Видели: на пароходах ходят, синяя? Джинсы, комбинезоны, куртки, шляпы.
– В шляпах ходят? – загалдели грузчики.
– И портовые?
– Все, – подтвердил я. – Даже на работе, на погрузке носят.
– Хо! Хо-хо-хо! – Смех затряс сидящую передо мной компанию.
– В шляпах, слыхал!
– Загнул, так и отрежь!
– Матроса ить хлебом не корми, а загнуть дай!
– Дай и не дыши!
– Видал – в шляпе на разгрузке. Тросточку, тросточку забыл!
– Да нет же, – оправдывался я. – В шляпах ходят. И грузчики. Чего ж тут такого?
– И верно, ничего, – неожиданно согласился лебедчик. – Наработали себе американцы. Мы кровушку льем второй год, а они ящики шлют, откупаются. – Он поднял руку и обвел видимое впереди пространство: бухту, склады на том берегу, пароходы в огнях, стоящие у причалов друг за дружкой, словно в очереди. – Так можно и в шляпах.
– Все одно форсу много, – пробурчал бородатый.
– Чего нам судить! У каждого народа свой фасон. Товарищ моряк врать не станет, сам видел...
Я собирался поддакнуть, подтвердить слова лебедчика и вдруг заметил Маторина. Он стоял в тени мачты, сразу его было не разглядеть, и казалось, что Сашка торчит здесь давно, может, с тех пор, как сдал мне свое тальманство.
– Слышь, – сказал он громко, похоже специально громко, чтобы слышали грузчики. – Я забыл передать про счет. Утром отдашь второму помощнику. Клинцов фамилия...
– А ты чего не спишь?
– Так, с часовым у трапа заболтался. Понял про счет? Отдай. И можешь отдыхать. Но сначала шубу повесь в рулевой, увидишь, где другие висят. А ботинки снеси боцману в каюту. Понял? Под койку положи. Сопрут еще, он боится, а вещь казенная!
Теперь Маторин виделся нерезко, как бы не в фокусе, зато четко, до последней морщинки обозначилось лицо лебедчика и рядом – бородача-грузчика.
– Ка-азенные! – удивился бородатый.
– Говорил тебе, – засмеялся другой, – матроса хлебом не корми, а загнуть дай. Вокруг пальца обвел.
Я не знал, куда деться. Совсем как в тот день, когда Маторин обозвал «агитатором», понес на руках к складу. Вокруг тоже смеялись. Но тогда я чувствовал обиду, а теперь вину. Будто не по праву пришел на трюм считать стропы.
– Про шляпы помнишь? – гудели вокруг. – Потеха: грузчики в шляпах!
И вот что странно: смех и разочарование моих доверчивых слушателей не очень задевали. Заботило другое – слышал ли Маторин, как я расписывал неведомую мне еще Америку, слышал ли он, мой бывший бригадир?
ГЛАВА ШЕСТАЯ
В полдень «Виктор Гюго» отошел от причала и проследовал на внешний рейд. Здесь, на просторе, судно заходило взад и вперед, словно бы для того, чтобы поразмяться после долгой стоянки. То, развив полный ход, двигалось в сторону бухты Диомид, то забирало левее и, развернувшись, шло обратно, то вдруг тяжелый нос катился к выходу в море, и казалось, что оно удаляется, больше не вернется в порт, но Федор Жогов, матрос, стоявший на верхнем мостике у штурвала, перекладывал руль, и пароход круто поворачивал, возвращался на траверз Сигнальной сопки.
К компасу то и дело подходил человек в морской фуражке и кителе с нашивками. Склонялся к пеленгатору, проверял, точно ли по створу идет «Гюго», и, убедившись, что точно, садился на корточки и что-то подвинчивал в тумбе, на которой стоял компас. Затем спускался в рулевую рубку, начинал колдовать у другого, путевого, компаса и снова возвращался на мостик.
Это был девиатор. Его специальность – сколь возможно сократить влияние судового железа на чуткие картушки магнитных компасов, которым скоро предстояло показывать, где норд, где вест, всю дальнюю дорогу через океан.
По тому, как уверенно брал девиатор пеленги, как громко, почти весело бросал команды Жогову, чувствовалось, что дело свое он знает хорошо. Выглядел вот только непривычно со своими нашивками – на «Гюго», как и на других судах дальнего плавания, нашивок никто не носил, а в фуражках с «крабами» ходили только капитан и штурманы. И потому Жогов, когда девиатор приближался к нему, всякий раз усмехался.
В строгом великолепии полной морской формы девиатора, берегового человека, Федор Жогов видел наивную заносчивость: мол, тут, на пароходе, вы многое себе позволяете, а все потому, что в загранку ходите. У самого Жогова на голове красовалась брезентовая, довольно поношенная, но аккуратно заломленная панама; в треугольном вырезе форменки военного образца вместо тельняшки виднелся клетчатый, заправленный внутрь шарф, а брюки с наутюженными стрелками были заправлены в носки, точно рулевой перед тем, как его позвали на мостик, собирался прокатиться на лыжах.
Третий помощник Тягин, маленький, щуплый, в глухо застегнутом кителе и без фуражки, послушно бродил за девиатором, хотя тот, в сущности, отказался от его суетливой помощи, доверил только запись поправок. По традиционному разделению обязанностей между помощниками капитана Тягину принадлежала роль хозяина навигационного имущества – карт, лагов, компасов, лоций, уход за хронометрами. И то, что приходится играть столь скромную роль сейчас, когда дело касалось его хозяйства, сердило и обижало Тягина.
Наконец девиатор сказал: «Все» – и вытащил из кармана папиросу. Тягин, стараясь хоть в чем-нибудь проявить себя, обратился к капитану за разрешением о постановке на якорь. Удостоенный кивком, он по-мальчишески звонко крикнул в мегафон: «Боцмана на брашпиль!» – и кинулся вниз, в штурманскую, взять отсчет глубины по эхолоту. Появился опять, уже в фуражке, лихо доложил. Полетаев спокойно вздохнул: «Действуйте», и Тягин понесся к тумбе машинного телеграфа.
Пригнувшись и чуть привстав на цыпочки, третий перевел медные рукоятки. Телеграф громко зазвенел, стрелка дрогнула и замерла возле написанного по-английски
«Стоп».
– Отдать якорь! Три смычки в воду! – повторил Тягин в мегафон команду капитана и прильнул к переднему обвесу мостика.
С высоты надстройки было хорошо видно, как Стрельчук, мотаясь из стороны в сторону, быстро отворачивал стопор на брашпиле. Гул машины, всплески воды от винта уже смолкли, слышалось только ровное журчание у бортов. Но вдруг и этот звук поглотил другой, грохочущий и одновременно звенящий: в клюз пошла якорная цепь. «Гюго» продвинулся еще немного вперед и начал медленно разворачиваться, уже по ветру.
Тягин гордо взглянул на Полетаева. Взгляд третьего помощника требовал похвал, молил о признании, но капитан не обращал на него внимания: так и надо, как еще?
Мостик опустел.
Понурый, Тягин побрел к компасу, взял несколько пеленгов, чтобы отметить в вахтенном журнале якорное место.
– Все равно, – бормотал он, прицеливаясь на обрыв дальнего мыса, – все равно... Вот увидите, чего я стою...
Боцман Стрельчук сидел на койке и жадно курил, переживая события дня. Вернее, одно событие, сильно взволновавшее его. И даже не событие, если разобраться, а так, бестолочь, которой и духу на судне не должно быть.
Ведь что получилось. Шел боцман по палубе и поглядывал на ботдек. А поглядывал потому, что там красили, заканчивалась старпомова затея сделать «Гюго» не таким мрачным, каким его спустили с американского стапеля. Был пароход темно-серый, под осеннюю тучу, а теперь, хоть и тоже шаровый, как положено по законам военного времени, но светленький, такой светленький, что еще чуть-чуть – и на довоенного «пассажира» станет похож. Краску старпом заказывал, а уже пожиже цвет дать – его, Стрельчука, специальность. Сладил! Несколько бочек смешал, а повсюду как из одной, чистая боцманская работа.
На трап ступил, поднялся. Стена наполовину готова, хорошо. А рядом подвески свалены, концы клубком, и на них матросы, назначенные красить, сидят. Уж и дымков нет, скурили сигаретки. Задал вопрос: почему перекур затянулся? Оказывается, высчитали, что работы на час, а там полчаса до ужина останется, ничего другого не успеть, так какая разница, сейчас полчаса извести или потом. Естественно, возразил; ну, раскипятился немного. Может, чего лишнего сказал? Нет, вроде ничего...
И тут взрывается до сих пор молчавшая Алферова. Истинным образом взрывается, вроде гранаты, вскакивает и начинает орать... Ну, может, не орать, точнее, громко говорить. «Ты, – заявила, – боцман, запомни, что мы не рабы и слушаем тебя не потому, что глупее или не можем сами найти, где что делать. Слушаем потому, что во всяком деле нужен распорядитель, командир. Вот ты и командуй, а не шпыняй нас по мелочам. Дал урок и скройся, а не выполним – накажи. Нам судно не меньше твоего дорого».
Вот чего бабий язык намолол. Ей бы и ответить, Алферовой, мол, ученого не учат: Стрельчук на море столько, сколько и ее жизни девичьей не прошло. А лучше бы отрезать: в старину – да что в старину, почитай, до самой войны – не очень женский пол на палубу приглашали. Примета дурная, да и факт налицо: не пароход, а одесский привоз получается, базар...
И зря он всего этого не высказал в лицо Алферовой. Чтобы знала свое место. Старпому, что ль, теперь пожаловаться? Н-да... Теперь выйдет, не на нее жалуешься – на себя.
Сколько уж он лет боцманит, разные над ним старпомы властвовали, а вот такого, как здешний Реут, не попадалось. Когда встретились в Сан-Франциско, когда присмотрелся к нему боцман, старпом даже понравился. Лихо дело знает и к цели железно идет. Стрельчук сам бы таким старпомом был, если бы не написано ему на роду боцманом до гробовой доски плавать. А вот отношения не склеивались. И не то что с поблажкой какой – обыкновенные. Выговоров серьезных Реут вроде не делал, за промахи не корил, а подойдет Стрельчук к старпомовой двери, постучать соберется – и ноги слабеют, и пот на лбу. Что за оказия? Ведь по делу пришел и полста честно прожил, а состояние такое, будто шкода за тобой водится... Оттого, наверное, и суетлив стал и покрикивать начал на матросов поболе, чем требуется. Реут, он ведь слов не тратит, приходится за него добавлять.
В мыслях Стрельчука снова возник ботдек, матрос Алферова со сжатыми кулачками...
Отчего он растерялся? А оттого, что Реут появился в самом дерзком месте алферовской речи. Из-за него и слов не нашлось, чтобы достойно ответить настырной девчонке. А старпом будто его и не заметил, Стрельчука, и вообще никого не заметил. Только сказал: «Алферова, зайдите после работы ко мне». Сказал и ушел, точнее – провалился, потому что он всегда возникает неожиданно и так же исчезает.
И стало вдруг всем скучно и неловко. Напрасно вышла катавасия и перебранка. Один Щербина ухмылялся, довольный. Первым и взял конец подвески, стал ее прилаживать.
«Щербина – черт с ним, – подумал Стрельчук, – а вот Алферову я зажму; как пить дать зажму, узнает, каково на боцмана кидаться...»
Подумал и сказал себе, что не это, однако, главное. Чего уж Алферова со старпомом балакала – их дело. Но почему Реут ему, Стрельчуку, ничего не сказал про случившееся, никакой оценки строгим его действиям не дал? Ведь небось слышал все. А явился боцман к нему на вечерний доклад – и только «да», «нет», дела на завтра распределили, и можешь топать вниз, сидеть на койке хоть до утра.
«Чисто слуга какой, – мучался Стрельчук. – Чисто тебе, кроме краски и якорей, ни о чем думать не положено. Вот закавыка!»
Реут знал, что Алферова вот-вот войдет, и был готов встретить ее, спокойно стоя у иллюминатора, будто разглядывая что-то за стеклом, и слова, которые предстояло сказать, сложились еще на ботдеке, во время ее ссоры с боцманом. Все продумал заранее, но, когда вошел в каюту, хотел повесить фуражку, заметил, что красный морфлотовский флажок в завитках «краба» ослаб, чуть покривился, и он сел за стол, принялся поправлять, сердясь, что сразу не получается, даже воротник и верхнюю пуговицу на кителе расстегнул, чтобы стало удобнее, чтобы поскорее справиться с флажком и водрузить фуражку на крюк.
И тогда-то в дверь постучали. Если бы еще секунда, если бы довелось сказать, помолчав, «войдите», он бы и встал и успел застегнуть пуговицу, даже воротник. А дверь не подождала, распахнулась следом за стуком, и они застыли друг против друга: Алферова – лишь переступив высокий порог, а он – сидя в кресле, с фуражкой в одной руке и перочинным ножиком в другой.
– Вы меня вызывали, – сказала она тоном как бы сразу и вопроса и утверждения.
– Да... – Он наконец догадался положить фуражку и встать. Освободившаяся рука шарила по округлой и гладкой спинке опустевшего кресла. – Да, я вызывал. Входите, пожалуйста...
«Боже, что я говорю», – ругнул он себя и увидел, что она улыбается – еле-еле, одними глазами. Заметила замешательство и улыбается.
Но это было недолго – улыбка, мгновение всего; просто странно, как быстро глаза ее, светлые и умные, стали сердитыми, почти злыми.
– Насколько я понимаю, вы собираетесь объявить мне не благодарность, а выговор. В таком случае я лучше постою здесь.
Он уже успел застегнуть пуговицу на кителе и даже шаг сделал назад, к углу диванчика, в то место, где должен был встретить ее, только фуражка в палевом чехле напоминала о его оплошности. Пусть. Он не смотрел на фуражку, он стал тем Реутом, каким был всегда.
– Вы ошиблись, – сказал он. – Я только собирался спросить: зачем вы пришли на пароход?
Если глаза не обманули и она действительно умная, то ей полагалось удивиться, услышав его слова. Удивиться, но не показать этого.
Так и случилось.
– Вы имеете в виду, что я женщина – и матрос? – непринужденно спросила Алферова. – По-моему, это легко понять. В газетах столько написано про девушек-санитарок, радисток, летчиц. Я читала даже о ставших танкистами...
– Здесь не фронт! – оборвал он. – Здесь не фронт, и я говорил не об этом!









