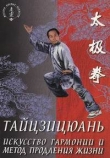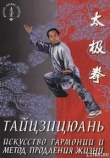Текст книги "ТАЙЦЗИЦЮАНЬ:Классические тексты Принципы Мастерство"
Автор книги: Владимир Малявин
Жанр:
Спорт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 41 страниц)
«Отсутствующее – оно же присутствующее. Когда я занимаюсь кулачным искусством, ничего нет. Но когда начинается схватка, там, где случается контакт, тут же появляется «присутствующее». Присутствующее – оно же отсутствующее. Когда я исполняю разные формы применения силы, я стремлюсь к «присутствующему»… В конце концов и в момент применения тайцзицюань ничего нет, так что присутствующее – оно же отсутствующее» 1.
В конечном счете реальное в даосской традиции – это просто неисчерпаемая конкретность опыта прежде длительности и протяженности, и перед ней равно реальны и нереальны как метафизические идеи, так и предметный мир. А потому нет ничего более таинственного, чем спон-
1Ван Юнцюань шоу ян-ши тайцзицюань юйлу цзи цюаньчжао, с. 13.
танность и, следовательно, обыденность самой жизни. В трактате Би Куня сообщается:
«Необычное прячется в обычном, обычное входит в необычное. Удивительное исходит из обыденного, утонченность исходит из простодушия…»
Этот мир в его неисчерпаемой конкретности, безусловной (за)данно-сти есть не собрание вещей, а поток эфемерных переживаний, бездна мгновений-вспышек, подобных фейерверку или звездному узору неба. Невозможно зафиксировать, разделить на части действие «изначального всеединства»:
"В пределе всего является ослепительный свет, и следы человека исчезают. Тело стремительно летит, и меч витает неуследимо. Порой, повинуясь безудержной воле, уносишься за тысячи ли. Порой покойно сидишь в четырех стенах, духом чуя непоколебимую искренность…»
Мир непрерывно возвращается к своей таковости – одновременно протобытию самоскрывающегося всеединства и чистой явленности мира вещей, пусть даже эта явленность есть не более, чем «обманчивый образ». Здесь вся загадка китайской любви к непритязательности и вся тайна китайского повествования, где фантастика рядится в одежды повседневности и повседневность дышит фантастикой, где главным чудом оказывается просто – если это просто – «жизнь, как она есть». Если мир вокруг нас – это только «обманчивые образы», его можно с легким сердцем оставить. Но куда мы уйдем?…
Мы можем теперь лучше понять особенности языка китайской традиции и, в частности, значение ее фольклорного наследия со всеми его легендами, анекдотами, песнями, изречениями, афоризмами. Во всех своих проявлениях – это язык иносказания, сообщающий о полной непосредственности чувства. Считалось, что в школах боевых искусств, как и в других областях традиционной практики, знание передается посредством «сердечной встречи» ученика и учителя, а для этого потребно слово, сказанное «к месту и ко времени», слово текучее, переменчивое, растворяющееся в потоке жизни. Естественно, подобные наставления были, как правило, ориентированы на слуховое восприятие и имели вид рифмованных строф и поговорок. Это обстоятельство стало причиной многих разночтений, невольной, а нередко вольной путаницы терминов, всевозможных недоразумений в письменных текстах и устных преданиях.
Роль устной речи в традиции особенно примечательна, ведь эта по природе своей интимная, требующая импровизации речь всего полнее и достовернее воспроизводит творческую работу духа, самое состояние открытости «вечноотсутствующей истине», в котором говорят как бы «наугад», изрекают вещее, еще не получившее фиксированного значения слово. Даже оговорки и недоразумения, без которых не бывает живого устного слова, по-своему убедительно свидетельствуют о природе реальности как творческого события.
Слово «с секретом» надо отгадывать. Традиция потому и жива, что еще не сказала своего «последнего слова». Ведь в устной и особенно диалогической речи слово в его привычном словарном значении изменяет себе, устраняет себя и так указывает на саму суть Пути – всеобщее самопревращение. Такова природа исконной литературной среды традиции – афоризмов, поговорок, анекдотов, т.е. литературных форм, которые очерчивают собственную границу, преодолевают себя. Между живой, пронизанной иронией и юмором беседой и рассуждением о Пути есть прямая преемственность в том, что сами понятия в китайской философии вечного становления призваны уводить за собственные пределы. Уже семантически природа основных категорий китайской мысли – «пустота», «забытье», «сокрытие» и проч. – есть именно самоизменчивость: пустота, чтобы быть собой до конца, должна опустошиться, забытье – забыться, сокрытие – сокрыться и т.д. Вот и в сознании, согласно постулатам китайской традиции, «не должно быть сознавания».
Правда предается преданию и предается преданием, которое предается себе и… передает правду.
И вот китайские учителя, говоря одно, не могут не подразумевать и другого, даже обратного. Оттого и всеединство Великого Пути несводимо к общим определениям, но дается только в частностях, в соскальзывании смысла в нюансы опыта, единичные «случаи», где внезапно сходится несходное.
Речь не просто о словесном экспериментаторстве. Язык традиции, как мы увидим, очень точно, даже методически точно описывает определенную реальность, о которой современный человек имеет в лучшем случае смутное представление. Я называю эту реальность символической, потому что она доступна только символическому выражению, все предваряет, предвосхищает, но предстает зеркально-перевернутым образом всего сущего. Покой является символом движения, семя – символом плода.
Лава бытия, марево жизни, выраженные в изменчивых понятиях и стихии устной речи, не лишены определенной структуры, некоего символического строя, подобного музыке самой природы, и этот порядок запечатлен, помимо прочего, в лаконичных письменных заповедях, которые, по сути, ничего не разъясняют и не излагают, ни от кого не исходят и ни к кому конкретно не обращены, а лишь напоминают о качествах опыта, постигаемых в практике школы. Если устная речь подобна бескрайнему бурному потоку, увлекающему сознание в неведомую будущность, то письменные заповеди традиции – кристаллы духовного опыта, выпавшие на дно этого потока и отсвечивающие вечностью.
Есть еще один непременный атрибут духовного подвижничества в Китае – генеалогия школы, где указаны имена учителей и их учеников. Об огромной, даже исключительной значимости родословного древа в китайской традиции уже говорилось. Этот лапидарный, можно сказать, сугубо деловой документ удостоверяет преемствование духовного Пути в череде поколений. Что может человеческий ум прибавить к великому событию вечнопреемствования бодрствующего сердца? Что может он «уразуметь» в нем? Родословная – это летопись чистых событий, совершенно лишенная «идейного содержания», какой бы то ни было литературности. Это книга чистой практики, предмет которой есть, говоря словами древнего комментария к «Книге Перемен», «то, чем люди каждый день пользуются, а о том не ведают». Так в «Книге Перемен» определяется реальность Великого Пути. И с полным на то основанием: о пути, как уже говорилось, нельзя составить отвлеченного знания – его можно только пройти. Пройти сквозь пространство и время.
В китайской традиции боевых искусств это предпочтение практики перед знанием порой выражается в самых резких формах. Так, современные учителя старинной школы Сливового Цветка (провинция Хэбэй), насколько мне известно, не имеют никаких легенд о происхождении школы и личности ее основателя и даже не рассказывают о каких-либо памятных событиях из ее истории. Судя по опубликованным материалам – еще довольно-таки скудным – о других «народных» школах Северного Китая, этот пример далеко не единичен.
Что ж, такое положение дел можно прокомментировать старинной поговоркой китайских учителей:
«Оперная ария – на устах, кулачное искусство – на руках».
Извечное сосуществование, соположенность письменного и устного слова в школах боевых искусств получает более четкое оформление в универсальной для всех традиций иерархии словесных жанров: есть канон и есть комментарии к нему (как правило, имеются еще и субкомментарии). В свою очередь эта иерархия есть параллель двуединства телесной и духовной жизни, внутреннего и внешнего в нашем личном существовании. Другими словами, двуединство канона и комментариев воспроизводит структуру человеческого опыта.
Китайская традиция в особенности настаивает на взаимопроникновении внутреннего и внешнего измерений бытия. Она утверждает, что мудрость и всякий частный опыт, сознание просветленное и обыденное не едины и едины, не смешиваются – и друг в друге пребывают. Учитель, конечно, – не ученик; он непостижим для ученика, он – хранитель таинства. Он, как говорят старые учителя ушу, «и сидит, и говорит, и держится не так, как обыкновенные люди». Но учитель живет, говоря словами древнего даосского речения, «погребенным среди людей»; ничто человеческое ему не чуждо – даже привычка к курению (многие мастера боевых искусств как раз не прочь покурить). А впрочем, что значит внешнее для того, кто живет внутренним?
Теперь мы можем лучше понять и некоторые особенности практики обучения ушу в Китае, весьма смущающие европейцев. На Западе наука строится на ряде аксиом, которые служат основой для последовательно выводимых умозаключений, и учащийся движется от простого к сложному, имея возможность в любой момент повторить и обосновать свой мысленный путь. В школах ушу обучение начинается с отдельных и часто очень несходных упражнений, как бы очерчивающих некое внутреннее, не-мыслимое пространство жизненной правды, и лишь по прошествии долгого времени к ученику приходит понимание изначальной цельности этого пространства. Понимание чисто интуитивное, неизъяснимое, несущее в себе бесконечную глубину жизненного опыта. Мы имеем дело с движением от фрагмента к целому, или, точнее, открытием целого непосредственно в самом фрагменте.
Поэтому учитель в традиции подвижников Пути отличается от ученика как раз не тем, что он «больше знает». Как сказал родоначальник даосизма Лао-цзы, «тот, кто занимается науками, каждый день приобретает, а тот, кто претворяет Путь, каждый день теряет». Здесь человек может быть учителем потому, что владеет секретом вечнопреемственности просветленной жизни. Разница между учеником и учителем – это разница в перспективе созерцания: ученик смотрит извне, учитель – изнутри.
Что же такое эта «вечнопреемственность просветленной жизни»? Ответа нет. Вернее, он дается, или, что то же самое, за-дан прежде самого вопрошания. Правда сердца предвосхищает и объемлет все сущее. Великая тайна первочеловека, таящегося в глубине нашего опыта и рассеянного в предпосланных сознанию бесчисленных качествах жизни, остается неразгаданной даже для самого знающего подвижника Пути.
Остается сказать вместе с китайскими учителями, что боевые искусства как духовная практика «следуют превращениям Неба и Земли» и сами являются прообразом неисчерпаемого изобилия бытия. В даосской школе Дикого Гуся, по свидетельству ее нынешней главы, столетней Ян Мэйцзюнь, имеется более семидесяти различных комплексов упражнений. В первоначальном комплексе тайцзицюань насчитывалось более 640 моментов «выброса внутренней силы». Незнание же (точнее, неумение правильно исполнить) даже незначительной части комплексов нормативных движений не позволяет ученику стать полноценным учителем кулачного искусства.
Таким образом, реальность в китайской традиции понимается как Одна (в смысле сплошная) Перемена (и хуа).Этим понятием обосновывается органическая преемственность мира и человека в китайской мысли, которая всегда исходила из посылки о том, что человек пребывает в мире, а мир – в человеке.
Речь идет, впрочем, не о субстантивном тождестве того и другого. В континууме Одной Перемены человек и природа претерпевают превращения, преодолевают себя, смыкаются по пределу своего существования. Способ бытия Перемены (неотличимой, кстати, от бесконечного ряда метаморфоз мира) и есть не что иное, как граница, сама предельность существования. Но это граница, которая обусловливает полноту бытия каждой вещи; она равнозначна «таковости», или «самоестественности» (цзы жань)всего сущего.
По той же причине бытие Превращения есть одновременно единое и единичное, принцип единства и принцип множественности. Оно извечно проецирует себя вовне, опознается одновременно как нечто отсутствующее, сокровенное и предельно обнаженное, пребывающее в «тени» и «следе» – явленности без содержания. Оно предвосхищает формы и исчезает даже прежде, чем обретет зримый образ. Оно есть внутренний прообраз виртуальной реальности, бесконечного потока становления, семя жизни, которое неотличимо от предельной полноты жизненных свойств вещей.
В свете философемы Превращения человек и мир, как и все вещи, вовлечены в беспредельный поток перемен; они связаны отношениями не просто подобия, а, так сказать, преображающего взаимодействия, творческой совместности. Качество всегда уникально, и вещи в китайской картине мира никогда не тождественны, но пребывают в «согласии» (хэ).В человеке, согласно философии Перемен, под внешним («человекообразным») обликом пребывает нечто совсем иное – бездонная глубина пустого, покойного, безмолвного, «чуждого человеческим понятиям» Неба, несотворенное не-единство Хаоса. Да, Хаоса, ибо китайская традиция выстроена на онтологии множества и чистого различия, предельной рассеянности, не скрываемых никаким обобщением, никаким трансцендентным принципом.
В начале всего, согласно даосской философии, лежит хаотическое всеединство всего и вся, оно же Беспредельное. Деятельный Человек и вечнотекучий Хаос едины, конечно, не по формальному тождеству, но – в завершенности, внутренней полноте своего бытия, которая есть конкретность действия, полнота событийности сущего. Человек не утверждает себя здесь в своей антропоморфной, гуманитарной реальности. Человек и мир преемственны в общем для них истоке.
Вездесущей средой этого непостижимого, но глубоко интимного взаимодействия человека и мира китайцы считали некий духовно-материальный субстрат всего сущего (обычно он обозначается термином ци).В своем истоке такой антропокосмический субстрат есть именно Единое ци,но, подобно реальности превращения, является также принципом множественности бытия: циесть конкретное качество того или иного жизненного состояния и обладает самыми разными характеристиками. Ци,как и Пустота, и Небо, и само Превращение, принадлежит «внутренней реальности», которая предваряет, предвосхищает всякое бытие (хотя и не противостоит вещам как отдельная метафизическая сущность).
Чтобы понять способ мышления, лежащий в основе практики тайцзицюань, нужно перестать мыслить в привычных нам категориях сущности, идеи, субстанции, формы, а равно логического тождества и различия. Событие утверждает подобие разного и единство бесконечного разнообразия. В его свете все сущее есть одновременно и несущее, «то» и «другое». В мире событийности нет репрезентации: в нем не в чем и нечему выражаться. В нем есть только превращение.
Соответственно, тезис о «единении человеческого и небесного», лежавший в основе китайской традиции, вел к признанию недвойственности явленного и сокрытого, единичного действия и бесконечной действенности, формы и бесформенного. В мире нет одного-единственного «истинного» принципа или порядка, нет общей для всех меры или точки отсчета. И самое творение мира в китайской философии перемен предстает как внесение в бытие все более тонких различий. Человек в традиции – это не предмет, а отношение, сходство несходного, реальность же есть бесконечное саморазличение: время, которое позволяет «временить», и пространство, извечно опространствующееся.
Итак, реальность как Великий Путь есть, по китайским представлениям, неисчислимо малый (но и всеобъятный!) круговорот, в котором все сущее возвращается к себе и удостоверяет себя самим актом превращения. Все есть там, где его нет, или, как сказал Гёте, «все преходящее есть подобие». Мир не просто сложен, но сложен из самого себя и в себя складывается. В свете «утонченного бытия» всего сущего все вещи накладываются друг на друга и каждая из них не просто подразумевает, но реально заключает в себе свою антитезу, свою инаковость. И более всего это присуще самому человеку, что, по китайским понятиям, дает ему действительную свободу.
Мы можем наблюдать последствия такого взгляда на мир в склонности китайцев толковать о человеческой деятельности, превыше всего о творчестве, в категориях «заимствования» (цзе). Зачем утруждаться самому, когда можно занять то, в чем нуждаешься, у мира? Древние китайцы часто записывали тексты так называемыми «заимствованными иероглифами», создавая некое подобие тайнописи. В садовой архитектуре Китая особенно ценился прием «заимствования пейзажа» (цзе цзин),когда в виды сада включались элементы окружающей местности. И как не вспомнить выглядящие совсем как настоящие капусту из яшмы, виноград из стекла или «мясо» из бобов в китайской монастырской кухне? В тайцзицюань тоже придается большое, едва ли не исключительное, значение приему «заимствования силы» (цзе ли),т.е. использования силы противника против него самого. Конечно, для успешного осуществления этого приема требовалось прежде всего умалиться самому, полностью открыться миру. Китайская мудрость учит пользоваться не своей силой, а своей слабостью!
Между тем «заимствование», «перенятие» иного (одновременно другого и одного, единого и единичного) бытия подразумевает и более фундаментальное событие, которое Лао-цзы называет «следованием» (шунь),а другой даосский патриарх, Чжуан-цзы, еще откровеннее «оставлением» (фан).Всеобщий путь мироздания, этот исчезающе малый круговорот от (не)себя к (не)себе, не имеет идентичности и не может держать даже сам себя. Он «оставляет все», пред-оставляет всем вещам быть тем, чем они не могут не быть. Даосское «следование» есть в действительности восполнение бытия каждой вещи в собственном само-оставлении, оно имеет моральный смысл и по справедливости должно именоваться «пособлением».
Мир расцветает в миг самоотсутствияпросветленного сердца. Даосский подвижник благословляет мир покоем самооставленности, как об этом свидетельствуют строки старинного, почти безвестного – а как иначе? – мастера тайцзицюань, воспевшего мудрость пребывания в ином:
«Небо вечно, Земля не преходит: они не перестанут быть. Твое сердце отсутствует, я сам покоен. Умчись хоть на край мира – никто не заметит. Весенний ветер наполняет свирель на террасе харчевни» 1.
Оставить себя – значит оставить все нажитое и приобретенное, все бремя собственного «я». В даосских боевых искусствах мы имеем дело с чем-то, что бесконечно превосходит собственно «искусство», вообще всякую предметную практику с присущими ей навыками, умениями, техническим знанием и проч. Речь идет о чистой конкретности опыта,
1Цит. по: Ян Шанхоу тайцзицюань юнцзя чжэньцюань, с. 35.
несводимой к тому или иному познаваемому содержанию, но всецело операциональной и потому обладающей определенным качеством, составляющей «памятный момент» в жизни.
Отсюда, кстати сказать, и особые трудности, связанные с именованием традиции так называемых боевых искусств в Китае. Для этой традиции нет вполне приемлемого обозначения не только в европейских языках, но даже и в китайском.
Общеупотребительный нынче термин «ушу» вошел в обиход только в последние десятилетия и притом имеет явный технический оттенок, свойственный терминологии современного спорта. В гоминьдановском Китае (20-40-е годы XX в.) и на современном Тайване принят термин «гошу» (букв. «государственное искусство»), созданный, вероятно, в подражание и одновременно в противовес японцам, которые свою национальную борьбу сумо называли «государственным спортом». В старой китайской литературе чаще всего фигурирует выражение «цюань шу», то есть «искусство кулака». Наконец, среди китайцев Юго-Восточной Азии и на Западе распространен термин «гунфу», традиционно обозначавший различные виды духовного подвижничества и, как следствие, те или иные «чудесные» способности даосских и буддийских подвижников. Еще и сегодня занятия боевыми искусствами в Китае называют «тренировкой ради гунфу» (лянъ гун).И действительно, в своих традиционных, или, как говорят в Китае, «народных» (в противоположность официальному спорту) формах ушу отнюдь не ограничивается искусством собственно рукопашного боя. В наши дни настоящий мастер традиционной школы в китайской деревне, как и раньше, – не только непобедимый боец, но также и врачеватель, даже знахарь, заклинатель духов, знаток таинственных обрядов, и его «духовные достижения» (то, что в Китае называют вэнь гун,-«культурные» или «гражданские достижения») внушают даже больший страх и почтение окружающих, нежели «боевые достижения» (у гун).
Итак, в традиции боевых искусств Китая существует неприметная со стороны, но очень существенная грань, отделяющая истинного мастера от тренированного спортсмена. Различие между тем и другим сродни различию между электродвигателем и паровой машиной: здесь неодинаковы сам способ извлечения силы и принцип ее действия. Более того, китайские учителя упорно противопоставляют «внутреннее достижение» учителя собственно техническому мастерству. Тон задал еще Конфуций, проповедовавший «просвещенный дилетантизм» из тех соображений – совершенно резонных, надо признать, – что всякое профессиональное знание и навык разрушают духовную цельность личности и, следовательно, техническая специализация – враг добродетели, чему легко найти подтверждения в современной жизни.
Впрочем, профессионализм не мешает моральной зрелости и добродетели в той мере, в какой он предполагает усилие совершенствования в том или ином виде практики. Сам Конфуций, кстати сказать, производил наибольшее впечатление на современников в те годы, когда он «жил на покое», целиком отдаваясь ученым занятиям и упражнениям в искусствах (что включало в себя в качестве составной части физические упражнения, в частности стрельбу из лука, и вообще здоровый образ жизни). А вот древние даосские учителя энергично настаивали на том, что настоящее свершение заключается не в какой-либо деятельности, а как раз в том, чтобы «оставить все дела». Их девиз гласил: «Ничего не делай – и все будет делаться». Ибо самоотсутствие Одного Превращения не может не замещаться бесконечным разнообразием жизни. О том же внутреннем несходстве истинной, духовной действенности и предметного делания говорят популярные поговорки китайских учителей боевых искусств:
«Все кулачные приемы не стоят одного гунфу.
Заниматься кулачным искусством и не заниматься гунфу– значит прожить жизнь впустую.
Физическая сила не составляет кулачного искусства, кулачное искусство не составляет гунфу».
Конфуциева «жизнь на покое» и даосское «недеяние» – знаки внутренней сосредоточенности и вместе с тем свободы духа. Они свидетельствуют о подвижничестве, которое есть сама жизнь, чистая действенность и потому неотделимо от любого занятия, как бы оживляет любое дело. Скользя поверх или, если угодно, между всех человеческих дел, «внутреннее достижение» ничем себя не проявляет, но обеспечивает успех. В этом смысле оно равнозначно виртуозному мастерству, почти целиком бессознательному, но безупречно эффективному. Подвижник Пути делает то, что и другие, живет «как все» – и не имеет с другими ничего общего! Даосы называли это «одно сердце, две пользы». Как сказано в старинном даосском трактате «Гуань Инь-цзы»,
«Мудрый не отличается от других в том, что он говорит, действует и мыслит. А в том, что мудрый не говорит, не действует и не мыслит, он отличается от других людей».
Пребывание в «Великом», то есть вездесущем, а потому несчисли-мом и «непроходимом» Пути означает способность не-делать в делании. Такое не-делание можно понять только как возобновление непреходящего, как беспредельную действенность действия.
В наследии тайцзицюань мы рано или поздно открываем для себя практику, в которой на удивление органично и естественно соединяются методика оздоровления и омоложения, техника рукопашного боя, эстетика телесной пластики и моральное совершенствование. Но по той же причине ни один из этих аспектов не имеет самодовлеющего значения. Тайцзицюань в действительности занимаются не для того, чтобы укрепить здоровье, стать грозным драчуном, записным моралистом или ученым мужем. На самом деле эта традиция служит цели более высокой и в то же время целомудренной, даже сокровенной. Тайцзицюань дает возможность раскрыть силу жизненной спонтанности; эта практика пронизана духом легкой, как бы непритязательной и потому истинно жизненной и привлекательной свободы. Последнее слово здесь принадлежит самому человеку, не связанному застывшими нормами и формами, погруженному в стихию вольного творчества – настолько вольного, что мудрый даже «забывает о себе». Возможно же такое потому, что китайский мастер, каким бы делом он ни занимался, втайне верит, что в жизни все само собой сходится наилучшим образом и подлинная красота не может не быть одновременно истинной пользой и настоящей добродетелью.
Первая в истории книга о тайцзицюань, опубликованная Сюй Юйшэ-ном в 1921 г., открывается словами:
«Тайцзицюань – это наука о том, что превосходит формы. Она подчиняется закону чередования Инь и Ян, принципу взаимодействия покоя и движения и творению конфигураций силы в движениях тела. Она утверждает, что нужно полагаться только на таковость естества, а из ничего появляется нечто… Эти формы сменяются в круговом движении, и нельзя положить им конец» 1.
Мудрость, в китайском понимании, – это сама жизнь в ее бесконечном круговращении, но жизнь осознанная, до последней детали осмысленная, что значит: постигнутая в ее основании, ее «мельчайших явлениях». Искреннее доверие к жизни составляет исток стилистического единства китайской культуры, а равным образом источник по-детски чистой радости китайского художника и китайского учителя Пути. Но это доверие питается не инфантильным благодушием, а просветленностью или даже, лучше сказать, сверхчувствительностью духа, способного прозревать сами «семена» явлений, постигать неотвратимо-грядущее.
Если попытаться дать определение той практике, которая породила традицию боевых искусств Китая, мы могли бы сказать, что имеем дело
Сюй Юйшэн. Тайцзицюань ши ту цзе. // Чжунго гудянь усюэ мицзилу. Т. 2,с. 158.
со своего рода духовным, как бы беспредметным деланием, «пустотной деятельностью», которая соединяет в себе созерцание и действие, и даже сверх того: созерцательность созерцания и действенность действия. В этой деятельности, или, точнее, чистой действенности, сходятся воедино жизнь сознания и тела, и она позволяет не совершать усилий, но воздействовать на окружающий мир внутренним, «сердечным» внушением, созидая пространство безмолвно-доверительных отношений между людьми. По той же причине китайский мудрец – обязательно господин жизни, обладающий всей полнотой власти в мире, хотя и употребляющий свою власть совершенно ненасильственно и даже неприметно для всего живого. В даосских книгах такая практика, знаменовавшая слияние знания и дела, именовалась «сбережением единства», ведь «следование Великому Пути» означало реализацию всей полноты человеческих свойств жизни. Такая практика лежит у истоков культуры, коль скоро культура есть не что иное как жизнь, пронизанная сознанием и сознательно прожитая.
Великий Путь, согласно классическому китайскому определению, есть то, от чего ни один человек не может отойти ни на одно мгновение. Даосы сравнивали его с корнем (бэнъ),из которого растет, непрерывно выбрасывая из себя все новые ветви, пышное древо жизни, или с перво-предком, «высшим предком» (цзун),от которого разрастается человеческий род. Народный быт в его анонимной и спонтанной цельности есть точный образ (непредставимый, впрочем) пред-бытия Великого Единства. Человеку, согласно китайской традиции, не нужно отрекаться от детства в себе и спорить с отцом, чтобы стать мужчиной. Его призвание – идти обратным путем, возвратиться к исконной, родовой полноте своего бытия. Комментируя понятие высшего предка у древнего даосского философа Чжуан-цзы, ученый XVII века Ван Фучжи так описывает состояние общества, в котором люди безотчетно вдохновляются этим всеобъемлющим истоком:
«Б Поднебесной не стараются навести порядок, но в ней нет никакого неустройства. Пахари сами собой пашут, ткачи сами собой ткут, ритуалы сами собой совершаются, наказания сами собой исполняются, все обретают покой в своем Небе, а милости и обиды, смерть и рождение не проистекают из какого-либо ограниченного знания».
Итак, высшая мудрость в Китае вовсе не отрицает обыденное знание, а вездесущность и бесконечность Великого Пути не противостоят конкретным и ограниченным вещам. Более того, сама эта «мудрость Пути» находит свое обоснование именно в человеческой социальности и культурном творчестве. Отсутствие собственных метафизических или религиозных целей, ориентация на успех в обществе – одна из самых примечательных особенностей китайской традиции «духовного делания», составляющая такой разительный контраст с индийской йогой или даже средневековым христианством.
Но если Путь объемлет как бесконечное, так и конечное, его природа предстает именно как посредование, неисчислимая дистанция между тем и другим. Эта символическая реальность – не сущность, не идея, не идеальное и не материальное, а непосредственно самое перемещение, становление, вечная между-бытность, отличие от всякого разделения, нескончаемое интермеццо, антракт, которые выглядят на поверхности жизни и как нерушимый покой, и как декорум вещей, нечто, всегда остающееся «за кадром», наконец – как чистая радость игры, в которой обретения неотделимы от потерь. Современный патриарх ушу Ли Цзымин определяет сущность традиционного боевого искусства как раз с этих позиций, когда пишет:
«Кулачное искусство в основе своей есть превращение Единого Дыхания (буквально: Единого ци.– В.М.). Сущность его столь обширна, что не имеет ничего вовне себя, и столь утонченна, что не имеет ничего внутри себя. Она простирается за пределы мироздания и пребывает в глубине нас самих. Не восприняв сердцем то, что передается изустно, трудно ее постичь».
Теперь не будет удивительным узнать, что в старой китайской литературе истинный смысл ушу в его качестве подвижничества-гунфу отчетливо противопоставляется как рукопашному бою, в особенности спортивным его вариантам, так и «физической культуре», различным методикам оздоровления. Мастер Сюэ Дянь начинает свою книгу о кулачном искусстве, изданную в 1934 году, с разъяснения различий между «воинским искусством» и «искусством Пути»: