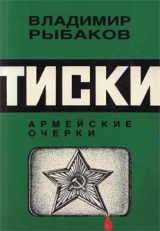
Текст книги "Тиски"
Автор книги: Владимир Рыбаков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Воскресник
Хорошо становится солдату на душе, когда в отступающую зиму врезается весна. Происходит милый человеческому сердцу взрыв: лопается лед, лопаются почки, земля словно дрожит от наполняющих ее соков. А тут еще подходит воскресенье. Солдат оглядывается по сторонам, думает, что славно все вокруг: ни в караул не попал, ни в кухонный наряд, ни в дневальные, да и нарядов вне очереди как будто нет. В кармане затесалась лелеемая трешка. Жить можно, то есть можно на время забыться. Постелить шинель на еще холодную землю, подставить лицо солнышку, глотнуть спирта или даже самогона, а дальше мечты как-то и не идут. Не будет в воскресенье политзанятий, поутру малая политинформация, так минут на десять – и отдых. Не будет и строевых занятий, не будет привычно-противного крика ротного: «А ну! Так копыто ставить надо, чтобы в башке гудело, должно гудеть, все равно в ней пусто». И глупый хохот от собственного остроумия.
Наступает воскресное утро, утомившийся после ночи бодрствования дежурный по роте выкрикивает с особенной радостью (ему и выспаться дадут вволю, а вечером увольнительную дадут, на танцы в деревню пойдет): «Подъем! Рота, подъем!» А потом совсем не по уставу напевает строфу из солдатской молитвы: «Дай нам, Господи, легкого подъема, дай нам на завтрак хлеба не недовесу…» Но не допевает ротный: «Дай нам, Господи, старшину – не гниду». Радость радостью, а голову терять не стоит. Старшина-гнида, может, и спит в своей каптерке, а может, и слушает. Не то чтобы очень боялся сержант, но такая у нас служба, что службу делает не товарищество, не дружба, а взаимное недоверие.
На крик рота вскакивает с коек. Старики, старослужащие натягивают свитера, молодежь, первогодники, в одних солдатских рубахах; первые идут курить к умывальникам, вторые – выбегают на физзарядку. И вдруг все замечают, что территория части набита офицерами, снующими взад и вперед. Тогда старослужащие, на ходу снимая свитера и проклиная все на свете, тоже выбегают, смутно догадываясь, что не к добру это воскресное скопление звездопогонников. Но до завтрака все проходит как обычно. В строю шепот старших: «Выжидают, гады, не хотят, чтоб разбежались».
После завтрака общее построение. Офицеры, старшины-сверхсрочники – все в сборе. Появляется комполка, старый вояка, три года провел на передовой, шесть раз ранен. Полковника горбом заработал. По бокам комполка идут замполит и парторг. Замполит – это весь полк знает, всю войну просидел в тылу при военном трибунале, расстреливал таких, как мы, таких, как комполка. Парторг родился как раз перед войной, пороха не нюхал, хотя любит намекать, что где-то и как-то воевал. Еще он любит чрезвычайно вежливо говорить провинившемуся солдату по пустяку: «Я Вам прочту лекцию, минут этак на двадцать, чтобы Вы постарались понять Вашу политическую ошибку, товарищ рядовой. Я постараюсь Вам доказать, что, якобы не заметив меня, не отдав мне честь, Вы совершили политическое преступление. Но так как Вы все равно не поймете, я Вас отправлю затем на десять суток гауптвахты, которые я Вам объявляю от имени командира части. Думаю, что Вы поймете там лучше, чем сейчас. Сожалею, что не могу пока отправить Вас в дисциплинарный батальон».
За эти «Вы», «Вам», «Вас» и за то, что он посадил и погубил многих хороших ребят, в него стреляли два раза. Раз, когда он служил в политотделе какой-то дивизии в Монголии, и второй раз, когда он был парторгом стройбата в Средней Азии. Два раза ранили и после каждой солдатской пули он рос и рос в чине и звании.
Комполка не любил заставлять солдат долго стоять по стойке «смирно», поэтому к крайнему неудовольствию парторга и замполита он, проворчав «вольно», стал бубнить положенное: «Значит, так, коммунистические красные воскресники – одна из ярких форм проявления высокой сознательности и трудовой инициативы войск. Еще Владимир Ильич Ленин это говорил, поэтому воскресники имеют большое историческое значение. Так, значит, я объявляю воскресник, и чтоб каждый работал, приказ есть приказ. Лодырям вкатаю по пять нарядов вне очереди без разговоров. Всё. – И, обернувшись к офицерам, добавил: – Можете брать людей!»
Нам всем в строю вдруг показалось, что пришла грязная осень, а не весна. А в сущности ничего особенного не произошло, просто еще раз вместо воскресенья нам дали воскресник.
Парторг добавил поспешно и угрожающе: «И помните, что воскресник есть коллективная добровольная работа в воскресный день». От этих слов разгулялась в каждом жгучая ненависть. Комполка хоть прямо сказал после необходимых слов, что приказ есть приказ, говоря этим, что и глупый приказ тем не менее остается приказом. Парторг же открыто издевался над солдатами. Офицеры же были злы и на парторга, которого считали сволочью и садистом, и на нас за то, что вынуждены будут целый день смотреть за нами, следить, чтобы мы работали, играть роль не боевых офицеров, а надсмотрщиков.
Одних послали рыть яму для новой офицерской уборной. Сотни солдат должны ходить в одну переполненную уборную, а десятки офицеров – в две. За одним унижением следовало другое. Мы были словно не людьми, защищающими свою родину, а уголовниками, которых нужно унижать, чтобы они подчинялись. Кого-то послали собирать на территории части бумажки, окурки, консервные банки. Что ж, как будто работа как работа, кто-то же должен ее делать.
Очистив свой участок, я услышал за спиной голос ротного: «Плохо работаешь». И ротный, вытащив изо рта окурок, бросил его себе под ноги. Он меня не выбирал, он унизил первого попавшегося за то, что хотел вот сегодня пойти на рыбалку, а вынужден был теперь следить за солдатским быдлом. Я поднял глаза. Они уперлись в плакат: «БОЕВОЙ УЧЕБЕ – БОЕВОЙ НАКАЛ». Затем глаза нацелились в живот ротного, и я искренне пожалел, что в руках у меня нет автомата. Я знал, что пройдет минут двадцать, десять или пять и уйдет из меня решительность. Но нужно было что-то сделать. Я подошел и отшвырнул сапогом окурок – и пошел на пять суток на гауптвахту, в ту камеру, что расположена дальше всего от отапливаемого коридора. Пошел с радостью, вспоминая белые от злобы глаза ротного.
На гауптвахте всегда думаешь много. Я сидел в холодной камере и мерз. В части постепенно надвигался вечер, а вместе с ним конец воскресника. Офицеры расходились домой, кто к женам, кто к бутылкам. Личный состав возвращался в казармы. И мне кажется, что если бы начальство умело читать солдатские мысли, то вряд ли оно было бы так спокойно.
Офицер Его императорского величества
Военнослужащему срочной службы как будто прошлое ни к чему, он толкает время назад без оглядки. День прошел, еще один, еще, еще… Дождаться отпуска, демобилизации, отшвырнуть мундир, сапоги, надеть туфли и, ощущая легкость свободного шага, пройтись по родным улицам. А дальше во времени можно и вспомнить милое армейское, выбрать из армейского бытия что-то веселое, игривое. На худой конец можно и испытанное зло превратить в добро – иначе что расскажешь друзьям и знакомым? Как будто прошлое и не нужно, а вот гляди, демобилизовавшись, сам того не желая, говоришь о своем прошлом, не только говоришь, а искажаешь его, подчиняешь свое собственное прошлое нуждам дня, своему настроению.
А что же происходит с нашей историей? И для чего солдату знать, что было с историей его народа, что происходило хотя бы в прошлом веке с русской армией? А главное, откуда прийти этому желанию: я хочу знать прошлое, чтобы понять настоящее? Может ли такое желание появиться у солдата, пришедшего в казарму после суточного наряда по кухне? Или на посту? Или утром во время политинформации? Или вечером после политчаса или комсомольского собрания?.. Ум будет отказываться принимать и тем более запоминать слова, в которые мало кто верит. Будет сидеть солдат и делать вид, что слушает, будет не думать и, все же, – размышлять с усмешкой в мыслях.
О настоящем можно размышлять без особого толчка. Есть лживость газет, политучебников, и только одно возможно – отыскивать в этом ворохе неправды крупицы истинной информации. Но как отыскать эти крупицы правды в историческом прошлом? Ушедшие давным-давно события чувственно далеки от нас. Где ложь? Где правда? Можно по привычке ничему не поверить – и дело с концом. Или плюнуть на все. Мол, правда не правда, а мне от этого ни жарко, ни холодно.
Тут нужен толчок извне.
Пожалуй, для большинства молодежи, солдат до революции, значит, приблизительно, до нашей эры, а для советского солдата в особенности, русский солдат дореволюционной эпохи – музейный экспонат. А ведь и семидесяти лет не прошло, долгая жизнь человека не прошла с тех пор, как стала Российская Империя Советским Союзом. Стоит на посту, на параде или еще где советский солдат; на плечах погоны, в петлицах знаки отличия, и трудно ему представить, что его дед существовал в ином мире, где были другие моральные и духовные ценности, и что в том исчезнувшем мире дед тоже стоял на посту, был солдатом, просто русским солдатом. Трудно себе это представить, сидя в ленинской комнате. Солдат до революции? В ответ на такой вопрос советский солдат озабоченно поскребет затылок, неуверенно скажет: «Ну, служили тогда по двадцать лет, прогоняли за чепуху сквозь строй и били этими самыми шпицрутенами, да вот еще белые офицеры могли запросто бить солдат». Знает солдат, что не было до революции «белых офицеров», но сказать просто офицеры неловко – его ротный, он тоже офицер, комполка – тоже офицер.
Километрах в двадцати от нашей части был довольно убогий колхозик. Никто не знает почему, но там люди продавали солдатам самогон дешевле, чем в других местах. Копеек на пятьдесят дешевле, но кто в течение нескольких лет получал в месяц три рубля восемьдесят копеек, тот знает, что ради скидки на полтинник солдат пробежит и полсотни километров. Улучив время, мы сбежали в самовольную отлучку в этот самый колхозик. Купили самогону и пошли к колхозным амбарам и складам разыскивать закуску.
Старика сторожа овощного склада я уже видел несколько раз, но как-то не обращал на него внимания. Дали мы ему десять копеек, он нам вынес помидоров, огурцов (мы их месяца три-четыре как не видели) и вместо того, чтобы распрощаться, спросил: «Правда, что в вашу армию ввели звание прапорщика?» Я ему ответил: «Правда, дед, точно, ввели. Только скажи, дед, наша армия разве и не твоя?» Старик спокойно ответил: «Нет, я воевал только в первую, Великую войну. Был ранен. В революции и гражданской войне не участвовал. Не смог». Мы были поражены. Кто-то из нас наивно спросил: «Сколько же тебе, дед, годков-то? А ты что, рядовым был в царской армии или как?» Старый человек усмехнулся: «Много мне лет, в прадеды вам гожусь. Теперь говорить можно, ничего мне не сделают теперь, поздно. Офицером был, выслужился, а сам родом из крестьян».
Удивление наше росло. Царский офицер родом из крестьян! Бывшему офицеру Его императорского величества, работающему сторожем в колхозе «Заря», врать было незачем, но спросили его на всякий случай, по-нашему, полуутвердительно, полувопросительно: «Вреш-шь». Старик сказал: «Мне скоро уходить в другой мир, буду я грехи собирать. Из крестьян я».
И тогда на него посыпались вопросы, нетерпеливые, будто готовились всю жизнь. Никогда не думали, не интересовались и вдруг бросились в новое знание о прошлом с удивительной жадностью.
– Срочная служба до революции сколько была времени?
– Сухопутные войска – три года, на флоте – четыре.
– Врешь! Не может быть.
– Может. И единственного сына в армию не брали, а был ли он кормильцем или нет – значения не имело.
– Врешь! Ну, да ладно, а сквозь строй прогоняли, розгами били?
– Отменили еще в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году.
– Врешь.
Мы повторяли это слово так, от удивления.
Это и был толчок, тот самый, пробуждающий в нас стремление знать то, что скрывается от нас с детства и часто до самой смерти.
Советский солдат-подкулачник
Осенние учения на Дальнем Востоке – лучшее и добрейшее время для солдатских плеч. На них не давит ни удушливый груз жары, ни леденящая тяжесть мороза. Во многом осень милостива к солдату. Проезжая деревню, он может добыть у жителей фруктов, которых полгода не видел в глаза. Осенью в часть могут подкинуть настоящей картошки. Осенью ты можешь найти и овощи и тогда вспомнишь, что зимой и весной у тебя или у твоего товарища был авитаминоз и кровоточили десны. Теплой осенью сглаживается и резкость отношений. Во время перерывов стрельбы или принятия пищи отойдет солдат в сторонку, расположится лицом к ветерку, достанет из вещмешка добытые в деревне помидоры, сливы – и уже хорошо, уже можно жить. Кто-то орет, сзывая всех на политинформацию, а солдат не слышит. В такие минуты хочется верить в хорошее, поэтому инстинктивно стараешься не видеть, не слышать злое, нудное. В такие дни сила, исходящая от земли, сильнее силы стоящей над тобой власти.
Однажды во время таких осенних стрельб, когда рявкание орудий не портит неба и даже замполит не в состоянии испоганить хорошее настроение, я увидел, обогнув ближайшую от расположения батареи сопку, пригорюнившегося паренька. «Если он при красоте такой бесится, – подумал я, – то зимой наверняка либо повесится, либо пристрелит офицера».
Пригорюнившийся паренек оказался наводчиком со второй батареи, и фамилия его была посконной и домотканной – Плетнев. Он оказался одним из русских людей, не желающих бить слабого и сопротивляться сильному. Увидев меня, незнакомца, Плетнев вылил накопившееся горе. Чужому – легче. Рассказал, и вроде легче. А далее – до свидания, я тебя не знаю, ты меня не знаешь.
Оказалось, что ефрейтор Плетнев влюбился еще в прошлом году в девушку, прописанную в деревне, в которой стоял наш полк. Отец девушки, рязанский мужик, был сослан как подкулачник еще в начале тридцатых годов в Сибирь, а там дальше – на Дальний Восток. Все родные мужика умерли, кто – с голода, кто – в лагере, в общем как и водилось в те времена. Дочь была плодом поздней любви мужика с местной кореянкой, которая, в свою очередь, померла от родов. Как говорил мужик: «Что-то такое моей старухе врачи неправильно сделали». Дочь выжила. И вот в эту дочь и влюбился бывший колхозник, а ныне ефрейтор наших славных вооруженных сил Плетнев.
Все было бы, может быть, неплохо, но приусадебный участок старика, мужика и подкулачника, граничил с землей старшины сверхсрочника, заведующего нашей полковой столовой Белобородова. Старшина своей властью использовал, как это делается повсеместно в армии, солдат для работы на своей земле. Но на земле старшины не росли ни помидоры, ни огурцы, ни прочие овощи, а земля соседа-подкулачника давала самые отменные урожаи. Старик любил землю, а солдаты, задарма потевшие на чужой земле, не любили старшину, поэтому и копали в поллопаты, и часто, прежде чем кинуть зерно в почву, перетирали его в руках, мол, на, старшина, ешь. Водой поливали себя, а не овощ.
От всего этого коммунист и старшина Белобородое приходил в дикое бешенство, и из-за этого всего невзлюбил коммунист Белобородое старика-подкулачника. Но когда он увидел, что в помощь старику пришел на поле солдат и что этот солдат работает с радостью (еще бы, Плетнев был уже без двух минут зять), то злоба в Белобородове переросла в жгучую, на все готовую ненависть. Он бросился на Плетнева с лопатой в руках, крича на ходу: «Самовольщик. Упрячу. Десять суток от имени командира части!» Но Плетнев был в самой законной увольнительной, и старшина, сдержавшись, не ударил, только пригрозил: «Ты у меня, подкулачник, узнаешь советскую власть».
Через день ефрейтор Плетнев пошел в караул на склады части. После караула начальник штаба полка и кондовый друг Белобородова по просьбе последнего придрался к Плетневу (гимнастерка была расстегнута, сапоги не блестели, пряжка болталась, не вовремя отдал честь) и влепил ему пять суток гауптвахты. С тех пор лез и лез ефрейтор Плетнев, любящий девушку и землю, на свою советскую Голгофу. Кровянила ему душу эта власть, а он продолжал хорошо служить ей, более того, после окончания тех осенних учении, на которых я с ним встретился, командир полка лично, несмотря на возражения начальника штаба, объявил Плетневу отпуск. Я за него порадовался. Тогда за сопкой я ответил на его рассказ: «Смотри, брат, будешь упорствовать, сломают тебя, никто не защитит». Узнав, что ему дали отпуск (наводчик он был, правда, первоклассный), я изменил мнение, и решил, что справедливость, вероятно, все же существует. Вышло, что ошибся.
Плетнев не уехал в отпуск к себе в Рязань. «Колхоза своего я, что ли, не видел, – сказал он. – Мать умерла, отцу дела нет, все боится и боится, будто ничего другого на свете нет. Останусь тут, женюсь, авось и будет радость». Остался. На седьмые сутки отпуска под вечер, когда Плетнев копался на участке будущего тестя, на него набросились солдаты из комендантской роты. Избили, что-то сломали в позвоночнике. Калеча парня, пьяные ребята из комендантской роты орали, что он мародер и сволочь, что он грабит людей. Кто им это сказал, кто приказал, кто указал место и время – осталось, разумеется, неизвестным. Ефрейтора Плетнева комиссовали, и он, искалеченный, куда-то уехал – спина его была серьезно повреждена, работать на любимой земле он больше не мог, а жить в деревне без земли он счел глупым.
До и немного после
Последние полгода действительной службы радикально меняют психологию солдата. Армейская жизнь лишается своей устойчивости. Военнослужащий привык с радостью отмечать каждый уходящий день и видеть демобилизацию всегда на горизонте. И вдруг – полгода! К черту мечту об отпуске, все равно уже не дадут, да и с самовольными отлучками надо поосторожнее – шесть месяцев осталось. Так думает солдат, и его охватывает яростное желание отбыть из части непременно первым эшелоном. Старик-военнослужащий занимает выжидательную позицию, говорит начальству: вы меня не трогайте, я вас не трону, а начальство ему отвечает: нет, дружок, ты служи как подобает, воспитывай молодых солдат, как мы велим, тогда, так и быть, уедешь первым эшелоном.
Помню, сержант из моей роты Боюк как-то позвал меня после отбоя из казармы на вольный воздух. Последнее для нас армейское лето было душное, ноги в последних выданных сапогах плавали в поту, и вольный воздух вокруг казармы назывался вольным только потому, что наш разговор никто не мог подслушать. Боюк мне доверял, я ему – тоже. Одно время наши койки стояли рядом, разговоры по ночам были жаркие, особенно о Чехословакии, но один на другого не донес. Кроме того, мы с ним были свидетелями, как во время одного учения рядовой Урусов, бешеный от недосыпания, заорал: «Моя мать в деревне рыбные консервы да черствый хлеб жрет, а я должен тут на радость этой сволочи землю рыть, да еще уверять, что жизнь с радостью отдам, лишь бы они остались, лишь бы командовали. Дудки!» Передаю слова Урусова в смягченном виде, парень был вне себя. Он любил хозяйство и землю и сквозь успокаивающие слова матери в письмах: «Служи, сынок, а мы уж как-нибудь», – он видел отчаянное положение себя дома. Урусов тогда бросил кирку и, оставив окоп недовыкопанным, ушел спать в тягач.
Присутствовавший, кроме нас, старший сержант Москаленко быстро сказал, как только Урусов ушел: «Вы слышали, вы все слышали, вы будете свидетелями. Ты, Боюк, слышал, что этот кацап сказал. Он, гад, против советской власти пошел!» Мы с Боюком переглянулись и как-то одновременно ухмыльнулись в лицо старшему сержанту. Боюк удивился издевательским удивлением: «Мы разве что-нибудь слышали, Щетинский, а? По-моему, ничего. Что-то у тебя, Москаленко, начались слуховые галлюцинации, лечиться тебе пора». Старший сержант, прошипев, что мы оба гады, что все гады и все против советской власти пошли, ушел, бормоча угрозы.
Мы остались с Боюком вдвоем, и мир вокруг после нашего поступка казался куда чище и лучше нежели раньше. Боюк сказал мне: «Видал, на национализме хотел меня подцепить, мол, я хохол, он хохол, а Урусов кацап. Гнида. На все он готов, лишь бы второй отпуск заработать». Я кивнул ему, и мы, оба младшие сержанты, пошли к тягачу спасать Урусова. Помню, разбудили салагу, он первый год служил, намылили ему шею за то, что болтает себе на погибель, мерзавцам на радость. Сунули Урусову кирку в руки и послали докапывать траншею.
Правда, месяца через два Москаленко все же получил свой второй отпуск. Кого он продал, чью жизнь загубил – не знаю или не помню. Такая уж нас армия, что мерзавцам легче живется и служится.
В общем, не удивительно, что в ту летнюю ночь Боюк захотел поговорить именно со мной. Мы оба не добивались сержантских лычек, оба старались остаться честными, по крайней мере, по отношению к самому себе. Оба хотели быть солдатами и только солдатами. И всегда получалось, что мы оба хотели невозможного. Я почти два года мечтал об отпуске второй после демобилизации высшей радости военнослужащего действительной службы. И когда мне его пообещали, я как-то взял и сказал, что изучение материальной части важнее политучебы, солдата надо учить стрелять, а как любить родину – он сам знает. В отпуск я, конечно, не поехал и был занесен к тому же в черный список особого отдела.
С одной стороны, было обидно – рушились лелеемые надежды, но, с другой, – пришли ко мне уверенность и спокойствие. Я сделал то, что велела совесть. Я знал, что теперь уеду домой последним эшелоном, что увольнительных ждать не стоит. Нужно было ждать и терпеть. В сущности, когда человек делает то, что подсказывает совесть, ему никакие ошибки не страшны. Моя ошибка была чисто тактической – я проиграл несколько месяцев жизни, но стратегически я победил – остался самим собой и, чего греха таить, довольным самим собой.
Боюк был тоже занесен в черный список. Он мне сказал: «Меня сегодня начштаба вызывал и сказал, что, мол, ты, Боюк, допрыгаешься. И добавил, что ежели я хочу демобилизоваться вовремя, то, как замкомвзвода, должен добиться в кратчайший срок, чтобы ребята боялись меня больше смерти. И еще начштаба добавил, чтобы я перестал с тобой дружить. Обещал за это все отпустить домой на три месяца раньше срока, сволочь». Боюк волновался, и я его понимал. Он ненавидел армию потому, что до призыва верил в нее. Был он, очевидно, романтиком, видел в наших вооруженных силах какой-то идеал мужества, стойкости, верности. А армия его встретила, как говорят, «мордой об стол». Но с Боюком случилось то, что, увы, случается с многими ребятами. Вынеся из уже армейского опыта отвращение, он стер в памяти отвращение к колхозному существованию, которое было у него до армии. Гражданская жизнь стала мечтой и в этих мечтах все, даже колхоз, приукрашивалось. Если на гражданке освобождением казалась армия, то теперь, наоборот, гражданская жизнь казалась воплощением свободы. Боюк не мог соединить одной веревочкой армию и колхоз, не мог признаться самому себе, что армия и колхоз одинаково уродливые порождения одной системы. Парень искал места под солнцем, где можно было свободно дышать, и все еще упорно верил, что такое место есть.
В ту летнюю ночь я сказал Боюку: «Ну, что тебе посоветовать? Для меня быть в нашем мире хорошим человеком – уже много. Ты все равно не можешь быть гадом, так чего тебе тревожиться? Торопишься на гражданку? Думаешь там найти красоту? Хорошо там, где нас нет. Пошли начштаба к чертям, он к этому не привык. Я это сделал и успокоился. Не мечтать надо, а отпихивать ложь. Ты кстати знаешь, что за наш разговор нам могут вклеить минимум три годика дисциплинарного батальона. И все будет по уставу, но не по армейскому, а по партийному, по государственному».
Я сам с удивлением вслушивался в свои слова. Они вырывались почти против воли. А завтра я буду в строю петь глупые песни, буду выполнять приказы. Сапоги будут стучать, глаза будут глядеть в невидимую точку. Тот правдолюбец во мне будет молчать, может быть краснеть от стыда.
Осталась эта армейская ночь в памяти. Боюк хотел и остаться честным человеком, и демобилизоваться раньше срока. Через месяц после нашего разговора пришли в часть вербовщики, объявили будущим дембелям: «Кто хочет поработать на Дальнем Севере, тому немедленную демобилизацию и подъемные». Боюк согласился. У добровольцев забрали военные билеты и без документов увезли в какой-то леспромхоз.
Два года спустя, уже демобилизовавшись, я узнал, что Боюка посадили на пять лет. Он, оказывается, хотел вернуть подъемные и обрести свободу. Леспромхоз от денег отказался и военный билет ему не вернул. Боюк сам захотел вернуть себе свои документы, забыв, что военный билет и он сам – государственная собственность. Дали пять лет. В армии говорят: «Гуляет правда, она иногда останавливается в солдате, но в штабе – никогда».







