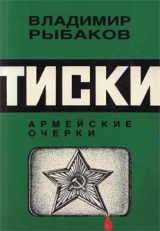
Текст книги "Тиски"
Автор книги: Владимир Рыбаков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Боевой листок
В нашу дальневосточную часть приходила газета «Красная звезда», а также местная военная газетенка «Суворовский натиск». Но читали эти газеты только те солдаты, которые не знали, чем еще можно заглушить скуку-печаль, порожденную монотонной и бездушной службой. В основном газеты шли на самокрутки или заменяли байковые портянки. В части даже шли споры: что больше греет ногу – «Суворовский натиск» или «Красная звезда». Это отношение к прессе было хорошо известно и в особом отделе части, и в политотделе. Вероятно, по этой причине солдатскому боевому листку придавалось особое значение.
Боевой листок обычно делается на плотной бумаге и должен отображать жизнь коллектива, отвечать на злобу дня и критиковать лодырей, филонов, вообще, недисциплинированные элементы. Одобряются также и карикатуры на грязнуль, самовольщиков. Но боевой листок должен был быть занимательным. И в этом-то как раз и выходила загвоздка: начальство не могло найти среди верных людей – комсоргов, верноподданных комсомольцев, кандидатов в члены партии, членов партии – подходящих людей, то есть тех, кто был способен наполнить боевой листок более или менее интересным содержанием. Верные годились в стукачи, поднимать руки на собраниях, заниматься подсиживанием, командовать – но никак не думать, не писать. Вот и приходилось начальству искать подходящих людей, как оно выражалось, среди интеллигентского сброда, то есть среди недоучившихся и бывших студентов.
Но начальство вместе с тем знало, что таким людям доверять нельзя. Как мне сказал один подвыпивший офицер: «У солдата теперь глаз стал дерзким». Но, в то же время, каждому военнослужащему срочной службы хочется дожить до демобилизации. Сгноить солдата не трудно – была бы у начальства охота. Никто не спасет тебя. Вот и получается, что рад иной, получив возможность выпускать боевой листок, думает, что сумеет сквозь необходимую ложь просунуть и правду.
И тут же инстинкт самосохранения нашептывает ему: «Оставь плохую нашу власть в покое, думай о себе, думай о том, как сохранить себя». Но бывает, что происходит и чудо – инстинкт самосохранения отступает перед желанием стать свободным человеком.
Был у нас в полку один некрикливый парень по фамилии Багоров. Дали ему выпускать боевой листок. Год писал он, что положено: «К такому-то съезду обещаем…» «Рядовой Клопенко вел себя в столовой недостойно, вырывал у ефрейтора Соломцева его пайку хлеба, за что получил два наряда вне очереди». «Учебные нормативы будут выполнены. Рота обязуется…» И так далее, тому подобное.
Так писал Багоров, пока жестокая душевная икота, которая появляется у человека, долго пишущего неправду и знающего об этом, не замучила его. И боевой листок стал вдруг писать и о деле. Например, об учениях было написано следующее: «Неизвестно, кому это выгодно, чтобы палатки нашей роты были ветхими, чтобы они рвались, и неизвестно, кто получает удовольствие от того, чтобы двадцать пять человек спали стоя в пятиместной палатке. Каждому известно, что на складе полка имеются новые палатки».
Боевые листки не контролировались прямой цензурой. Видимо, политические тузы хотели оставить солдатам иллюзию инициативы. Поэтому выпускающий, как только листок был готов, собственноручно прикалывал его, если в казарме, то обычно в коридоре, если на учениях, то попросту на видном месте. Но как только боевой листок был прикреплен, к нему сразу же бросались комсорг и один-два стукача. Если в листке было что-либо неудобоваримое для политотдела, то он исчезал самым обыкновенным образом, а выпускающий в политотделе и в особом отделе брался на карандаш. Либо он, так сказать, исправлялся, либо его ждали серьезные неприятности.
На учениях, особенно зимних, стукачи стремятся увильнуть от работы, особенно рытья окопов, стремятся к теплу буржуйки, а не к чтению боевых листков. Поэтому именно на учениях Багоров и выплескивал больше всего правды на бумагу. Рота его уважала, более того, однажды благодаря боевому листку рота объединилась и запротестовала. Все кричали разом, что дырявые палатки на учениях при тридцатиградусном морозе это издевательство. На следующий день должны были быть зачетные стрельбы, должен был прибыть из дивизии генерал с инспекцией. Комполка, видимо, испугался, что рота в знак протеста будет стрелять как попало, может быть, подумал даже, что солдаты могут, чего доброго, пожаловаться генералу. Как бы там ни было, но один из тягачей гнал день и ночь и привез-таки в роту новенькие палатки до инспекции. Рота почувствовала свою силу. Люди ощутили себя людьми. Пусть ненадолго, но думали, что можно бороться за правду – и победить.
После учений в боевом листке Багорова появилась карикатура на одного рядового с драчливым характером. Стукачи, комсорг и прочие верные политотделу люди не заметили, что у рядового было лицо ротного командира, а погоны – эсэсовскими. Ротный прославился в части тем, что, напившись, избивал с дружком, как он выражался, строптивых граждан, проходящих военную службу. Только к вечеру кто-то распознал в безобидном рядовом ротного, а потом и эсэсовские погоны. Вся рота, собравшись, хохотала до колик. Ротный отдавал приказы с лицом, почерневшим от злости. Он терял власть над своей ротой. Над ним смеялись, везде он встречал насмешливые взгляды.
За незначительные проступки, часто им и не совершенные, Багоров зачастил на гауптвахту. Всем стало ясно, что ротный хочет подвести Багорова под военный трибунал. Но возмущения со стороны личного состава не было. Было хуже. Смех, ядовитый и пренебрежительный. Он перешел с ротного на всех офицеров. Дисциплина стала падать. В политотделе заметались. В особом отделе, наверное, крепко задумались. Через неделю после выпуска боевого листка Багорова выпустили, ротного перевели на другую должность.
Во время перерыва
Были летние учения. Перерывы огня встречались личным составом с радостью – можно было лечь на траву, стереть пот и лениво помечтать о хорошем. И поговорить. Я разоткровенничался с парнем-ленинградцем. Мы стали доверять друг другу после двух лет совместной службы, когда не раз уже помогли друг другу, и убедились, что каждый мог донести на другого и не только не сделал этого, но заслонил собой другого. Только друзья, наверное, не ищутся и не находятся – а открываются. Был парень как парень, а потом вдруг оказалось, что друг он тебе, а ты – ему, только как-то не говорили об этом.
Мы с ленинградцем сидели в сторонке и беседовали вполголоса, да поглядывали, не пробирается ли кто с тыла, не хочет ли кто подслушать. Мы, солдаты, опасались доносчиков больше, чем китайцев. Китайцы были недалеко, и они тоже забавлялись стрельбой на полигоне. И тоже боялись доносчиков больше, чем нас. Мы их называли презрительно желтыми братьями, они нас – ломозами, что означает длинноволосые черти. Нам самим эта кличка понравилась, и мы часто так друг друга обзывали. Для нас это было совсем не обидно, скорее забавно, если учесть, что призывников у нас часто стригут наголо. Мы все знали твердо, что если у нас власть не любит критически думающих людей, то это не потому, что она боится, что в случае чего мы впустим к себе китайцев. Она прекрасно знает, что русский человек при любой власти будет драться за свою землю. В 1812 году в России был крепостной строй, а русский человек все равно прогнал Наполеона, хотя, как это у нас бывает, большой кровью.
Мы с моим другом говорили о том, что боеспособность армии не ухудшится, а улучшится, если солдат станет свободным гражданином. Внутриполитические проблемы не имеют ничего общего с армейской дисциплиной. Я могу быть коммунистом, социалистом, демократом, центристом – кем угодно. Моя партийная принадлежность вряд ли помешала бы мне защищать свою страну от китайского нападения. Если бы наш разговор мог подслушать замполит – он бы упал в обморок или тотчас стал бы стрелять в нас. А потом бы доказал, что мы хотели дезертировать и что он действовал соответственно боевой обстановке.
Наш разговор то и дело прерывался воплями начальства: «Приготовиться к стрельбе!» Мы возвращались к орудиям, и девяностокилограммовые снаряды летели к китайской границе и ложились словно в насмешку вдоль нее, снаряды словно царапали страх и самолюбие желтых братьев. Начальство часто этим занималось, чтобы только произвести впечатление на соседей. Но когда у нас в ближнем тылу погибали часовые или взлетал на воздух тот или иной склад, снаряды ложились и на китайскую землю. Мы мстили.
Во время перерыва мы опять отошли в сторонку и опять начали свой опасный разговор. Мой друг – ленинградец сказал: «Начальство не боится китайцев, оно больше боится нас. Оно боится того, что правда в нас может стать сильнее инстинкта самосохранения».
Матушка – история
Наша казарма, построенная еще в сталинские времена, давно прохудилась. Зимой личный состав мерз от холода и, посылая ко всем чертям уставы, клал поверх одеяла шинель, а летом стены казармы пропускали душную сырость. За военным городком торчали серенькие сопки, напоминавшие всем, что здесь Дальний Восток и что в нескольких километрах лежит китайская граница.
Среди общего недоверия и подозрительности нас, друзей, доверяющих друг другу безраздельно и безоговорочно, было, как это ни странно, много. Мы собирались в свободные часы в ленинской комнате, распространяя слух, что хотим выпить. В конце концов, несколько суток гауптвахты за принятие спиртных напитков было безопаснее пристального интереса к нам политотдела.
Говорят, что существует лишь то, о чем люди помнят. Мы и хотели знать, о чем люди еще помнят. Выяснилось, что один из нас как-то читал несколько номеров «Правды» за тридцать третий год, кое-кто помнил рассказы стариков, к некоторым попадали иные запрещенные книги. Получалось особое, лишенное пропагандой шелухи знание. Большинство из нас были по воспитанию неверующими, но тот факт, что 12 сентября 1943 года не кто-нибудь, а Сталин официально признал существование Православной Церкви в СССР, нас поразил. Был разрешен Собор, который избрал Патриархом всея Руси митрополита Сергия. Для чего это было сделано и именно во время войны – было ясно: чтобы использовать веру для достижения своих целей. Но не это нас потрясло. Получалось, что признание Церкви в сорок третьем году было невольным признанием властью своей беспомощности. Она не сумела дать русскому народу веру в светлое будущее, новую мораль. Она дала только горе – и все жертвы были напрасны. Было страшновато от наших мыслей, слов. Но мы и гордились ими. Кто-то попытался оправдать власть: власть молода, ей еще нет шестидесяти лет.
Мы все были солдатами, кто был рядовым, кто ефрейтором, кто получил уже сержантские лычки. За нами следили уставы. Вечером кто-то пойдет на боевое задание – в караул. Он будет стоять с автоматом в руках и буравить взглядом ночь, стараясь увидеть подползающего китайца, который хочет его убить. И было бы так просто сказать себе: родина и власть – это одно. Но нам нужна была правда, мы хотели быть людьми. Поэтому мы не могли оправдать свою власть. У нашей власти не было пощады даже к детям. Особым указом от 7 апреля 1935 года советская власть дала самой себе право расстреливать детей, начиная с двенадцати лет. И с этим ничего не сделаешь – это было. История-матушка не щадит и не наказывает. Она бесстрастна, поэтому ее и боится власть.
Не думать невозможно
Парень просыпается от привычного вопля: «Подъем!» От сладкого сна еще остался какой-то запах – то ли ржаного хлеба, то ли любимой девушки. Напяливая обмундирование, солдат пытается вспомнить сновидение, чтобы оставить его при себе. Второй вопль дежурного по роте заглушает все: «Выходи строиться!» На физзарядке солдат, проклиная себя за неумение отвертеться от беготни, старается думать с удовольствием о завтраке, но чувствует: день испорчен. По возвращении в казарму солдат оглядывается по сторонам: помещение как помещение, все привычно, все свое. Только вот земля под ногами не своя – немецкая. Там, за военным городком, живут немцы. Забор части служит границей между ним и немцами, а еще дальше, через квартала два – еще одна граница, не забор уже, а стена-граница, и разделяет она одних немцев и других.
Два года назад призывник, узнав, что его и его товарищей по призывному пункту отправляют служить в Германию, обрадовался. Служить за границей, увидеть, может быть, Берлин! Ему, парню из-под Пензы, такое и в голову не приходило! Уже в эшелоне от солдат из охраны он узнал, что войска в Германии получают лучшее довольствие. Тогда в эшелоне все радовались, не замечая или не желая замечать иронических взглядов солдат охраны. Один, подвыпив, зло заорал: «Зелень неотесанная, чего зубы скалите? Узнаете, по чем фунт немецкого изюма, когда вместо водки будете по праздникам попивать какой-то вонючий „кюмелль“. Увидите, молочные губы, что это такое – видеть, как мимо части ходят люди, глядящие на вас, как на прокаженных!»
Их привезли в одно из предместий Берлина. Во круг было чисто. Из окон автобуса, доставляющего их в часть, солдат видел опрятных людей. Чужое шло ему навстречу. Так ребенок смотрит в кинотеатре свой первый мультфильм. Солдат любовался аккуратными пейзажами. Простора русского не было, но было изящество, рожденное долгим трудом человека. Он смутно понимал, что узрел необычное, но так же смутно ему во что-то не верилось. Только много позже он понял, когда родилось неверие в естественность происходящего. Это произошло в первый же день, и это удивляло своей простотой: их выгрузили не на вокзале, а на пустынном полустанке, их заставляли торопиться. Их старались скрыть от немцев, их везли по Германии не как защитников, не как завоевателей, а как воров.
В казарме было относительно спокойно: кругом привычные лица, русская речь, ругань. Но казарма, военный городок были островом в чужом мире. Хотя люди этого мира, как и мы, строили социализм, коммунизм, но, пробегая мимо забора-границы, они были вежливо-холодными, а чаще всего делали вид, что не замечают нас. И это было неприятно. Равнодушие всегда оскорбляет.
Иногда отличников боевой и политической подготовки водили на экскурсии. Но входить в контакты с населением было, разумеется, строго запрещено. Солдаты входили в музеи, осматривали их, смотрели на других посетителей. А те даже не замечали их или сразу замолкали, как только появлялась советская форма. Хотелось сказать какому-нибудь немцу: «Чего так глядишь? Что я, виноват, что ли? Нужна мне твоя Германия, как кобыле второй хвост! Приказали мне, понял? Послали меня сюда, понял?»
Солдат называл немцев чужими людьми, хотя сам понимал, что именно он и его товарищи здесь чужие. Он по-старинке не любил немцев, хотя невольно чувствовал себя перед ними виноватым.
Не было ведь видимых причин ненавидеть всех этих немецких парней, родившихся, как и он, после войны. Это была их страна, а он был здесь ох-каким непрошенным гостем. Незваный гость, известно, хуже татарина.
У солдата есть человеческие думы и начальство тут бессильно. Не заставишь солдата не думать. Хотелось бы, а не заставишь. Вот он себе и представляет, к примеру, как бы он отнесся к долгому присутствию в его Рязани немецкого или японского гарнизона. И отвечает себе: без особой радости. Так чего же обижаться на не любящих его немцев?
Говорили бы хоть на политзанятиях правду. Сказали бы: была война. Войну они проиграли, и мы по праву победившего навязали этому народу свои порядки, – политические, социальные и прочие. А чтобы они вели себя спокойно и послушно, держим войска. Все по древнему закону – горе побежденным. Это была бы горькая, но правда, А то тянут волынку замполиты, парторги, комсорги до последнего лейтенантика, что мы, мол, помогаем гэдээровским немцам строить светлое будущее, что мы защищаем их от возможного нападения империалистов с той стороны и что эти немцы – нам братья, а те немцы – враги. Говорят и говорят, хотя каждая собака знает, что братья из ГДР нас не любят куда сильнее, чем западные немцы. Враги к нам относятся куда более терпимо, чем братья!
Да, солдата не заставишь не думать. «Американские империалисты и немецкие неофашисты готовят агрессию против строящей социализм Германской Демократической республики!..» Подобные слова наводят на солдата сон или раздражают. В одном Берлине наших танков в два раза больше, чем американских, а английских и французских войск так мало, что и говорить серьезно на эту тему не приходится. Так кто же будущий агрессор? Немецкие граждане, которые с нашей помощью строят социализм, пытаются перелезть через стену, а немецкие солдаты палят по ним из пулеметов? Этих немецких военнослужащих, стреляющих по своим, советский солдат глубоко презирает и не хотел бы он быть на их месте. Чертова стена! Так о ней наша пресса врет! Стена защищает жителей ГДР от войск ФРГ, но на ней погибают прошитые пулеметными очередями жители ГДР. Солдату стало противно, и он, вспомнив слова сержанта из эшелона, подумал напоследок, что тот был прав – лучше было бы служить у себя. Уставы уставами – они везде одинаковые, еда едой, где она лучше, где хуже, но, служа у себя, можно постараться хоть оставить себе иллюзию, что ты защитник родины. А тут – и того нет.
О храбрости и терпении
В одной из частей, в которой ничего не должно было бы происходить, произошел случай. Кому-нибудь он покажется странным, кому-нибудь – обыденным. Когда мне его рассказали, я, помнится, подумал, что на свете бывают разные виды терпения и разные виды храбрости.
Это произошло на Дальнем Востоке в одном танковом полку. В одной из рот служил парень, Сергей Волоколамцев. (Ему эту фамилию в детдоме дали.) Служил нормально, выполнял свой долг. Образования у Волоколамцева не было, но он писал стихи и в этом была его особенность. Он пытался скрыть это, но куда там, в роте знали, что он даже на посту, в мороз, чиркает что-то свое.
Однажды в праздник (то ли под Новый год, то ли седьмого ноября) Волоколамцев, подвыпив, говорил своему лучшему другу: «Вот я свой горб трудовой с детства волоку с места на место. Я много видел да и понял многое. Я и Маркса читал и скажу тебе, что Маркс не мыслит, а приказывает. И марксизм – это аксиома, останавливающая развитие мысли. Марксизм лишает человека возможности выразить себя. Вот говорят, что наша идеология – всемирна, а мы именно из-за нее ничего не знаем о происходящем в мире». Друг ему ответил: «Будя тебе, брось. Ты смотри, как бы тебя за это самое к стенке не поставили. Я тоже кое-что знаю. За слово, поменьше твоего, моего батю в собачий ящик загнали. Двадцать лет прошло, но ты не думай, в политотделе ох-как были бы рады услышать то, что ты говорил».
Бог знает, узнал или не узнал о словах Волоколамцева старшина роты Петренко, но он, видимо, о многом догадывался. Петренко был из такого человеческого материала, что в армии он стал старшиной, в гражданской жизни на стройке работал прорабом, на заводе – бригадиром. Специально Петренко людям зла не желал, но он знал, что, живя среди волков, нужно не только выть по-волчьи, но самому стать волком, и, кроме того, он еще знал, что счастье одного человека непременно покоится на несчастьи другого. Так и жил Петренко, считая, что его мировоззрение правильное. К власти он относился равнодушно, но приспосабливался – и только.
Как-то старшина Петренко вызвал к себе в каптерку Волоколамцева и сказал ему: «Ты житель городской, профессий у тебя много и парень ты для меня подходящий. Так вот, я в твоем матраце нашел эту тетрадку с твоими стишками… Не лапай! И успокойся, я тебе зла не желаю. Я хоть и простой человек, а сразу понял, что за твои эти стишки тебя в особом отделе по головке не погладят. Так что слушай: я бы мог на тебя донести, мне бы отпуск лишний дали, но я этого не сделаю. А ты мне за мое молчание окажешь службу. Я после дембеля в село возвращаться не хочу, мне в город охота. У меня тут в соседнем селе девушка есть, ребенка она от меня ожидает. Прописки городской она мне дать не может, да и жизни моей она мешать будет. А бросить – нехорошо, я, как честный человек, на такое не способен. Вот ты на ней и женишься. После свадьбы тетрадочку верну. Хорошее дело сделаешь. Ну как, по рукам?»
Волоколамцев окаменел. Страх перед особым отделом парализовал его. С трудом пробиралась одна полная ужаса догадка: «Он кандидат в члены партии, он донесет». Тот же всемогущий страх, который владел уже многими поколениями людей, заставил голову Волоколамцева кивнуть в знак согласия.
Через неделю старшина познакомил Волоколамцева с будущей женой. Последующие дни Петренко балагурил, отпускал шуточки, намекал на тетрадочку, на будущую поэтессу, которая родится от столь великолепного брака. Он не должен был этого делать. Петренко через узкую щель своего миропонимания не увидел, как переполнилась чаша терпения Волоколамцева, как ужас перед особым отделом, перед властью стал стушевываться, мельчать. Он не понял, что что-то произошло в Волоколамцеве.
Одной ночью на одном из караульных постов прозвучало несколько лихорадочных автоматных очередей. Когда прибежала из караульного помещения бодрствующая смена, она увидела дрожащего от страха часового, а в метрах двадцати от него лежали на земле два тела – Петренко и Волоколамцева. Часовой действовал по уставу, – спросил, кто идет, затем закричал: «Стой, стрелять буду!», потом выстрелил в воздух, но фигуры продолжали молча к нему приближаться, и только тогда часовой открыл по ним огонь. Часовой получил двухнедельный отпуск.
Петренко был мертв и от него разило водкой. Волоколамцеву пуля раздробила бедро, но он выжил. Очнувшись, рассказал, что Петренко, напившись, приказал ему следовать за собой, а там на посту зажал ему рукой рот. Петренко был пьян и, вероятно, не понимал, что делает. Свидетельству Волоколамцева никто не поверил – Петренко был человеком физически не сильным и, кроме того, был под мухой. Да и история с девушкой дошла до ушей начальства. С ней был Петренко, потом Волоколамцев. Но командирам не хотелось разбираться – несчастный случай и все. Без осложнений.
Волоколамцев был комиссован. Он женился на девушке Петренко, та вскоре родила дочку. Тетрадку, которую Петренко выкрал у поэта, так и не нашли.






