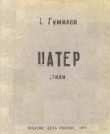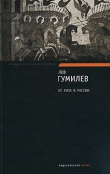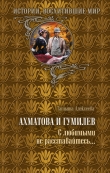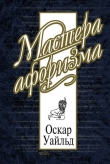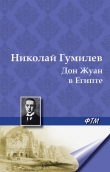Текст книги "Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта"
Автор книги: Владимир Полушин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 55 страниц)
3 марта Гумилёв принимал участие в заседании издательства 3. Гржебина, где Николая Степановича критиковали за неточное редактирование тома произведений А. К. Толстого. Чуковский вспоминал потом, что Гумилёв согласился с критикой и с тем, что он плохой прозаик, но добавил, что «в тысячу раз лучше» пишет стихи, чем Чуковский. Корней Иванович не обиделся.
Видимо, после этих событий Николай Степанович и отправился в Бежецк навестить родных, где пробыл предположительно до 15 марта, так как именно в этот день появился на вечере поэтов в Доме искусств.
19 марта Н. Гумилёв опять пришел на заседание в издательство Гржебина. Между присутствовавшими на заседании Блоком и Горьким возник спор о Лермонтове. Н. Гумилёв в это время все еще редактировал книгу А. К. Толстого, за что ему опять досталось. Горький насчитал до сорока ошибок, допущенных Гумилёвым-редактором. Однако за редактирование книги Николай Степанович получил гонорар в размере двадцати тысяч рублей, и его нужно было отрабатывать.
В это же время Гумилёв собирал материалы для нового альманаха «Дракон». 26 марта на очередном заседании «Всемирной литературы» Блок передал ему для публикации два своих стихотворения.
Одновременно с редакторской и переводческой деятельностью Николай Степанович готовил свой творческий вечер, своеобразный отчет перед читателями и товарищами по литературному ремеслу. Вечер состоялся в Доме искусств 10 апреля. Гумилёв читал драму «Гондла» и новые стихотворения, вошедшие позже в сборники «Шатер» и «Огненный столп». Публика была самая разнообразная – от профессиональных поэтов до пролеткультовских слушателей. Стихи Гумилёва были встречены тепло, особенно стихотворение «Дамара. Готтентотская космогония». Но были в зале и те, кто отнесся враждебно к творчеству поэта. К. Чуковский в дневнике описал абсурдный случай, который произошел на этом вечере: «Во время перерыва меня подзывает пролеткультовский поэт Арский (Павел Александрович Афанасьев. – В. П.) и говорит, окруженный другими пролеткультовцами: „Вы заметили?“ – „Что?“ – „Ну… не притворяйтесь… Вы сами понимаете, почему Гумилёву так аплодируют?“ – „Потому что стихи очень хороши. Напишите вы такие стихи, и вам будут аплодировать…“ – „Не притворяйтесь, К. И., аплодируют, потому что там говорится о птице…“ – „О какой птице?..“ – „О белой… Вот! Белая птица. Все и рады… здесь намек на Деникина“. – У меня закружилась голова от такой идиотской глупости, а поэт продолжал: „Там у Гумилёва говорится: ‘портрет моего Государя’“. – „Какого Государя? Что за Государь?..“» Яркий пример того, как уже в 1920 году создавалась атмосфера будущего террора и репрессий.
Тем не менее нужно признать, что скрытый смысл присутствовал во многих стихах Гумилёва, написанных после возвращения его в 1918 году в Россию. Однако не поэтам уровня Арского было под силу его расшифровать. Над смыслом и подтекстом этих стихов до сих пор бьются литературоведы разных стран.
И в то тревожное и голодное время Гумилёв не изменил своим привычкам и старался быть хлебосольным хозяином. Он приглашал к себе в гости приезжавших в Петроград поэтов. В субботу, 30 апреля в пять часов вечера Николай Степанович устроил у себя дома прием приехавшего в Петроград Андрея Белого. Он хотел представить мэтру символизма своих учеников и пригласил Всеволода Рождественского, Николая Оцупа и Ираиду Гейнике (в скором будущем – Ирина Одоевцева). Последняя вспоминала об этом приеме: «Гумилёв за несколько дней сообщил мне, что у него… прием в честь приехавшего из Москвы Андрея Белого. С „поэтическим смотром“ выступят Оцуп, Рождественский и я… Выступать с ними на равных началах мне чрезвычайно лестно. В субботу 30 апреля я прихожу к Гумилёву за полчаса до назначенного срока. Оцуп и Рождественский уже здесь, и оба, как и я, взволнованы. „Смотр“ почему-то происходит не в кабинете, а в прихожей. Перед заколоченной входной дверью три стула – для нас. На пороге столовой – два зеленых кресла – для Гумилёва и Белого. Гумилёв распоряжается как режиссер. Он усаживает меня на средний стул, справа Рождественский, слева Оцуп. – Николай Авдеевич, ты будешь читать первым. Каждый по два стихотворения. Давайте прорепетируем! – И мы репетируем. <…>…Андрей Белый прибыл! – громко объявляет Гумилёв… Гумилёв спешит на кухню с видом царедворца, встречающего коронованную особу. Мы все трое, как по команде, встаем… – Борис Николаевич, – голос Гумилёва звучит особенно торжественно, – позвольте вам представить двух молодых поэтов… – А это моя ученица. – Без фамилии. Без имени… Гумилёв пододвигает ему кресло. – А теперь, с вашего позволения, Борис Николаевич, начнется чтение стихов… Дирижерский жест Гумилёва в мою сторону. – Теперь вы! Я встаю – мы всегда читали стихи стоя – и сейчас же начинаю… Торжественно-официальный голос Гумилёва: „Еще!“… А. Белый, разбрасывая фонтаном брызги и блески вдохновения, поднимается в доступные ему одному заоблачные выси… Гумилёв совершенно серьезно соглашается……В столовой на столе, покрытом белой скатертью, чашки, вазочки с вареньем, с изюмом, медом, сухариками и ярко начищенный, клокочущий самовар. Полный парад. Обычно Гумилёв пьет чай прямо на пестрой изрезанной клеенке, из помятого алюминиевого чайника. Самовар я у него вижу в первый раз… Белый вскакивает, подбегает к самовару… – Ведь я в Москве… почти голодаю. Нет, не почти, я просто голодаю… – Гумилёв пододвигает Белому изюм. – Да, Борис Николаевич, трудные, очень трудные времена!..» И больше ни слова. Известно, что такое угощение было у Николая Степановича в особых, исключительных случаях. И голодал он ничуть не меньше Белого, а может, и больше. Ведь ему нужно было кормить семью, двоих детей, помогать матери. Но он представляет своих учеников, молодых поэтов, мэтру, и сам он мэтр, а так как Поэзия – его единственная Царица, то и прием в ее честь должен быть царским! Интересно, что именно в это время (22 мая) М. Кузмин записывает в дневнике: «Выбегал на рынок. Ходит Гумми, насчет масла, сам стряпает…»
Наступившее предпоследнее лето в жизни поэта было для него таким же напряженным в работе, как и весна. Правда, в начале его, в июне, ему все же удалось побывать в Первом доме отдыха на правом берегу Невы. Августовский номер «Вестника литературы» сообщил, что там поэт не только отдыхал, но выступал на вечерах и читал свои стихи, делился воспоминаниями об африканских путешествиях, а также работал над «Теорией интегральной поэтики», «Поэмой Начала» и переводом стихов Жана Мореаса.
19 июня в Петроград прибыла поэтесса Надежда Павлович с поручением Валерия Брюсова организовать по примеру Москвы Петроградское отделение Всероссийского профессионального Союза поэтов. Казалось бы, Брюсов, духовный учитель Гумилёва, должен был сделать ставку на своего ученика. Но, увы, этого не произошло. Видимо, сверху поступило указание председателем избрать Александра Блока.
22 июня Николай Степанович встретился с Александром Александровичем – два первых поэта России обсуждали вопрос создания в Петрограде организации Союза поэтов. Видимо, было найдено какое-то компромиссное решение.
25 июня этот вопрос обсуждался во «Всемирке». Решено было, по всей видимости, создать отделение, так как уже 27 июня состоялось первое организационное заседание Союза поэтов в помещении Вольной философской ассоциации на площади Чернышева. На заседание пришли Н. Гумилёв, А. Блок, Н. Павлович, В. Рождественский, М. Лозинский, Н. Оцуп и другие. Большинство собравшихся представляли интересы Блока, поэтому он и был избран председателем. Николая Степановича включили в организационную группу и избрали членом приемной комиссии вместе с А. Блоком, М. Кузминым и М. Лозинским. Вскоре петроградским поэтам разослали приглашения на общее организационное собрание, которое состоялось 4 июля, и на нем утвердили приемную комиссию. В июле при участии Гумилёва Союз поэтов был утвержден как Петроградское отделение Союза поэтов.
6 июля 1920 года в Ростове-на-Дону была поставлена драма «Гондла» в театральной мастерской режиссера А. Б. Надеждова (композитор Н. 3. Хейфец, художник А. А. Арапов).
25 октября 1921 года в газете «Жизнь искусства» появилась статья актера П. В. Самойлова «История одного театра», в которой он рассказывал о постановке «Гондлы»: «Революция снова забросила меня в Ростов. И я нашел здесь театр – настоящий театр, выросший из восторженного юношеского коллектива. Ставился „Гондла“ Гумилёва. Странно было видеть в глухом углу России камерное представление высокого стиля, придуманное, отделанное до мелочей. Аудитория – рабочая и красноармейская – сидела, затаив дыхание. Тут не нужно было ни объяснений, ни указательных пальцев, красота побеждала сама собой. Мысль дать самое лучшее самым неподготовленным – была весьма счастливой мыслью. Аристократический цветок ростовского искусства, „Театральная мастерская“, был сделан передвижным районным театром для рабочих. Думаю, что никогда еще ростовский театр не имел более чуткой и менее пошлой публики». А в Петрограде бюрократы тянули и тянули с постановкой пьесы. 18 мая на заседании Секции исторических картин ему предложили снова переработать «Гондлу» и предпослать ей два предисловия: одно самого поэта, а второе – научное – Сыромятникова. 21 июня на заседании Секции исторических картин снова зашла речь о «Гондле», и в протоколе записали: Сыромятникову написать предисловие.
27 июля Гумилёв на заседании Секции исторических картин говорил о пьесе: «…„Гондла“ задумана и написана мною в первой половине 1916 года. В основание ее положен цикл легенд, приводимых Арбуа де Жубанвилем в его „Истории кельтской литературы“, где говорится о горбатом принце Гондле, или Кондле, жившем во втором веке по Рождество Христово в Ирландии, о его несчастьях и отъезде на… Острова Блаженства в таинственной стеклянной ладье. И образ, и история мною очень изменены. Мотив духовных превращений девушки, кроткой ночью и жестокой днем, взят мною из Андерсена, а очень распространенный мотив насильника, проникающего в спальню невесты под видом жениха, – из народной шведской песни „Лаге и Йо“. Замечу еще, что изобретенное мною тайное имя героини Лаик, по указанию профессора А. А. Смирнова, крайне близко к кельтскому слову Лаих, что значит герой… Имя Ахти заимствовано мною из Калевалы, где оно является прозвищем хитреца Лемминкяйнена. И лютня, принесенная „из финской страны“, и наклонность к колдовству, которым славились среди северных народов финны, намекают на то, что это действующее лицо является выходцем из Финляндии… Насколько мне известно, „Гондла“ – первая и единственная пьеса, написанная анапестом. Я совершенно сознательно выбрал этот размер, потому что, хотя он и лишен многообразия и подвижности двусложных размеров, он стремителен, крепок, певуч, в нем слышатся то грохоты моря, то колокольные звоны, две музыкальные темы пьесы». Ссылаясь на Андерсена, поэт имел в виду его сказку «Дочь болотного короля». Александр Блок прочитал свою статью о «Гондле» Н. Гумилёва.
27 июля прошло заседание Петроградского отделения Союза поэтов. Однако не все устраивало Гумилёва в этом Союзе, видимо, поэтому он и начал готовить почву для воссоздания нового – третьего по счету Цеха поэтов. Поэт готовит своих учеников к публичным выступлениям. 3 августа на литературном утреннике в Доме литераторов он представил Ираиду Гейнике уже как Ирину Одоевцеву, и это было ее первое публичное выступление..
4 августа состоялся первый творческий вечер Союза поэтов в зале Тенишевского училища, где со вступительным словом выступила Лариса Рейснер, а Блок рассказал о создании Союза поэтов, вернее, его Петроградского отделения. И уже 5 августа прошло первое заседание приемной комиссии Союза поэтов, на котором были рассмотрены стихи поэтессы Марии Шкапской.
13 августа поэты собрались на заседание президиума и общее собрание Союза поэтов. Собранию предшествовало появление в Петрограде бывшего синдика Цеха поэтов Сергея Городецкого, который стал «красным» и принялся обличать поэтов в том, что они уходят от созидательной работы и ограничиваются переводами. Появились две его статьи пасквильного содержания. Одна – «Покойнички» – была опубликована 8 августа в «Красной газете», а вторая – «Разложение интеллигенции» – появилась в петроградской газете «Известия». Литературная общественность была настолько возмущена и взбудоражена, что 17 августа заседание во «Всемирной литературе» вылилось в бурное обсуждение «шедевров» Сергея Городецкого.
Николай Степанович в это время занимался созданием нового Цеха поэтов, который появился на свет во второй половине августа 1920 года. 20 августа Гумилёв в Доме искусств уже читал для членов Цеха поэтов первую лекцию, на которую пришли И. Одоевцева, Г. Адамович, Н. Оцуп, С. Нель-дихин, В. Рождественский и еще неизвестная в литературных кругах молодежь. Гумилёв дал молодым задание: к следующей лекции написать стихотворение о бульдоге, причем форма стихотворения должна содержать сложное чередование четырехстопных и двухстопных хореев. К сожалению, эти лекции продлились недолго.
Параллельно с Цехом поэтов Гумилёв принимал участие в работе Союза поэтов. 27 августа на очередном заседании приемной комиссии Николай Степанович рассматривал вместе с другими членами комиссии заявление поэтессы Е. Полонской. Гумилёв ко всем своим обязанностям (в том числе и в приемной комиссии, и в Союзе поэтов) относился со всей ответственностью, хотя это и была для него всего лишь дополнительная общественная нагрузка. 4 сентября он участвовал в первом творческом вечере Союза поэтов в Доме искусств. 7 сентября поэт присутствовал на заседании Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов, на котором принимали молодых поэтов в члены Союза. К тому времени он уже ознакомился и подготовил отзывы о работах многих из них. Гумилёв писал о Викторе Васильевиче Третьякове: «Членом-соревнователем принять можно». Интересно, что в том же году в конце октября В. В. Третьяков выехал в Ригу и напечатал «Петроградские письма» [81]81
В журнале «Театр и жизнь» (1920. № 3).
[Закрыть], где писал о действительном влиянии Гумилёва на Союз поэтов: «Это попросту возрожденный Цех поэтов, куда вошли по приглашению почти все участники „Аполлона“ с акмеистическим уклоном, а из новых Наталья Грушко, Крючков и Ваш покорный слуга».
8 сентября поэт обсуждал на заседании совета Дома искусств вопросы открытия книжной лавки писателей в Доме искусств и создания журнала Дома искусств. А спустя три дня он выступал там же на втором вечере Союза поэтов. В программе вечера, кроме известных поэтов А. Блока, А. Белого, В. Пяста, были объявлены и ученики Гумилёва И. Одоевцева, С. Нельдихин, Г. Иванов и другие. Для Николая Степановича это было очень важно, так как в самом Союзе поэтов шла скрытая борьба между сторонниками Гумилёва и Блока. Ирина Одоевцева в мемуарах «На берегах Невы» писала: «Из Москвы в Петербург прибыла молодая поэтесса Надежда Павлович с заданием организовать петербургский Союз поэтов, по образцу московского. Задание свое она выполнила с полным успехом – на все 120 процентов… Сама Павлович занимала видное место в правлении, чуть ли не секретарское… Союз поэтов, как и предполагалось по заданию, был „левым“. И это, конечно, не могло нравиться большинству петербургских поэтов. К тому же стало ясно, что Блок, хотя и согласился „возглавить“ Союз поэтов, всю свою власть передаст „Надежде Павлович с присными“. Выгод от такого правления петербургским поэтам ждать не приходилось. Гумилёв же был полон энергии, рвался в бой, желая развить ураганную деятельность Союза на пользу поэтам».
Несмотря на скрытую борьбу между двумя группировками Блока и Гумилёва, они продолжали встречаться и мирно беседовать на заседаниях, официальных встречах. 21 сентября во «Всемирной литературе» Александр Блок подарил Николаю Гумилёву свою книгу «За гранью прошлых дней» (выпустил в 1920 году Гржебин) с надписью «Дорогому Николаю Степановичу Гумилёву с приветом от автора…». В этот же день состоялось очередное заседание Союза поэтов, на котором рассматривались заявления молодых поэтов и снова каждый из двух мэтров отстаивал свою точку зрения. А на следующий день состоялся вечер Союза поэтов, на котором присутствовали, по-видимому, и Блок, и Гумилёв.
28 сентября противоречия в видении будущего развития Союза поэтов достигли такой точки, что Гумилёв вынужден был выступить против Надежды Павлович и Марии Шкапской, пытавшихся подчинить Союз поэтов своим интересам. Блок записывает в дневнике: «Гумилёв и другие фрондируют против Павлович и Шкапской…» И ни слова о том, что сам он давно отдал все на откуп двум этим дамам.
29 сентября Н. Гумилёв выступал в Доме искусств с речью на вечере в честь 50-летия со дня рождения Михаила Кузмина и 15-летия его литературной деятельности. Блок произнес речь от имени Союза поэтов, а Гумилёв выступил от имени коллегии редакторов издательства «Всемирная литература». Но в общем атмосфера была веселой и доброжелательной.
С наступлением октября стали возобновляться занятия в многочисленных студиях, на курсах и в институтах, где Гумилёв продолжал читать лекции. 1 октября начались занятия в литературной студии Дома искусств – там Николай Степанович продолжил чтение лекций по теории поэзии и вел поэтический семинар.
5 октября группа поэтов, ориентированных на Гумилёва, наконец провела перевыборы президиума Союза поэтов и забаллотировала Надежду Павлович и Марию Шкапскую. Блок заявил, что он складывает свои полномочия председателя правления Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов. Успех сторонников Гумилёва был настолько полным, что вызвал в стане противников растерянность, от которой они уже не оправились вплоть до новых выборов председателя. 6 октября все сторонники Гумилёва пришли на второй вечер Союза поэтов. Среди присутствовавших были М. Тумповская, И. Одоевцева, Г. Иванов, М. Лозинский, С. Нельдихин и, конечно, мэтр Гумилёв, читавший свое любимое стихотворение «Заблудившийся трамвай». А на следующий день в Доме искусств состоялся вечер организующегося журнала «Дом искусств». 12 октября на собрании Союза поэтов прошли официальные перевыборы президиума. Однако Гумилёв не хотел обижать Блока и 13 октября, собрав делегацию из пятнадцати поэтов, отправился к нему с целью уговорить работать с новым президиумом отделения Союза поэтов. Блоку было неудобно отказывать лично Николаю Степановичу, и он остался.
Через два дня Гумилёв, встретившись с Ириной Одоевцевой, сказал, что они пойдут в Знаменскую церковь. На вопрос: «Зачем?» – поэт пояснил, что он хочет заказать панихиду по безвинно убиенному поэту Михаилу Лермонтову. Надо ли говорить, как этот поступок Николая Степановича поразил Одоевцеву. В мемуарах она писала: «…Возле клироса жмутся какие-то тени… „Подождите меня, – шепчет Гумилёв, – я пойду поищу священника“ …наконец возвращается. За ним, мелко семеня, спешит маленький худенький священник… „По ком панихида? По Михаиле? По новопреставленном Михаиле?“ – спрашивает он. „Нет, батюшка. Не по новопреставленном. Просто по болярине Михаиле“. Священник кивает. Ведь в церкви, кроме нас с Гумилёвым и нищенок-старух, никого нет и, значит, можно покойника величать „болярином“. Гумилёв идет к свечному ящику, достает из него охапку свечек, сам ставит их на поминальный столик перед иконами, сам зажигает их. Оставшиеся раздает старухам. „Держите“, – и Гумилёв подает мне зажженную свечку. Священник уже возглашает: „Благословен Бог наш во веки веков. Аминь…“ Гумилёв, стоя рядом со мной, крестится широким крестом и истово молится, повторяя за священником слова молитвы. Старухи поют стройно, высокими, надтреснутыми, слезливыми голосами: „Святый Боже…“ Это не нищенки, а хор… „Со святыми упокой…“ Гумилёв опускается на колени и так продолжает стоять на коленях до самого конца панихиды… „Вечная память…“ – поют старухи, и Гумилёв неожиданно присоединяет свой глухой деревянный, детонирующий голос к их спевшемуся, стройному хору. Гумилёв подходит ко кресту, целует его и руку священника подчеркнуто благоговейно. „Благодарю вас, батюшка!..“ Он „одаривает“ и хор – каждую старуху отдельно – „если разрешите“. И они „разрешают“ и кланяются ему в пояс».
Панихида по Лермонтову – это не поза. Поэт-воин почтил память поэта-воина!.. В этот же день Н. Гумилёв поделился с Ириной Одоевцевой своими предчувствиями: «Иногда мне кажется… что и я не избегну общей участи, что и мой конец будет страшным. Совсем недавно, неделю тому назад, я видел сон. Нет, я его не помню. Но когда я проснулся, я почувствовал ясно, что мне жить осталось совсем недолго, несколько месяцев, не больше. И что я очень страшно умру… Скажите, вы не заметили, что священник ошибся один раз и вместо „Михаил“ сказал „Николай“?»
18 октября в петроградском Доме искусств принимали Герберта Уэллса. Выступили писатели Амфитеатров и Шкловский. Возможно, на этой встрече был и Николай Гумилёв. Юрий Анненков в своих воспоминаниях «Дневник моих встреч. Цикл трагедий» писал: «1920 год. Эпоха бесконечных голодных очередей, „хвостов“ перед пустыми „продовольственными распределителями“, эпическая эра гнилой промерзшей падали, заплесневелых хлебных корок и несъедобных суррогатов… Осенью этого легендарного года приехал в Петербург знатный иностранец: английский писатель Герберт Уэллс… 18 октября представители „работников культуры“ – ученые, писатели, художники – принимали знаменитого визитера в Доме Искусств. По распоряжению продовольственного комитета петербургского совета в кухню Дома Искусств были доставлены по этому случаю довольно редкие продукты. Обед начался обычной всеобщей беседой на разные темы, и только к десерту Максим Горький произнес заранее приготовленную приветственную речь. В ответ наш гость, с английской сигарой в руке и с улыбкой на губах, выразил удовольствие, полученное им – иностранным путешественником – от возможности лично понаблюдать „курьезный исторический опыт, который развертывался в стране, вспаханной и воспламененной социальной революцией“. Писатель Амфитеатров, в свою очередь, взял слово: „Вы ели здесь, – обратился он к Уэллсу, – рубленые котлеты и пирожные, правда, несколько примитивные, но вы, конечно, не знали, что эти котлеты и пирожные, приготовленные специально в вашу честь, являются теперь для нас чем-то более привлекательным, более волнующим, чем наша встреча с вами, чем-то более соблазнительным, чем ваша сигара! Правда, вы видите нас пристойно одетыми: как вы можете заметить, есть среди нас даже один смокинг (в нем пришел Н. Евреинов. – В. П.). Но я уверен, что вы не можете подумать, что многие из нас, и, может быть, наиболее достойные, не пришли сюда пожать вашу руку за неимением приличного пиджака, и что ни один из здесь присутствующих не решится расстегнуть перед вами свой жилет, так как под ним не окажется ничего, кроме грязного рванья, которое когда-то называлось, если я не ошибаюсь, ‘бельем’“… Голос Амфитеатрова приближался к истерике, и когда он умолк, наступила напряженная тишина, так как никто не был уверен в своем соседе, и все предвидели возможную судьбу слишком откровенного оратора… Вернувшись в Лондон, Уэллс опубликовал свои впечатления, где, между прочим, говорилось: „Я не верю в добрую волю марксистов, для меня Карл Маркс смешон“». Амфитеатров остался жив только потому, что уехал за границу. Такого пассажа большевики не простили бы писателю.
21 октября Гумилёв организовал вечер свободного Союза поэтов в клубе на Литейном проспекте, первый после того, как свергли Павлович и Шкапскую. Это был пир победителей. Блок после вечера в дневнике отметил: «Верховодит Гумилёв – довольно интересно и искусно. Акмеисты, чувствуется, в некотором заговоре, у них особое друг с другом обращение. Все под Гумилёвым». И здесь же пишет об отношении Гумилёва к стихам Мандельштама, который выступал на вечере: «Его стихи возникают из снов – очень своеобразных, лежащих в области искусства только. Гумилёв определяет его путь: от иррационального к рациональному (противоположность моему). Его „Венеция“. По Гумилёву – рационально все (и любовь и влюбленность в том числе), иррациональное лежит только в языке, в его корнях, невыразимое». Ранее А. Блок записал: «Гумилёв и Горький. Их сходство: волевое; ненависть к Фету и Полонскому – по-разному, разумеется. Как они друг друга ни не любят, у них есть общее. Оба не ведают о трагедии – о двух правдах. Оба (северо) – восточные».
Признание Блока вынужденное. Он констатировал, что молодежь пошла не за ним, а за Гумилёвым. И это тоже – популярность у творческой молодежи – стало одной из причин, почему большевики убрали Гумилёва.
25 октября состоялось первое занятие студии поэзотворчества в Институте живого слова, которое вели Н. Гумилёв и М. Лозинский. Занятие было посвящено ритмике стиха. Ольга Ваксель позже вспоминала: «В институте был кружок поэтов, руководимый Гумилёвым, в который я немедленно вступила. Он назывался „Лаборэмус“ (от лат. Labo remus – „давайте поработаем“). А вскоре в кружке произошел раскол, и другая половина стала называться „Метакса“ (очевидно, от греч. Metaea – „шелк-сырец“), мы их называли „мы, таксы“. В кружке происходили вечера „коллективного творчества“, на которых все упражнялись в преодолении всевозможных тем, подборе рифм и развитии вкуса. Все это было очень мило, но сепаратные занятия с Н. С. Гумилёвым, который был моим троюродным братом… нравились мне гораздо больше, потому что они происходили чаще всего в его квартире африканского охотника, фантазера и библиографа. Он жил один в нескольких комнатах, из которых только одна имела жилой вид. Всюду царил страшный беспорядок, кухня была полна грязной посуды, к нему только раз в неделю приходила старуха убирать. Не переставая разговаривать и хвататься за книги, чтобы прочесть ту или иную выдержку, мы жарили в печке баранину и пекли яблоки. Потом с большим удовольствием мы все это глотали. Гумилёв имел большое влияние на мое творчество. Он смеялся над моими робкими стихами и хвалил как раз те, которые я никому не смела показывать. Он говорил, что поэзия требует жертв, что поэтом может называться только тот, кто воплощает в жизнь свои мечты…»
В октябре случилось еще одно знаменательное событие – в бывшем здании Академии художеств открылась отчетная выставка, на которой был выставлен портрет Н. Гумилёва, написанный художницей Надеждой Шведе, ученицей Дмитрия Кардовского.
28 октября Гумилёв встречался с Михаилом Кузминым и они согласовали сроки своей поездки на выступление в Москву. В этот же день в Доме литераторов прошел десятый вечер «Альманаха», в котором принял участие и Николай Степанович. 29 октября в газете «Жизнь искусства» появилось объявление о новом отделении истории словесных искусств в Институте истории искусств, расположенном на Исаакиевской площади, 5. Среди профессорского состава был назван Н. С. Гумилёв, читавший теорию поэзии. Занятия начались в двадцатых числах ноября 1920 года.
1 ноября Гумилёв и Лозинский провели второе заседание студии поэзотворчества в Институте живого слова. Темой занятия были ритмика стиха и коллективное творчество. В этот же день Николай Степанович в своей знаменитой оленьей дохе вместе с Михаилом Кузминым уезжал в Москву выступать в Политехническом музее. На вокзал провожала его молодая поэтесса Наталья Грушко.
В поезде Гумилёв досаждал Кузмину развитием своих идей. Последний записал в дневнике: «Ехать удобно. Тепло и просторно. Выехали. Свету не было. Гум очень мил, но надоел мне акмеизмом…» Хотя поездка была обговорена заранее, тем не менее поэтов никто не встретил на вокзале, и они были удивлены таким негостеприимством. Михаил Кузмин записал в дневнике: «…В Москве очаровательная погода, много народа, есть еда, не видно красноармейцев, арестованных людей с мешками, и торгуют. Никто нас не встретил. Поплелись в ЛИТО. Встретили Дмитриева, ставит с Мейерхольдом „Зори“. ВЛИТО Шихман тоже ушел, оставя записку, что во Дворце Искусств приготовлены нам комнаты… Пошли в столовую Онуфриевой. Встретили Оцупа. Во Дворец Искусств ужасная даль. Прелестный особняк. Заходим. Комнат никаких, постелей тоже…»
Стихи поэты читали на вечере современной поэзии в Политехническом музее в Москве 2 ноября. В этот же день Николай Степанович встретился с Валерием Яковлевичем Брюсовым. Была у Гумилёва и еще одна встреча, о которой он и не мечтал и которая скрасила серость их приезда. На выступление петербургских поэтов пришла давняя ялтинская знакомая поэта Ольга Мочалова.
Сохранились довольно любопытные воспоминания о пребывании поэта в ноябре 1920 года в Москве. Л. В. Горнунг записал уже в 1923 году со слов С. М. Богомазова: «В этот приезд в Москву Николай Степанович читал стихи во многих литературных организациях (Союз Писателей, Поэтов, литературные кафе и прочее). В большой аудитории Политехнического Музея по случаю холода он читал в дохе; Кузмин и прочие – в шубах. Во время чтения „Трамвая“ в верхней боковой двери показался Маяковский с дамой. Он прислушался, подался вперед и так замер до конца стихотворения…»
«Заблудившийся трамвай» поразил даже Маяковского, который терпеть не мог акмеистов и относился к Гумилёву не совсем благожелательно. Это говорит о подлинной силе поэзии позднего Гумилёва.
3 ноября Гумилёв возвращался в Петроград с Николаем Оцупом, тоже оказавшимся в Москве. Уже 4 ноября поэт встретился с Александром Блоком, который подписал ему в этот день свою книгу стихов «Седое утро» [82]82
Издательство «Алконост» (Пг., 1920).
[Закрыть]: «Дорогому Николаю Степановичу с приветом Ал. Блок». И снова поэт погрузился с головой в работу и литературную жизнь красного Петрограда: 7 ноября он принял участие в заседании приемной комиссии Союза поэтов, 13 ноября – присутствовал на официальной части и банкете по поводу второй годовщины образования Института живого слова. В ноябре состоялось еще три занятия студии.
Интересно, что в 1920 году при создании Союза поэтов его членам была роздана анкета. Гумилёв заполнил эту анкету, почему-то указав, что он родился в 1887 году, а не в 1886-м. В графе «Образование» поставил Сорбонну, хотя и не оканчивал этого учебного заведения. Но самое главное – в другом. На вопрос: «Чем занимаетесь в настоящее время?» – он написал: «Розничной продажей домашних вещей». А на вопрос: «Какие обстоятельства мешают заниматься литературным трудом?» – ответил: «Низкая оплата труда, закрытие рынков в связи с отсутствием пайка, большая семья».
4 декабря в Петроград по приглашению Чуковского приехал Владимир Маяковский. Вечером в Доме искусств состоялся его вечер. Ирина Одоевцева описала его в книге «На берегах Невы»: «…Маяковский приехал „удивить Петербург“… Читал он стихи совсем иначе, чем было принято у нас… Голос его – голос митингового трибуна – то гремел так, что стекла звенели, то ворковал по-голубиному и журчал, как лесной ручеек… Гумилёв, церемонно и прямо восседавший в первом ряду, поднялся и, даже не взглянув на Маяковского, стал медленно продвигаться к выходу сквозь кольцо обступивших эстраду буйствовавших слушательниц».