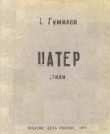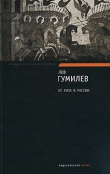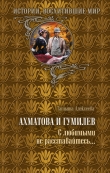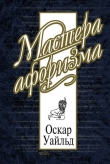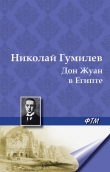Текст книги "Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта"
Автор книги: Владимир Полушин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 55 страниц)
– Там вас, барин, хочет видеть один господин.
– Какой еще господин? – удивился в свою очередь Ауслендер, он никого не ждал в этот вечер.
– Из таких, какие к вам не ходят.
Ауслендер приказал позвать. На пороге квартиры, где царил студенческий беспорядок, появился в цилиндре и черном пальто молодой человек:
– Вы, сударь, передали просьбу о встрече, и я решил не откладывать это дело в долгий ящик.
Ауслендер был шокирован внешним видом гостя, его подчеркнутой официальностью и безукоризненным платьем. Беседа не клеилась и зашла в тупик. И тут Сергей Ауслендер обмолвился, что вечером собирается на «среду» Вячеслава Иванова. Неожиданно гость оживился и изъявил желание пойти туда же. Ауслендер был поставлен в тяжелое положение, так как нужно было испросить разрешения у Иванова. Он стал отговариваться, но Гумилёв настаивал. Пришлось Сергею звонить по телефону. Самого Вячеслава Иванова дома не оказалось, ответила его падчерица Вера Константиновна Иванова-Шварсалон. Вера Константиновна подтвердила, что нужно предупредить хозяина. Ауслендер, чтобы не обидеть гостя, стал убеждать ее, что Гумилёв уже сидит у него и может воспринять отказ как личное оскорбление.
После положительного ответа Николай Степанович заметно оживился, стал рассказывать о своих путешествиях по Египту и Греции, сообщил, что живет в Царском Селе, и официально пригласил Ауслендера к себе в гости. Ауслендер не ожидал такого напора и начал отказываться, ссылаясь на занятость и отсутствие свободного времени.
– Ну, милостивый государь, – холодно заметил Гумилёв, – если вы хотите продолжить наше знакомство, то найдете время.
На этой официальной ноте будущие друзья окончили беседу и отправились на Таврическую улицу, 25.
Вечер был самый обычный, присутствовало не так много гостей. Иванов нового поэта встретил довольно приветливо. За вечерней трапезой, когда был осушен не один стаканчик красного вина, Вячеслав Иванович попросил гостя что-нибудь прочитать. Гумилёв начал читать, медленно растягивая слова, недавно написанное стихотворение:
Он был героем, я – бродягой,
Он – полубог, я – полузверь.
Но с одинаковой отвагой
Стучим мы в замкнутую дверь.
Пред смертью все, – Терсит и Гектор,
Равно ничтожны и славны,
Я также выпью сладкий нектар
В полях лазоревой страны…
(«В пустыне», 1908)
Попросили почитать еще. И Николай Степанович читал недавно написанное – «В муках и пытках рождается слово…». Как вспоминал сам Сергей Ауслендер: «…стихи действительно были хорошие. Вячеслав Иванов, по своему обычаю, превозносил их. Гумилёв держался так, что иначе как бы и быть не может». Лед отчуждения был растоплен, Гумилёв в этот вечер долго рассказывал о своих путешествиях. Лидия Иванова вспоминала через много лет: «Среди разговоров за столом были и такие, которые увлекали одинаково и меня, и моего отца. Это были, например, рассказы Гумилёва об Африке, которые он чередовал с чтением стихов:
Далеко, далеко на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Мы оба слушали, затаив дыхание, т<ак> к<ак> отец имел в душе много струн совсем юношеских и при живом воображении любил отдаваться переживаниям, неосуществимым для него реально». Романтик обрел романтика. Оба остались довольны друг другом, и Гумилёв получил приглашение бывать у Иванова в любое время.
Ауслендер, обрадовавшись, что его нового знакомого так тепло принял мэтр, пригласил провести остаток вечера у него.
Вернувшись на Вознесенский проспект, новые друзья отметили удачу Гумилёва красным вином и черствым хлебом. Гумилёв скинул сюртук и манишку, оставшись в полосатой рубашке, и всю чопорность его как рукой сняло. Только утром он отправился домой в Царское Село.
В Царском Селе поэт возобновил знакомство с художниками Кардовскими. Гумилёв нанес Кардовским официальный визит, надев свой знаменитый цилиндр и черный фрак. Николай Степанович увидел, как преобразились их комнаты. Ольга Людвиговна в беседе заметила, что хотела бы написать портрет молодого поэта, и если он не против, то она, не откладывая, начала бы работать. Гумилёв, не избалованный вниманием художников, с радостью, но с чувством собственного достоинства дал согласие и стал еженедельно бывать в мастерской Кардовской. Во время сеансов или после них поэт часто говорил о своей жизни в Париже, о посещении им вечеров известной тогда художницы Е. С. Кругликовой, о своей университетской жизни, где он нашел множество своих единомышленников.
О том, как вел себя Гумилёв на сеансах художницы, вспоминала потом сама Ольга Людвиговна: «…В тот период, когда я задумала написать его портрет, он носил небольшие, очень украшавшие его усы. Бритое лицо, по-моему, ему не шло. Во время сеансов Николай Степанович много говорил со мной об искусстве и читал на память стихи Бальмонта, Брюсова, Волошина. Читал он и свои гимназические стихи, в которых воспевался какой-то демонический образ. Однажды я спросила его: „А кто же героиня этих стихов?“ Он ответил: „Одна гимназистка, с которой я до сих пор дружен. Она тоже пишет стихи…“ Стихи он читал медленно, членораздельно, но без всякого пафоса и слегка певуче. Николай Степанович позировал мне стоя, терпеливо выдерживая позу и мало отдыхая. Портрет его я сделала поколенным. В одной руке он держит шляпу и пальто, в другой поправляет цветок, воткнутый в петлицу. Кисти рук у него были длинные, сухие. Пальцы очень выхоленные, как у женщины… Несмотря на некоторые замечания, портрет свой он одобрил, но ему хотелось, чтобы глаза были поставлены прямо. Однако, поскольку это сразу же меняло все выражение его лица, я настояла на своем и написала глаза чуть косыми».
К Кардовским приходил не только Гумилёв. Часто художников навещал двадцатисемилетний поэт, граф Василий Алексеевич Комаровский, считавшийся в Царском Селе человеком странным. Ольга Людвиговна испросила согласие познакомить с ним Николая Степановича. Тот выразил согласие. Кардовская похлопотала за графа, так как тот был наслышан о Гумилёве. И вот в ноябре состоялась встреча двух поэтов в мастерской Ольги Людвиговны. Она пригласила их за стол и за чаем с домашним пирогом мирная и дружественная беседа совершенно неожиданно переросла в большой спор о поэзии. Граф Комаровский отстаивал позиции полного соответствия между формой и содержанием стиха, а находившийся тогда под впечатлением Леконта де Лиля Гумилёв доказывал главенство формы. Граф разволновался, его речь приобрела импульсивный характер. Гумилёв же оставался невозмутимым, как мраморная статуя, и только медленно и степенно ронял слова, отстаивая свою правоту, всем своим видом стараясь показать Василию Алексеевичу, что он попросту в поэзии еще многого не знает. Так, Гумилёв уже осенью 1908 года почувствовал в себе задатки мэтра от поэзии. Спор зашел так далеко, что Кардовская даже испугалась, как бы эта встреча не переросла в ссору. Как показалось Кардовской, они ушли врагами. Гумилёв на прощание сказал Ольге Людвиговне: «Вы знаете, Василий Алексеевич большой чудак! С ним невозможно разговаривать!»
На этом, казалось бы, их знакомство и должно было закончиться. Но каково же было удивление Кардовской, когда на другой день Гумилёв пришел на очередной сеанс вместе с графом Комаровским.
29 ноября 1908 года наконец осуществилась мечта Гумилёва познакомиться с модным тогда поэтом Александром Блоком. В тот вечер Гумилёв пришел на очередной журфикс к Вячеславу Иванову и там был представлен Александру Александровичу.
В Санкт-Петербургском университете Гумилёв тоже очень быстро нашел единомышленников. В ту пору там «обитали» братья Городецкие. Сергей Городецкий писал заумные стихи, которые нравились Блоку:
…«Удрас, Удрас,
Поди ко мне.
Веселый!
Удрас, Удрас,
Пади на нас,
Тяжелый,
А ты, Барыба,
Обремени,
Беремя, Барыба,
Пошли»…
Сергей Городецкий возрождал в поэзии язычество. Эти воззрения привели его в конце концов в стан футуристов. Брат его, Александр, слыл талантливым художником. Именно Сергей Городецкий создал в стенах университета кружок молодых, который, по его мысли, должен был противостоять старшему поколению поэтов круга Вячеслава Иванова. Жил Городецкий на Лиговке, и на его квартире часто проходили собрания молодых. Среди членов кружка были Н. В. Недоброво, скульптор Стелецкий, приходил начинающий поэт Яков Годин, а также друзья Блока – Евгений Иванов, сестры Зинаиды Гиппиус – Татьяна и Наталья, музыкант А. А. Мерович, Петр Сергеевич Мосолов, пианист. Несколько раз приезжал на занятия кружка Андрей Белый. Правда, заносчивый Недоброво пришелся не ко двору, и его перестали извещать о занятиях кружка.
В университете выходил журнал «Студенчество». Редактировали его А. И. Гидони и Сергей Городецкий. Вскоре слава о кружке распространилась далеко за пределы университета. Узнал о кружке и Николай Гумилёв, приступивший осенью к занятиям на юридическом факультете. Кружок молодых проводил свои занятия в так называемом «Музее Древностей». Эти четыре комнаты были в ведении профессора истории искусств Д. Б. Айналова, и тот благосклонно относился к братьям Городецким. Занятия в кружке проводились вечером, и голодных студентов, спешащих сюда после лекций, часто выручал сторож Михаил, который приносил кружковцам булочки и пирожки по очень доступной цене. Споры по вопросам искусства, философии и поэтические вечера длились до глубокой ночи. Постоянными участниками кружка стали Д. Цензор, поэт П. П. Потемкин, появлялся на собраниях и М. А. Кузмин. В правлении кружка молодых был Д. В. Кузьмин-Караваев, который являлся родственником Н. С. Гумилёва и дружил с С. Городецким. Был в университете и соперничавший с кружком молодых кружок реалистов. В это же время в университете учились П. Потемкин, В. Пястовский (Пяст).
Гумилёв, увлекшись творческой жизнью, не особенно утруждал себя занятиями на юридическом факультете. Да и новые друзья звали его на романо-германское отделение. Гумилёв юридический не бросил, но и особого рвения к наукам не проявлял.
Осень 1908 года, наверное, была все-таки довольно трудной для поэта. Об этом можно судить хотя бы по тому, что написал он за это время совсем немного. Правда, его произведения печатаются в солидных журналах и газетах. Так, поэт опубликовал ряд рецензий на книги известных поэтов, таких как Ф. Сологуб и К. Бальмонт.
В печати появляется целый ряд рецензий на книги самого Гумилёва. 1 сентября газета «Новый путь» публикует рецензию на книгу Гумилёва «Романтические цветы». Автор рецензии скрылся за инициалами П.П. 29 сентября в газете «Понедельник» (приложение газеты «Утро») опубликовал рецензию на «Романтические цветы» Сергей Городецкий. 15 декабря появляются рецензии на эту же книгу в газете «Речь» сразу двух авторов – И. Анненского (подписана И. А.) и В. Брюсова. И вовсе не важно для поэта, кто его больше хвалил или ругал: главное, что его имя на слуху. Он с гордостью пишет Валерию Брюсову в письме от 30 ноября: «Я окончательно пошел в ход: приглашен в три альманаха: „Акрополь“ С. Маковского, о котором Вы, наверное, знаете, в „Семнадцать“ – альманах „Кошкодавов“, и в альманах Городецкого „Кружок молодых“. В каждый я дал по циклу стихотворений. И критика ко мне благосклонна. Пока обо мне написали в 6-ти изданиях и, кажется, напишут еще в трех. Но эти успехи заставляют меня относиться очень недоверчиво к себе. И я думаю отложить издание моих „Жемчугов“ с назначенного Вами февраля на сентябрь»… В молодом поэте просыпается мастер слова. Теперь, когда нет препятствий к изданию и такое известное издательство, как «Скорпион», берет его книгу стихов, он сам отодвигает срок.
19 декабря Гумилёв сообщает Брюсову: «Я много работаю и все больше над стихами. Стараюсь по Вашему совету отыскивать новые размеры, пользоваться аллитерацией и внутренними рифмами. Хочу, чтобы „Золотая магия“ уже не была „ученической книгой“, как „Ром. цветы“». Меньше месяца прошло после предыдущего письма, а поэт уже поменял название будущей книги: вместо «Жемчугов» появляется «Золотая магия». Но позже, видимо, Брюсов или кто-то другой отсоветовали ему менять название рукописи. А может быть, Николаю Степановичу и самому разонравилось вычурное название. Новых стихотворений осенью и в декабре поэт написал мало, возможно, потому, что серьезно готовился к изданию книги и правил написанные ранее стихи. Среди написанных в ноябре появились и новые произведения: третье стихотворение из цикла «Жизнь веков» (первые два «Варвары», «Андрогин») с символическим началом «Кончено время игры…», потом – стихи «Рощи пальм и заросли алоэ» и «Она колдует тихой ночью…». До декабря поэт пишет «В пустыне» («Давно вода в мехах иссякла…») и «Правый путь» («В муках и пытках рождается слово…»). В середине декабря у Гумилёва появляется стихотворение «Князь вынул бич…» («Охота»), и он заканчивает наконец повесть «Белый единорог». 15 декабря в письме В. Брюсову он интересуется, не взял бы тот для печати «фантастическую повесть „Белый Единорог“ (4,5 печатных листа) в духе „Дориана Грея“», и просит мэтра поместить заметку в каталоге «Скорпиона» о том, что готовится его книга под названием «Золотая магия».
Сам Гумилёв стал персонажем драмы «Маков цвет» 3. Гиппиус, Д. Мережковского и Д. Философова, где он был выведен под фамилией Гущин. Драма вышла в 1908 году в Санкт-Петербурге в издательстве М. В. Пирожкова.
И все же, несмотря на свои явные успехи, на признание в литературных салонах и журналах, Гумилёв не чувствует себя счастливым. Киевская колдунья является ему в сновидениях и видениях поэтических. Об этом красноречиво говорит написанное в ноябре стихотворение «Месть», или «Колдунья» (1908).
Она колдует тихой ночью
У потемневшего окна
И страстно хочет, чтоб воочью
Ей тайна сделалась видна.
Как бред, мольба ее бессвязна,
Но мысль, упорна и горда, —
Она не ведает соблазна
И не отступит никогда.
………………………………….
На мертвой площади, где серо
И сонно падает роса,
Живет неслыханная вера
В ее ночные чудеса…
Конечно, здесь все дышит воспоминанием о ней… С Рождеством Христовым и Новым годом поэт Анну не поздравил. Впрочем, как и она его.
20 декабря Гумилёв отправился на вечер кружка Случевского, который на этот раз проходил на квартире у профессора В. М. Грибовского, жившего на Измайловском проспекте, 7. Известно, что Гумилёв на вечере прочел свое стихотворение «Северный Раджа», написанное до 20 декабря 1908 года. И в этом стихотворении, посвященном сыну Иннокентия Анненского, где поэт перекликается с апокрифическими преданиями о путешествии молодого Иисуса Христа в Индию, прорываются строки:
И каждый мыслил: «Я в бреду,
Я сплю, но радости все те же,
Вот встану в розовом саду
Над белым мрамором прибрежий.
И та, которую люблю,
Придет застенчиво и томно,
Она близка… Теперь я сплю,
И хорошо у грезы темной».
Ему казалось, что именно та должна будет прийти к нему в наступающем новом, 1909 году.
Глава VII ДУЭЛЬ НА ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ
1909 год навсегда остался в памяти Гумилёва двумя неприятными эпизодами, тесно связанными между собой. А начиналось все так хорошо!..
Весной 1909 года Гумилёв отправился на лекцию в Академию художеств, где повстречался с Максимилианом Волошиным. Там же его представили выпускнице Женского Императорского института по двум специальностям (средняя история и французская средневековая литература), ставшей недавно вольнослушательницей в Санкт-Петербургском университете на лекциях по испанской литературе и старофранцузскому языку. Училась она у известного педагога Александра Веселовского и попутно преподавала в приготовительном классе женской гимназии, которая отличилась тем, что однажды ее ученицы на вопрос проверяющего: «Кого из русских царей вы больше всего любите?» – дружно ответили: «Конечно, Гришку Отрепьева!»
Гумилёв тут же вспомнил Париж, ночное кафе, цветы, разговоры о жизни и о России. Это была Елизавета Дмитриева. Кто бы мог подумать, что эта встреча станет роковой! Вот как сама Дмитриева описала обстоятельства этого знакомства в своей «Исповеди», которую завещала опубликовать только после ее смерти: «…я была в большой компании на какой-то художественной лекции в Академии художеств, – был М. А. Волошин, который казался тогда для меня недосягаемым идеалом во всем. Ко мне он был очень мил. На этой лекции меня познакомили с Н. С. (Гумилёвым. – В. 77.), но мы вспомнили друг друга. – Это был значительный вечер моей жизни. – Мы все поехали ужинать в „Вену“ (известный ресторан того времени. – В. П.), мы много говорили с Ник. Степ, об Африке, почти в полусловах понимая друг друга, обо львах и крокодилах. Я помню, я тогда сказала очень серьезно, потому что я ведь никогда не улыбалась: „Не надо убивать крокодилов“. Ник<олай> Степ<анович> отвел в сторону М. А. и спросил: „Она всегда так говорит?“ – „Да, всегда, – ответил М. А. – Я пишу об этом подробно, потому, что эта маленькая глупая фраза повернула ко мне целиком Н. С.“ Он поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это „встреча“ и не нам ей противиться. „Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей, я нашел себе подругу из породы лебедей“, – писал Н. С. на альбоме, подаренном мне. Мы стали часто встречаться, все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи… возвращались на рассвете по просыпающемуся серо-розовому городу».
В минуты отдыха Елизавета рассказывала о себе. Родилась она 31 марта 1887 года в обедневшей дворянской семье, была младшей и все детство тяжело проболела. В семье дети страдали серьезными недугами. У старшей сестры обнаружили чахотку. Брат был с психическими отклонениями.
С семи до шестнадцати лет Елизавета – Лиля, как называли ее близкие, – не вставала с постели, страдая туберкулезом костей и легких. Во время психических приступов брат издевался над больной сестрой, добиваясь, чтобы она сказала, что выйдет замуж и родившихся у нее детей отдаст ему на растерзание.
Первое воспоминание Лили из детства – наклоненное над ней лицо мамы, когда она только что очнулась от обморока. Самое яркое впечатление – бабушка заставляет ее целовать образ целителя Пантелеймона и говорить: «Младенец Пантелеймон! Исцели младенца Елисавету!» Запомнились бессонные болезненные ночи, состояние отрешенности от жизни и как маленькая надежда – горящая лампадка у иконы Божьей Матери Всех Скорбящих Радость. Видимо, помогла ее вера. Однажды девочка встала на ноги, хотя ей было больно. Постепенно она научилась ходить, прихрамывая. С тех пор как старшая сестра прочитала ей сказку Христиана Андерсена о Русалочке, которой тоже было больно ступать, Лиля постоянно помнила о морской царевне и ей казалось, что и в ее жизни должны происходить чудеса. В четырнадцать-пятнадцать лет она мечтала о судьбе праведницы, святой и радовалась тому, что Бог посылает ей испытания и тяжелые болезни. Тем не менее Лиля упорно училась и в семнадцать лет окончила с золотой медалью гимназию. В 1904 году она поступила в Женский Императорский педагогический институт.
В это время в девушку влюбляется инженер-путеец Вениамин Васильев. Сначала она соглашается стать его невестой, отвечает на его страстную любовь. Но постепенно начинает понимать, что Вениамин, пусть хороший и влюбленный в нее молодой человек, не сможет дать ей яркую жизнь, которую рисовало ее экзальтированное воображение. Ведь она писала стихи и мечтала о встречах с необыкновенными людьми, каковыми считала всех поэтов. После многолетнего затворничества ее душа рвалась к неизведанному. И тут на ее горизонте появляется поэт Максимилиан Волошин. Она готова его полюбить… Но Макс не выказывает ей своей заинтересованности. А тут Гумилёв, у него все написано в глазах. Она не могла устоять. Если нельзя быть с Максом, то почему не провести время с Гумилёвым? Да еще этот пьяный месяц апрель, чувства бьют через край. Они постоянно где-то бывают: то в «башне» Вячеслава Иванова, то на литературных вечерах, то на лекциях. Гумилёв дарит Лиле свою книгу стихотворений «Романтические цветы». Ей импонирует, что поэт интересуется старофранцузскими песнями, которые изучает и она. Они пишут друг другу сонеты. Между ними устанавливаются отношения романтической любви. Гумилёв – рыцарь, преданно служащий своей даме, как в романе Сервантеса. Именно Дон Кихот – любимый герой Дмитриевой с детства. Гумилёв начинает поэтическую игру – он пишет сонет на заданные слова и просит то же сделать своих респондентов. Лиле он посылает такой сонет:
Тебе бродить по солнечным лугам,
Зеленых трав, смеясь, раздвинуть стены!
Так любят льнуть серебряные пены
К твоим нагим и маленьким ногам.
Весной в лесах звучит веселый гам,
Все чувствуют дыханье перемены;
Больны луной, проносятся гиены,
И пляски змей странны по вечерам.
Как белая восторженная птица,
В груди огонь желанья распаля,
Приходишь ты, и мысль твоя томится:
Ты ждешь любви, как влаги ждут поля;
Ты ждешь греха, как воли кобылица;
Ты страсти ждешь, как осени земля!
(«Тебе бродить по солнечным лучам», 1909)
Лиля отвечает Гумилёву:
Закрыли путь к нескошенным лугам
Темничные, незыблемые стены;
Не видеть мне морских опалов пены,
Не мять полей моим больным ногам.
За окнами не слышать птичий гам,
Как мелкий дождь, все дни без перемены.
Моя душа израненной гиены
Тоскует по нездешним вечерам.
По вечерам, когда поет Жар-птица,
Сиянием весь воздух распаля,
Когда душа от счастия томится.
Когда во мгле сквозь темные поля.
Как дикая степная кобылица,
От радости вздыхает вся земля…
И в это же время сообщает Волошину: «Гумилёв прислал мне сонет, и я ответила: посылаю на Ваш суд. Пришлите и вы мне сонет». Волошин тоже включается в игру и присылает сонет и Гумилёву, и Дмитриевой на те же рифмы:
СЕХМЕТ
Влачился день по выжженным лугам.
Струился зной. Хребтов синели стены.
Шли облака, взметая клочья пены
На горный кряж. (Доступный чьим ногам?)
Чей голос с гор звенел сквозь знойный гам
Цикад и ос? Кто мыслил перемены?
Кто с узкой грудью, с профилем гиены
Лик обращал навстречу вечерам?
Теперь на дол ночная пала птица,
Край запада луною распаля.
И перст путей блуждает и томится…
Чу! В темной мгле (померкнули поля…)
Далеко ржет и долго кобылица,
И трепетом ответствует земля.
Макс зовет на лето Лилю к себе, в Коктебель, он очень хочет заполучить ее в свои «чертоги». Дмитриева пригласила с собой Гумилёва. Он с радостью согласился. Но Макс уже начал ревновать Гумилёва к Дмитриевой. Она это почувствовала, однако отменить поездку без видимых причин сложно. В письме Волошину от 13 мая она оправдывается: «Дорогой Макс, я уже три дня лежу, у меня идет кровь горлом, и мне грустно. А ваше письмо пришло сегодня, оно – длинное, ласковое и в нем много стихов. Стало лучше. Ваш сонет „о гиене“ лучший из трех… У нас холодно. Думаю о Вас много и скучно от здешнего… Если достану билеты, то выеду 24-го в воскресенье; в первый день, когда могу. Марго ждать не стану (первая жена Волошина художница Маргарита Васильевна Сабашникова. – В. П.). В Москве ко мне, может быть, присоединится Гумилёв, если ему не очень дешево в III классе. Но я бы лучше хотела ехать одна. Хочется видеть Вас, милый Макс…» Насчет Гумилёва она лукавит. Он в Петербурге, и ехать они должны вместе. Она не хочет, чтобы Макс знал, что они все время проводят вместе и вместе планировали поездку в Коктебель. У Елизаветы свои планы, но она не знает, как сложатся в Крыму ее отношения с Максом, поэтому пока держит в неведении Гумилёва. А он настолько привязался к этой малокрасивой и больной женщине, что готов был взять ее в жены. Сама Дмитриева признавалась: «Много раз просил меня Н. С. выйти за него замуж, никогда не соглашалась я на это; – в это время я была невестой другого (то есть Васильева. – В. П.). Те минуты, которые я была с ним (с Гумилёвым. – В. П.), я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась…»
Гумилёв и понятия не имел, что Волошин питал надежды на продолжение отношений с Лилей, для того и пригласил ее в Крым. Конфликт уже созрел, его умело сплела Елизавета Дмитриева. 22 мая она пишет Волошину откровенное письмо: «Дорогой Макс, уже взяты билеты и вот как все будет: 25 мая в понед. Мы с Гумилёвым едем… В Москве мы останемся до 27-го вечера, а потом уже с Марго едем дальше, по моим расчетам мы приедем в субботу в 7 ч. утра в Феодосию, п<отому> ч<то> едем в III кл… Гум<илев> напросился, я не звала его, но т<ак> к<ак> мне нездоровится, то пусть… Я Вас оч<ень> хочу видеть и оч<ень> люблю. Лиля». Бедный Николай Степанович, знал бы он, что пишет его Лизавета, наверняка бы не стал собираться в дорогу. Но, увы, сети были раскинуты искусно и коварно.
20 мая 1909 года Гумилёв писал Волошину: «Дорогой Максимилиан Александрович! Вы меня очень обрадовали и письмом, и сонетом, и визитом. На последний я Вам отвечаю в этом письме через два часа после его получения (сонет „Облака“). Я написал еще сонет – посвящение Вячеславу Иванову, и он пишет мне ответ. Если хотите поспорить с более достойным Вас противником, я прилагаю Вам мои рифмы – книга – полудней – рига – будней – расстрига – трудный – верига – судный – слоновью – пророку – сердца – единоверца – року – кровью (речь идет о сонете Гумилёва „Освобождение“. – В. П.). Как видите, рифмы не вполне точны. Это Ваш развращающий пример. В Коктебель я думаю выехать числа 27, вряд ли раньше, может быть позже. В Петербурге новостей нет, разве то, что Кузмин поссорился с Позняковым (Сергеем Сергеевичем), Потемкин пропал без вести…» Гумилёв приложил к письму свой сонет «Нежданно пал на наши рощи иней…»:
Нежданно пал на наши рощи иней,
Он не сходил так много-много дней,
И полз туман, и делались тесней
От сорных трав просветы пальм и пиний.
Гортани жег пахучий яд глициний,
И стыла кровь, и взор глядел тусклей,
Когда у стен раздался храп коней,
Блеснула сталь, пронесся крик эриний.
Звериный плащ полуспустив с плеча,
Запасы стрел еще не расточа,
Как груды скал, задумчивы и буры,
Они пришли, губители богов,
Соперники летучих облаков,
Неистовые воины Ассуры.
Известен и ответ Волошина:
Гряды холмов отусклил марный иней.
Громады туч по сводам синих дней
Ввысь громоздя (все выше, все тесней)
Клубы свинца, седые крылья пиний,
Столбы снегов и гроздьями глициний
Свисают вниз… Зной глуше и тусклей.
А по степям несется бег коней.
Как темный лёт разгневанных эриний.
И сбросил гнев тяжелый гром с плеча,
И, ярость вод на долы расточа,
Отходит прочь. Равнины медно-буры.
В морях зари чернеет кровь богов.
И длинные встают меж облаков
Сыны огня и сумрака – ассуры.
Пока это была только литературная дуэль.
25 мая Гумилёв и Дмитриева убыли из Петербурга в Москву. В Москве, сразу же по приезде, Николай Степанович со своей спутницей отправился к Валерию Яковлевичу Брюсову, но, не застав его, оставил в редакции записку. Тот в свою очередь оставил записку для Гумилёва: «Очень жалею, что Вы меня не застали… я могу быть дома между 9 и 12 вечера. Если это для Вас возможно, приезжайте в эти часы ко мне „пить чай“. Буду очень рад».
Гумилёв с Дмитриевой остановились в гостинице «Славянский базар» на Никольской улице. Получив из редакции приглашение учителя, в тот же вечер Гумилёв отправился к мэтру и представил ему свою спутницу. Говорил ли он о ее стихах, неизвестно. Известно другое: у них состоялся обстоятельный разговор о сонетах, Брюсов хвалил сонеты Бутурлина. На другой день Николай Степанович купил книжечку стихотворений Бутурлина и подарил его своей спутнице с надписью: «Лиле, по приказанию Брюсова».
28 мая они покинули Москву. Об этой поездке Дмитриева писала в своей «Исповеди»: «Все путешествие туда я помню, как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его „Гумми“, не любила имени Николай, а он меня, как зовут дома, „Лиля“ – „имя похоже на серебристый колокольчик“, так говорил он».
31 мая путешественники были в Коктебеле. Можно себе представить, каково было видеть Волошину ни о чем не догадывающегося Гумилёва. Елизавета по выражению лица Макса поняла, что он готов ее любить.
Гумилёва поселили на третьем этаже в маленькой комнатке рядом с лестницей (шесть с половиной шагов на три шага). Маленькое окно смотрело на Сюрью-Кая и Святую Гору. Покатый деревянный потолок на шести балках нависал над головой. В комнатке помещались лишь маленький белый столик да деревянная кровать. Но именно тут поэт написал своих знаменитых «Капитанов».
Елизавету Макс поселил в удобной просторной комнате, увешанной коврами. Рядом с кроватью стояли большой стол и античная арфа.
Скоро Гумилёв заметил, что отношение Лили к нему стало меняться. Она часто уходила с Максом, ничего ему не говоря. Она добилась своего: Макс захотел ее. В воспоминаниях она признается: «В Коктебеле все изменилось. Здесь началось то, в чем больше всего виновата я перед Н. Ст. Судьбе было угодно свести нас всех троих вместе: его, меня и М. Ал. (имеется в виду Волошин. – В. П.) – потому что самая большая моя в жизни любовь, самая недосягаемая это был Макс. Ал. Если Н. Ст. был для меня цветение весны, „мальчик“, мы были ровесники, но он всегда казался мне младше, то М. А. для меня был где-то вдали, кто-то никак не могущий обратить свои взоры на меня, маленькую и молчаливую… Я узнала, что М. А. любит меня, любит уже давно, – к нему я рванулась вся, от него я не скрывала ничего. Он мне грустно сказал: „Выбирай сама. Но если ты уйдешь к Г-ву (Гумилёву. – В. П.) – я буду тебя презирать“. – Выбор уже был сделан, но Н. С. все же оставался для меня какой-то благоуханной, алой гвоздикой. Мне все казалось, что хочу обоих, зачем выбор?»
Гумилёв оказался в неудобном положении и не знал, куда себя деть. Хорошо еще, что в это время у Волошина гостили граф Алексей Толстой со своей женой Софьей Дымшиц-Толстой, а также поэтесса Поликсена Соловьева.
Однажды гости Волошина устроили поэтический конкурс. Пять поэтов: Николай Гумилёв, Алексей Толстой, Поликсена Соловьева, Максимилиан Волошин и Елизавета Дмитриева – состязались в создании поэтического портрета красавицы-жены графа – Софьи. Лучшим, естественно, было признано стихотворение самого графа.
С каждым днем пребывание Гумилёва в Коктебеле становилось все более и более двусмысленным. Тогда Дмитриева сама попросила его уехать. Алексей Толстой позже вспоминал об этих событиях: «Его (то есть Гумилёва. – В. П.) карманы были набиты пауками, посаженными в спичечные коробки. Затем он заперся у себя в чердачной комнате дачи и написал замечательную, столь прославленную впоследствии поэму „Капитаны“… После этого он выпустил пауков и уехал…» Так начал завязываться узел, которому было суждено развязаться в ноябре 1909 года.
Дмитриева осталась на все лето в Коктебеле. Вдвоем с Максом они проводили время весело, наслаждаясь любовью и морем. Однажды волной на берег прибило корень виноградной лозы. Он был так вычурно обработан водой, что Волошин решил взять его себе на память. Дома придумали ему имя. Волошин вспоминал: «Он (корень. – В. П.) жил у меня в кабинете… пока не был подарен мною Лиле… Имя ему было дано в Коктебеле. Мы долго рылись в чертовских святцах [7]7
Имеется в виду популярная в то время книга «Демономания» Жана Бодена (1530–1596).
[Закрыть]и, наконец, остановились на имени „Габриах“. Это был бес, защищающий от злых духов». Как известно, заигрывание с чертом до добра никогда не доводит. Но Волошин и Дмитриева тогда об этом не думали. Этот-то черт и стал началом мистификации, которая разыгралась осенью, когда Лиля и Макс вернулись в Петербург.