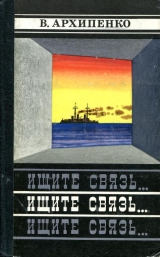
Текст книги "Ищите связь..."
Автор книги: Владимир Архипенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
«УЗЕЛОК» НАДО РАСПУТАТЬ
«Без хорошего провокатора не сделаешь карьеры. Только там, где есть солидные сотрудники, выдвигаются жандармы».
(Раздумья ротмистра Саратовского жандармского управления Мартынова)
«Весь секрет успеха в борьбе с революцией – это достаточно быстрый отбор п р е с т у п н ы х элементов из неизмеримой массы н е д о в о л ь н ы х».
(Газета «Новое время», 21 апреля 1912 г.)
Вечером ветер усилился, начался крупный холодный дождь. Миноносец упрямо преодолевал встречные волны, вздрагивал под их ударами. На траверсе маяка Родшер корабль пошел тише. Близилась полночь, когда он оказался у входа в Гельсингфорсский порт. С мостика миноносца замигал сигнальный фонарь. Вахтенные стоявших на рейде кораблей пытались разобрать текст, но не смогли – он был зашифрован. Из глубины гавани замелькали ответные вспышки. Миноносец на малом ходу пошел к берегу, но не туда, где стояли у стенки эсминцы дивизиона, а поближе к причалам, куда обычно подходили пассажирские пароходы. Когда миноносец пришвартовался и был спущен трап, на берег первым сошел высокий человек в плаще. На причале его ждали офицер-моряк и жандарм. Прибывшего проводили к автомобилю, стоявшему невдалеке, и вежливо открыли дверцу. Услужливость вполне попятная, если учесть, что чиновник для особых поручений департамента полиции Александр Ипполитович Мардарьев прибыл в Гельсингфорс с широкими полномочиями.
…Александр Ипполитович Мардарьев – старший сын известного московского адвоката – в юности никак не полагал, что свяжет свою судьбу с политическим сыском. Напротив, будучи еще гимназистом, он представлял свою судьбу связанной с теми, кто геройски стрелял в царских министров и в самого царя. Как человек способный и начитанный, он поступил на юридический факультет Московского университета, быстро связался там со студентами, образовавшими так называемую «боевую группу действия». Побывав несколько раз на подпольных встречах, он понял, что его новые товарищи не обладают разработанной программой действий и, видимо, не принадлежат ни к одной из известных партий. Он узнал, что его друзья готовят покушение на московского генерал-губернатора и организовали с этой целью домашнюю мастерскую по производству нитроглицерина. Познакомился постепенно с составом группы, но, конечно, знать не мог, что самый активный ее участник и чуть ли не главный инициатор ее создания – Михаил Копысов – был провокатором московской охранки. Студенческая группа была вскоре арестована, и вместе с нею в Бутырскую тюрьму угодил Мардарьев.
В общей камере «Бутырок» молодой Мардарьев, может быть, впервые в жизни всерьез задумался над своей судьбой. До сих пор в его жизни трудностей не было. Родители его баловали, ученье давалось ему легко, окружающие благодаря его общительному и веселому праву относились к нему хорошо. Александр был признанным жизнелюбом, не отказывал себе в удовольствиях, ценил комфорт. Воспитанный матерью с детства в культе чистоты и аккуратности, брезгливый по натуре, он с первых минут пребывания в камере начал задыхаться от смрадной вони параши, от запаха немытых тел арестантов. В первую тюремную ночь он вскочил с деревянных нар как ошпаренный, когда его начали кусать клопы. Его, в жизни не видевшего клопа, едва не стошнило, когда, раздавив пальцами одного из них, он почувствовал едкий противный запах. Мардарьев так и не смог себя заставить лечь в эту ночь. Находившиеся в камере вместе с политическими арестованными уголовники, увидев в нем чистюлю-барчука, попробовали было сделать из него объект для изощренных тюремных издевательств, но выручили товарищи-студенты.
Вот тогда-то, в переполненной камере Бутырской тюрьмы, в одну из бессонных ночей под храп и сопение арестантов, вдруг остро и отчетливо понял молодой Мардарьев, что тюремная жизнь – это не для него. И если революционная деятельность почти для всех неизбежно связана с тюрьмами, ссылками, с грязью, вонью, полуголодным существованием, с побоями и издевательствами, то подальше надо бежать от этой самой деятельности. Пусть ею занимаются другие – у кого воля покрепче да и кожа потолще. А ему надо кончать с опасной и совсем не романтической игрой в революцию.
Именно после этой ночи на допросе Александр предельно четко рассказал жандармскому подполковнику все, что он знал о своих товарищах. Сопоставив его сведения с теми, которые он имел от своего агента, подполковник был поражен почти полным их совпадением, но вынужден был признать, что психологические характеристики Мардарьева куда более глубоки, чем у агента. Заинтересовался он и тем обстоятельством, что Мардарьев путем логических умозаключений сам пришел к выводу, что в группе был провокатор, и даже точно указал, кто именно.
Подполковник доложил об интересном арестанте начальнику Московского охранного отделения, и тот пожелал сам переговорить со студентом. Так состоялась первая встреча Мардарьева с известным Зубатовым, который определил, что имеет дело с человеком незаурядных способностей.
Предложение стать внутренним агентом Александр отверг и предложил свой вариант – по получении юридического образования стать официально штатным работником Московского охранного отделения. «А вы уверены, – спросил его Зубатов, улыбаясь, – что у вас будет возможность продолжать образование?» – «Уверен, Сергей Васильевич», – также улыбаясь, ответил Александр. – «А почему?» – «Потому что вижу это по тону и характеру наших разговоров». – «Ну что же, может быть, – сказал тогда Зубатов. – Знающие люди нам нужны. Я сам порой чувствую, что мне недостает образования».
Товарищи по «боевой группе» пошли в Вологодскую ссылку, а Мардарьев вместе с тремя студентами из этой же группы вернулся в университет. Троих выпустили по мотивировке «за недоказанностью улик» специально для прикрытия Александра. Что касается провокатора, то его тоже отправили в ссылку, чтобы не раскрывать до поры до времени. Услышав об этом, Мардарьев лишний раз порадовался тому, что не стал на трудный и сложный путь внутреннего агента.
Три года спустя Зубатов официально взял его работать в охранное отделение и немало повозился с ним, видя в нем прилежного, старательного, а главное, очень быстро схватывающего суть дела ученика. Он питал к Мардарьеву некоторую слабость и благоволил к нему оттого, может быть, что видел в молодом сотруднике в какой-то мере повторение своей судьбы. Он так же в свое время начинал свой путь в революционном кружке, а потом свернул круто и пошел по стезе политического сыска, дослужившись до помощника начальника Московского охранного отделения, а потом неожиданно для всех стал начальником. Неожиданность заключалась в том, что на этот пост обычно назначались только офицеры отдельного корпуса жандармов, а Зубатов был человеком штатским.
Под руководством опытного мастера полицейских дел Александр Ипполитович пошел в гору.
Рос он поразительно быстро. Через несколько лет даже завистники стали признавать, что в распутывании трудных дел Мардарьев – умелец. Очень способствовало его карьере раскрытие двух эсеровских групп. Но особенно памятным для всех был случай, когда он раскрыл подпольную типографию, причем сделал это, не выходя из кабинета. Он затребовал тогда все сообщения об изъятых и расклеенных прокламациях, изучил донесения дворников и агентов наружного наблюдения, отметил по карте Москвы районы расклейки, некоторые трамвайные маршруты, узнал, где живут задержанные с листовками. И в результате указал улицу, где могла находиться типография, попросил послать в тот район самых опытных филеров. И действительно очень скоро типография была обнаружена.
Многие сотрудники, привыкшие к работе с помощью засланных в революционные организации агентов, только диву давались. Правда, злые языки поговаривали, что не все тут чисто с этим «анализом», что попросту Александр Ипполитович «выбил» на допросе у кого-то из арестованных нужные ему сведения, а в протокол их не внес. А потом, уже зная точный адрес типографии, затеял весь этот «анализ», пустил пыль в глаза.
Вскоре Зубатова перевели в Петербург, назначив начальником особого отдела департамента полиции, и он взял Мардарьева своим помощником. Начальство по-прежнему благоволило к Александру Ипполитовичу, не обходило его ни чинами, ни наградами. Но наступил день, когда над головой всесильного патрона нависли тучи – он осмелился вместе с князем Мещерским повести подкоп под тогдашнего министра внутренних дел Плеве, а тот каким-то образом пронюхал об этом. Однажды министр вызвал Мардарьева к себе и прямо спросил его о том, не хочет ли он сесть в зубатовское кресло? Но для этого Александр Ипполитович должен сообщить такие сведения о своем патроне, на которые можно было бы опереться при его увольнении. Мардарьев было заколебался, но тут же мысленно обругал себя «сентиментальной бабой» и здесь же в кабинете предложил министру план действий.
В то время Зубатов носился с идеей создания легальных рабочих организаций под контролем полиции. На для того чтобы привлечь в них рабочих, ему приходилось поддерживать какие-то их требования к хозяевам. Он даже дал согласие на то, чтобы в Одессе его ставленники возглавили экономическую стачку. Однако в ходе забастовки рабочие вышли из уготованных им зубатовских рамок и, помимо экономических, предъявили политические требования. На этом и решил сыграть Мардарьев, предложив министру выставить Зубатова как организатора политического выступления, направленного против самодержавия. Плеве обеими руками ухватился за эту возможность и при первом же докладе царю выложил соображения о неумной игре начальника особого отдела, которая привела к тому, что Зубатов оказался в одном строю с врагами самодержавия. Царь вскинул на министра свои водянистые глаза, пожал плечами и сказал, что это слишком…
Вернувшийся из дворца Плеве вызвал к себе Зубатова и в присутствии нескольких сотрудников грубо накричал на него, называя его неучем, бездарью, зарвавшимся интриганом и вообще опасным для полиции человеком. Взбешенный Зубатов хлопнул дверью, написал в тот же день рапорт об отставке.
Место его в особом отделе занял Мардарьев.
Александр Ипполитович шел по служебной лестнице уверенно, дорос до действительного статского советника, занял пост чиновника по особым поручениям при директоре департамента полиции, выполняя самые деликатные поручения.
С годами укрепилась в нем вера в постоянную свою удачливость. Фигура его приобрела округлость, налилась жирком, на затылке появилась плешь, щеки обвисли, а глаза, бывшие и в юности навыкате, вылупились еще больше. Но при своей полноте и появившейся одышке он оставался подвижным, быстрым на подъем жизнелюбом, умел со вкусом поесть и хорошо выпить, а главное, не терял профессиональной хватки.
Было в натуре Мардарьева свойство, выделявшее его из среды сослуживцев, – он держал себя подчеркнуто независимо перед начальством, но в то же время был внимателен к тем, кто был ниже его по службе, всегда вежлив и предупредителен с ними. Это обстоятельство позволило ему утвердить прочный авторитет среди мелких служащих департамента, охотно выполнявших его просьбы и поручения.
В отношении к сослуживцам была у Мардарьева еще одна характерная черта, которую он тщательно от всех скрывал, – ненависть к жандармским офицерам. Ненавидел их за спесь, самодовольство, за то, что равные ему по чину получали содержание больше, чем он, за то, что их в первую голову назначали на лучшие посты. Эта ненависть тлела в нем постоянно, но он никогда не давал ей воли, не раскрывал ее. Но если доводилось ему по службе ткнуть кого-то из жандармов носом в их собственную неграмотность и неумение, он делал это с превеликим удовольствием.
Командировка в Финляндию была для Мардарьева лишним доказательством того, что начальство его по-прежнему ценит. Накануне отъезда он имел доверительный разговор с Белецким и получил от него указание: во что бы то ни стало «зацепить» на кораблях хотя бы нескольких матросов, связанных с подготовкой восстания.
Прибыв в Финляндское жандармское управление, Александр Ипполитович не стал тратить ни секунды на формальности. Еще не успев снять плаща и фуражки, попросил, чтобы ему подобрали сведения о всех неблагонадежных матросах, донесения агентуры за последние два месяца, сведения о наблюдениях за прошедший день. Рапорты, которые еще будут поступать от филеров в ближайшие часы, приказал немедленно передавать ему в руки.
Начальник управления Утгоф любезно предложил приезжему расположиться в его кабинете, осведомился, успел ли он поужинать, а если нет, то тут неподалеку есть место, весьма недурно готовят. На это Мардарьев с заметной для всех иронией ответил:
– Я понимаю, господин полковник, что аппетит в отличие от женщины нужно ублажать постоянно, но – увы – государственная служба иной раз, согласитесь, и жертв требует. Об ужине мы поговорим попозже, возможно, он пригодится нам завтра на завтрак. А что касается вашего личного кабинета, то, помилуйте, зачем же стал бы я вырывать вас из привычной и необходимой для работы обстановки? Вы уж определите меня в комнату, где размещена картотека, чтобы все под рукой было, и отрядите мне в помощь вашего писаря – он ведь быстрее, чем кто-либо, нужную бумагу разыщет… А остальных работников управления попрошу оставаться на своих местах до особого на то распоряжения.
Начальник управления, выслушав эту тираду, набычился, покраснел. Возражать, однако, не посмел и отвел гостя в помещение картотеки, где стояли два простых стола, стеллажи с делами и огромный, во всю стену, шкаф. Усевшись за столом возле окна, Мардарьев самолично задернул тяжелую серую портьеру, попросил принести ему все необходимое для работы и, если можно, настольную лампу. Просьба была исполнена незамедлительно. Прежде чем приступить к делу, чиновник для особых поручений справился у писаря Феофанова, курит ли он, и, узнав, что нет, попросил разрешения закурить, чем страшно удивил мелкого служащего, у которого отродясь ни один работник управления ни на что не просил разрешения. Польщенный Феофанов – человек и без того старательный и безотказный – стал помогать приезжему со тщанием, доселе небывалым. Он мгновенно доставал нужное дело, разыскивал нужную карточку, клал на стол рапорт или фотографию. Постепенно перед Мардарьевым вырастала груда папок и отдельных листков, в блюдечке росла гора окурков, а записная книжка заполнялась все новыми заметками.
На этот раз Александру Ипполитовичу предстояло дело крайне трудное. Правда, оно облегчалось тем, что из агентурной записки Лимонина известны были члены подпольного комитета, а также конечная цель заговорщиков и предполагаемый срок их выступления. Главное, нужно было выяснить имена тех, кого надлежит изъять с кораблей. В своем разговоре с морским министром Белецкий солгал, сказав, что известны имена зачинщиков и что за ними давно уже ведется наблюдение.
Имена как раз и предстояло узнать Мардарьеву, имевшему в своем распоряжении всего одну ночь.
В своих поисках Александр Ипполитович исходил из одной четкой посылки: матросы, занесенные в картотеку Финляндского жандармского управления как лица неблагонадежные, почти наверняка связаны с подпольем. Всех, конечно, забрать невозможно, но арест наиболее подозреваемых, несомненно, разорвет связи заговорщиков, сделает невозможными их согласованные действия. А затем, уже не спеша, можно будет вылавливать остальных.
Мардарьев выбрал несколько десятков карточек. Смущало его одно обстоятельство – почти все матросы в той или иной степени были связаны с эсерами, тогда как сведения, сообщенные Лимониным, не оставляли сомнений в том, что подпольный комитет состоит из социал-демократов. Совместные действия представителей двух партий вполне могли иметь место, примеры тому уже бывали. Непонятно было другое: социал-демократы все из гражданских лиц, а среди моряков шли сплошные социалисты-революционеры. Должны же быть и на кораблях представители социал-демократической партии или люди, сочувствующие ей?
Всего из числа отобранных он отметил пятерых матросов, которые еще до службы были замечены в связях с акциями, проводимыми социал-демократами, и одного подозреваемого в том, что именно он пронес обнаруженную на крейсере «Рюрик» листовку Петербургского комитета РСДРП по поводу Ленского расстрела. Конечно, это далеко не все. Но по давнему опыту известно, что дело конспирации у социал-демократов поставлено лучше, чем у эсеров. Не случайно же Финляндское жандармское управление прошляпило целый революционный комитет, действующий у него под носом.
И еще одно обстоятельство не давало покоя Александру Ипполитовичу. Удалось сразу же установить адреса подпольщиков и место их работы, но исключение составлял Горский. В паспортном столе полиции Гельсингфорса человек с такой фамилией не числился. Но должен же существовать – явка к Полетаеву была как раз от него! Скорее всего Горский жил в городе под другой фамилией. Но под какой? Установить это возможно будет лишь после ареста и допроса других членов подпольного комитета.
Некоторый свет проливало сообщение завербованного в агентуру матроса Орлова с «Рюрика». В своем донесении, помеченном первым апреля (надо надеяться, что это не первоапрельская шутка!), Орлов писал, что гальванер Терентьев сказал во время разговора с товарищами, что человек, с которым он встретился возле пристани, оказался старым знакомым его старшего брата и он видел его в Одессе. При этом Терентьев намекал, что человек это не простой, а делал большие дела, «когда в России все кипело». Фамилия его Горовской или Горской. Орлов издали видел его и передал приметы: небольшие усы, в пальто и шляпе.
И все. Словесного портрета на основе таких примет, к сожалению, не составишь. Видимо, Горского пока придется оставить.
Из отобранных Мардарьев выделил двадцать три человека, принадлежность которых к какой-либо партии не прослеживалась. В донесениях говорилось о том, что эти люди резко выражали свое недовольство флотскими порядками, вспоминали броненосец «Потемкин», грозили покидать «драконов-офицеров» за борт, задевали священную особу государя императора, непочтительно и дерзко отзывались о церкви.
Александр Ипполитович понимал, что, имей охранка возможность заглянуть в душу любому матросу, она обнаружила бы там нечто подобное. Те, кого он выделил, выражали свои мысли наиболее определенно, остро, озлобленно, и можно не сомневаться в том, что хотя бы часть из них была втянута в подготовку к восстанию, а другая часть что-то знала о нем.
Видавшие виды старинные часы в деревянном футляре с висевшими на потемневшей цепочке цилиндрическими латунными гирями гулко пробили двенадцать, когда в дверь осторожно постучали. В комнату бочком протиснулся Стась Шабельский, скользящим шагом приблизился к Мардарьеву, доложил, что поступили свежие донесения, и вручил ему несколько листков. Писарь с удивлением глядел на своего начальника. Внешне это был тот же молодцеватый, отменной выправки ротмистр с высоко поднятой головой, с лихо закрученными усами. Но обычное выражение самоуверенности на лице будто кто тряпкой стер, а в глазах, как у нашкодившего кота, – смесь вины и настороженности.
Александр Ипполитович видел Шабельского впервые, но он был тертым калачом, сразу почувствовал что-то неладное и, несмотря на всю свою погруженность в аналитическую работу, отметил, что ротмистр в чем-то изрядно провинился. У него даже мелькнула смутная догадка – в чем именно, но он отогнал ее. Сейчас не до того было. В одном из рапортов, принесенных Шабельским, говорилось, что сегодня днем в мастерскую к Никандру Кокко приходил матрос с «Рюрика» и забрал с собой какой-то пакет. Матрос был прослежен до парка Тёлё, где встретился с тремя другими матросами с «Цесаревича», которым и передал означенный сверток. Позже агент наружного наблюдения прошел за ним до причалов, где указал на него судовому агенту. Фамилия матроса оказалась Терентьев. Фамилии же трех матросов с «Цесаревича» будут известны несколько позже. Второй рапорт сообщал о том, что на квартире члена подпольного комитета Тайми к вечеру собрались несколько рабочих. Их имена: Воробьев, Кокко, Ермаков. Были там, кроме того, двое матросов. По надписям на бескозырках один с линкора «Слава», другой с крейсера «Громобой». Фамилии их могут сообщить на кораблях.
Осмыслив эти сведения, с которыми он ознакомился в присутствии Шабельского, Мардарьев довольно улыбнулся, замурлыкал нечто напоминавшее «Гром победы, раздавайся».
– Ну что же, милейший ротмистр, – сказал Александр Ипполитович, благожелательно глядя на Шабельского, – видимо, настало время обговорить план действий. Прошу вас сообщить начальнику управления, чтобы он созвал всех сотрудников. Через пять минут я буду у него.
В просторном кабинете Утгофа собрались офицеры управления и вызванные по просьбе Мардарьева начальники расположенных в Гельсингфорсе жандармских команд – железной дороги и Свеаборгской крепости. Приглашенные сидели на расставленных вдоль стен стульях. Мардарьев обвел взглядом всех. Одинаковые темно-синие двубортные мундиры с серебряными погонами, одинаковое выражение почтительности и сосредоточенного внимания на усатых лицах.
Александр Ипполитович попросил всех к столу для заседаний, занял место у торца и, не садясь, разложил на зеленом сукне листочки с заметками.
– Итак, господа, – начал он, – я собрал вас здесь, чтобы сообщить вам чрезвычайное известие…
Он на мгновение замолчал, мысленно усмехнулся, поймав себя на том, что почти повторяет слова городничего из «Ревизора» – те самые, которыми начинается пьеса, – и тут же подумал, что через несколько секунд увидит и повторение финальной сцены.
Господи! До чего же все пошло повторяется! Все эти обтянутые мундирами обыватели, которые только и умели, что пугать штатских обывателей, считая себя грозными янычарами империи, в сущности, ничуть не ушли вперед от идиотских гоголевских чиновников. Настолько тупы, что и удовольствия не получишь, ткнув их носом в собственную их глупость.
Но ткнуть носом во имя воспитания все же надо было.
– Итак, – медленно заговорил Мардарьев, – дело заключается в том, что, по полученным Петербургским охранным отделением неопровержимым сведениям, завтра (а точнее, уже сегодня утром) на судах, стоящих сейчас в Гельсингфорсской базе, должно начаться вооруженное восстание матросов.
Александр Ипполитович не ошибся: услышав его слова, офицеры оцепенели. Утгоф так и застыл с раскрытым в испуге ртом, а Шабельский втянул голову в плечи, словно увидел занесенный над ним кулак.
Позволив себе несколько мгновений понаслаждаться общей растерянностью, Александр Ипполитович продолжал:
– О причинах, в силу которых здешнее жандармское управление, призванное быть в курсе революционных событий, оказалось совершенно неосведомленным, сейчас я распространяться не буду. Хочу только довести до вашего сведения меры, принятые столичным охранным отделением, департаментом полиции и морским командованием для предотвращения любых эксцессов на военных судах. Имею также поручение исполняющего дела директора департамента полиции обсудить с вами план совместных действий на ближайшие часы.
С четкостью профессионального военного он изложил план, распределил обязанности, обговорил время действия и предложил немедленно заняться каждому своим делом. Начальника управления попросил задержаться.
Когда офицеры разошлись, Александр Ипполитович, не спрашивая разрешения, закурил, хотя видел, что ни на письменном столе, ни на столе для заседаний нет ни одной пепельницы – верный признак того, что в этом кабинете не курят. С удовольствием сделал несколько затяжек, стряхнув пепел на ковровую дорожку, с любопытством посмотрел на стоявшего возле окна жандармского полковника, который явно не знал, куда себя девать в своем собственном кабинете, не спеша подошел к Утгофу вплотную.
– И все же, Карл Карлович, и все же… – начал он, растягивая слова, – несмотря на всю крайность сложившейся обстановки, удовлетворите, ради бога, смиренное мое любопытство.
– Чем могу быть полезен, ваше превосходительство? – настороженно спросил Утгоф.
– Пустячок, сущий пустячок, Карл Карлович… Последняя сводка фон Коттену вами ведь подписывалась, не правда ли?
– Как всегда, когда я на месте.
– Но при этом вы, наверное… только заранее простите великодушно – нисколько не сомневаюсь в этом, но спрашиваю лишь на всякий случай, – когда вы подписываете бумаги, вы предварительно читаете их?
– Простите, ваше превосходительство, не понял вас, – забормотал побагровевший Утгоф. – За все годы беспорочной службы… Я ведь всегда с полным тщанием… прежде чем подпись поставишь…
– Нисколько не сомневался в том, Карл Карлович! Но при этом, простите, мне одно непонятно, как могли вы, опытный жандармский офицер, своею рукой расписаться под тем, что в ближайшее время, на военных судах не наблюдается склонности к нарастанию революционных событий. Это лишь одно мне и непонятно, Карл Карлович! Вот и любопытствую – как же такое случиться могло?
Ответа на вопрос не последовало, да и что можно было ответить?
Выждав с минуту и поняв, что Утгоф успел мысленно попрощаться со службой, Александр Ипполитович положил окурок в вазу, стоявшую на подоконнике, спросил почти дружески:
– А теперь, полковник, скажите, по-простому, как сослуживец сослуживцу: какой идиот составлял вам эту сводку?
– Ротмистр Шабельский, – выдавил из себя Утгоф.
– Это такой красавец – шатен с заостренными усами?
– Так точно, ваше превосходительство, он самый.
– Ну, мне так и показалось, – удовлетворенно сказал Мардарьев. – Именно так! Но, впрочем, для нас с вами в данный момент это обстоятельство не должно иметь никакого значения. Давайте займемся делами куда как более неотложными. Попрошу вас, господин полковник, соединить меня с оперативным дежурным Гельсингфорсской военно-морской базы.
Утром Шотман проснулся раньше обычного и, осторожно, чтобы не потревожить спящую жену, встал, натянул брюки и носки, по скрипучему полу прошел в кухню. Вопреки обыкновению (он очень любил пополоскаться под краном) на этот раз только лишь плеснул водой в лицо. Керосинку зажигать не стал, отрезал ломоть хлеба, густо намазал его сливочным маслом и посыпал его, как это делал в детстве, сахарным песком. Торопливо жуя бутерброд, он прихлебывал из чашки холодный вчерашний чай.
Сборы заняли всего с четверть часа, но за это время за окном стало заметно светлее. Уже надев пальто и шляпу, он заглянул в комнату, но, увидев, что Катя еще спит, уткнувшись лицом в подушку, не стал ее будить. Прислушался к ровному дыханию жены, мысленно попрощался с ней – мало ли что могло случиться за нынешний день, – плотно, без шума закрыл дверь комнаты.
Уже от двери, поколебавшись секунду, он вернулся в кухню, достал из ящика стола финский охотничий нож – «пукко» в потертом кожаном чехле, сунул его в карман пальто. Оружие может сегодня пригодиться. С ним и чувствуешь себя как-то увереннее и спокойнее.
Сегодня день будет горячим. Может быть, придется драться врукопашную. Что ж, он готов к этому. Разве не ради решающей схватки вели они всю свою работу с моряками? И драться он будет не хуже других.
Товарищи привыкли видеть в нем человека спокойного, а он в душе остался таким же драчуном, каким был в юности. Кулаки у него и сейчас здоровы, а тогда еще крепче сжимались, сам он был подвижнее и ловчее. Классовую борьбу тогда понимал очень прямолинейно и всегда лез вперед, когда возникала заварушка. Схватка лицом к лицу была ему больше по душе, чем неторопливая пропагандистская работа.
В юности Шотман уже участвовал в стычках с власть имущими. Потом был бой с войсками и полицией во время Обуховской обороны. Были аресты, тюрьмы, издевательства жандармов. Борьба шла тяжелая. С тех пор как он вступил в нее, ему пришлось похоронить не одного товарища – кто погиб от пули на баррикадах, кто растерзан погромщиками, кто умер от чахотки в тюрьме. Он и сам не раз смотрел смерти в глаза.
Во дворе сразу почувствовал сырость, поежился от пронизывающего ветра. За ночь похолодало, ветер гнал над черепичными крышами редкие клочковатые облачка, рябил воду в стылых лужицах. Он быстро миновал переулок, втиснулся на остановке в трамвай, идущий в сторону порта. В этот ранний час в трамвае были одни рабочие: Люди ехали хмурые, невыспавшиеся, угрюмо молчали, но терпеливо переносили давку. Недалеко от Эспланады Шотман с трудом пробрался к выходу, сошел на пустынной улице и направился коротким путем, минуя громаду православного собора. Не успел еще дойти до угла, когда услышал сзади цокот копыт. Конные полицейские обогнали его и свернули вправо.
Шотман почувствовал смутную тревогу.
Обогнув собор, он вышел на широкую гранитную лестницу, спускавшуюся к берегу моря. Отсюда порт и рейд как на ладони. Открывшаяся перед Шотманом картина заставила его застыть на месте – подходы к порту были перекрыты цепями солдат, державшими в руках винтовки с примкнутыми штыками. По причалу прохаживались вооруженные гардемарины, стояли группы морских офицеров.
Жандармы успели упредить матросов и первыми нанесли удар. Опыт подпольщика научил Шотмана принимать решения быстро. Прежде всего нельзя торчать на виду у солдат и полицейских. Повернуться и уйти назад? Но это сразу же бросится в глаза и вызовет подозрение стоящих возле собора полицейских. И так они уже пристально смотрят на него. Неподалеку он заметил группу ранних зевак, глядевших на то, что делается в порту, не спеша подошел к ним, остановился рядом и сделал вид, что тоже любопытствует.
Однако полицейские его заметили. Один из них подошел, козырнул, вежливо попросил предъявить документы. Зеваки сразу же торопливо отодвинулись в сторону, отмежевываясь от него. Шотман не торопясь достал пропуск, протянул полицейскому. Ну, вот сейчас… Еще несколько секунд… Если охранка успела нащупать комитет, то его имя вместе с именами товарищей сообщено финской полиции, и тогда – немедленный арест. Если же его имя не вызовет никакой реакции – тогда жандармам известно не все… Но прежде всего спокойствие.
Он видел, как придирчиво рассматривал полицейский его пропуск, как остро глянул в лицо, сличая с фотографией.
– Отчего остановился? – спросил он по-русски.
– Так ведь солдаты там… И уж не знаю, можно ли в порт пройти?..
– Можно. Кто работает там – можно! Солдаты пропускают.
Полицейский, снова козырнув, возвратил пропуск. Шотману теперь ничего не оставалось делать, как идти в порт. Впрочем, чем, собственно, он рискует? Имя его не вызвало подозрений. Кстати, если бы приказ об аресте был, то к нему пришли бы еще ночью на квартиру… Надо идти в порт. По пути его дважды останавливали гардемарины, придирчиво проверяли пропуск, но каждый раз разрешали идти дальше. Наконец он дошел до причала, у которого стоял старый продымленный буксир, переоборудованный под плавучую мастерскую. Возле трапа прохаживался хозяин мастерской – инженер Медведев. Он был в пальто, но в военной фуражке с лакированным козырьком. Медведев в отличие от другого начальства хорошо ладил с рабочими, прекрасно знал свое дело и не раз, бывало, засучив рукава, сам вставал к токарному станку, чтобы выточить особо сложную деталь. Был он человеком огромной физической силы, немногословным, спокойным. Но он совершенно преображался, если заходила речь о его давнем увлечении – французской борьбе. Когда он говорил о прошедших или будущих встречах, глаза его разгорались, широкая ладонь рубила воздух, наголо бритая голова живо поворачивалась то к одному, то к другому собеседнику. Он знал на память имена всех чемпионов России и многих иностранных, вел переписку со знаменитым борцом Иваном Заикиным, а также с писателем Куприным, с которым познакомился на одном из крупных матчей в петербургском цирке «Модерн».








