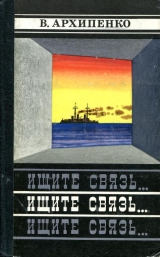
Текст книги "Ищите связь..."
Автор книги: Владимир Архипенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
АГЕНТУРНАЯ ЗАПИСКА
«Следует всегда иметь в виду, что один даже слабый секретный сотрудник, находящийся в обследуемой среде («партийный сотрудник»), несоизмеримо дает больше материала для обнаружения государственного преступления, чем общество, в котором официально могут вращаться заведующие розыском…
Поэтому секретного сотрудника, находящегося в революционной среде или другом обследуемом обществе, никто и ничто заменить не может».
(Из служебной инструкции охранного отделения)
Это была обычная петербургская квартира средней руки – столовая, спальня да кухонька, обставленные обшарпанной мебелью. От других квартир доходного дома она отличалась лишь тем, что деньги на ее оплату шли из фонда Петербургского охранного отделения. Но об этом, впрочем, не знал даже сам домовладелец, регулярно получавший квартирную плату от нелюдимого, угрюмого жильца, числившегося конторщиком в отделении Русско-Азиатского банка.
Конторщик часто брал работу на дом, и потому никого не удивляло, что на службу ходил не каждый день.
В этот хмурый апрельский понедельник жилец сидел в столовой, занимаясь привычным делом – набивал табаком папиросные гильзы «Катык» с помощью жестяного желобка и оструганной палочки. Неожиданно в маленькой прихожей прозвучали три длинных звонка, а за ними совсем короткий, оборванный, словно точку поставили. Звонки были условными, а потому жилец заторопился, не спрашивая, кто звонит, открыл дверь.
В прихожую вошел высокий человек в потертом пальто и дешевой шляпе. Молча кивнув жильцу, он, не раздеваясь, прошел в столовую, присел к столу, отодвинул на край коробку с гильзами и пачку табаку, положил перед собой шляпу. Замешкавшийся в прихожей жилец зашел было в комнату, чтобы перенести в кухню свое доморощенное табачное производство, но в этот момент вновь раздались условные звонки. На этот раз в дверях появился приземистый краснолицый крепыш с военной выправкой. Этот не спеша разделся, обнаружив под пальто синий двубортный сюртук с серебряными погонами, снял с сапог и поставил в угол новенькие калоши и только тогда направился в столовую, подав жильцу знак, чтобы тот шел в кухню.
– Сердечно рад встретиться, господин Лимонин! – заговорил жандарм, не успев переступить порог. – Когда вы вызвали меня по телефону, я понял, что случилось нечто весьма важное… Ведь угадал же, а?
Лимонин, не поднимаясь, едва заметно пожал плечами, сказал деловито:
– Попрошу вас, господин ротмистр, срочно записать все то, что я сейчас сообщу.
Жандарм прикусил губу, глянул исподлобья, хотел было что-то сказать, но промолчал. По правилам ему полагалось бы сейчас осадить агента – инструкция департамента полиции строго-настрого предписывала не давать излишней воли секретным сотрудникам, ни в коем случае не идти у них на поводу. Ротмистр наизусть помнил:
«Особенно опасаться следует влияния на себя сотрудника и его эксплуатации. С сотрудником должны поддерживаться хотя близкие и деликатные отношения, но требования по сообщению розыскного материала и недопуску провокации должны быть абсолютными».
Однако поди-ка подступись к такому, как Лимонин, попробуй одерни его. Нет, Лимонин ему не по зубам. Этого агента берегли как зеницу ока. Сам начальник столичного охранного отделения фон Коттен говорил однажды, что существование этого агента – крупнейший успех последних лет.
А потому ротмистр не стал возражать Лимонину, послушно достал из стоявшего в углу облезлого комода лист бумаги, чернильницу и вставочку, с готовностью сел к столу.
– Пишите! – сказал Лимонин глухо. – Вчера в столицу из Финляндии прибыл человек, называющий себя Думановым. Он приехал по заданию подпольной организации гельсингфорсских социал-демократов, чтобы информировать Петербургский комитет партии и Русское бюро ЦК о том, что через несколько дней на кораблях Балтийского флота начнется вооруженное восстание. Выступление приурочено к моменту выхода гельсингфорсской эскадры на учение. Среди матросов созданы судовые ячейки, с которыми поддерживают постоянную связь социал-демократы Горский, Тайми, Воробьев, Кокко и другие местные большевики. О результате своих переговоров в Петербурге Думанов должен сообщить в Гельсингфорс шифрованной телеграммой. Она же послужит сигналом для начала решительных действий…
Ротмистр записывал с лихорадочной быстротой, делая помарки, не дописывая слова. Черт с ними – с помарками! Набело он потом все перепишет, а сейчас важно ничего не упустить. Первый раз за всю свою службу он получил такие неслыханно важные вести. Если бы в это время Лимонин стал грубить ему, немилосердно хамить – он и это снес бы безропотно. Что там самолюбие и требование инструкции, когда само везение в руки прет! И еще какое везение! Материал, добытый Лимониным, и на его, ротмистровых, делах скажется – ведь не кто иной, как он вручит переписанную собственной рукой записку фон Коттену. Он будет первым! А это оценится, обязательно оценится.
Начальник Петербургского охранного отделения закончил чтение рапорта, поступившего из Финляндского управления, подчеркнул красным карандашом заключительную фразу:
«Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что сейчас на кораблях флота сравнительно спокойное состояние и тенденции к усилению революционного брожения среди нижних чинов не наблюдается».
Фон Коттен с удовлетворением отметил, что работники в Финляндии начали постепенно приобщаться к новому делу, пытаются как-то предвидеть, куда могут повернуть события. Конечно, вывод в конце рапорта слишком категоричен, но опирается он на факты. А факты сообщались такие, что можно было почувствовать некоторое затишье в социал-демократической пропаганде и в деятельности социалистов-революционеров. Предвидеть развитие событий – дело чрезвычайно сложное, но главное сейчас в том, что все-таки приобщаются постепенно!
Он был еще во власти приятных раздумий, когда ему доставили агентурную записку Лимонина с пометкой в углу, означавшей, что эту бумагу надо читать незамедлительно. Фон Коттен так и поступил. Но едва он стал ее читать, как выражение удовлетворенности на его лице, вызванное чтением рапорта из Финляндии, исчезло, стерлось, уступив место крайней озабоченности, а затем и несвойственной ему растерянности. Если верить сведениям, о которых сообщал агент, хотя бы наполовину, то и тогда по степени своей важности они заставляли отложить все остальные дела.
Он еще раз бегло просмотрел донесение агента, подчеркнув фамилии членов Гельсингфорсского военно-революционного комитета. Фразу – «восстание начнется в день выхода судов на маневры» – подчеркнул дважды и поставил на полях восклицательный знак.
За всю свою карьеру фон Коттен, славившийся в жандармском корпусе редкой выдержкой, ни разу не был в таком смятении. Проморгать подготовку восстания но флоте – это слишком! И что за безмозглые идиоты сидят в Финляндском управлении? Нашлись дельфийские оракулы! С такими нелепыми предсказаниями и революцию проморгают, прорицатели! Этого выжившего из ума кретина, подписавшего рапорт, полковника Утгофа надо немедленно на пенсию. Сегодня же он доложит об этом товарищу министра внутренних дел…
Шеф столичной охранки резко встал из-за стола, но тут в затылок ударила волна боли, в глазах потемнело. Еще только этого не хватало! Он с силой зажмурился на несколько секунд, потом быстро расцепил веки. Нехитрый, не раз испытанный прием помог и сейчас – черные точки перед глазами рассеялись, уплыли куда-то. Но тупая боль в затылке не проходила. Фон Коттен подошел к подоконнику, отлил в стакан воды из массивного хрустального графина, достал из плоской жестяной коробочки таблетку, морщась, проглотил.
«Надо спешно принимать меры. В Гельсингфорсе членов комитета можно взять собственными силами. Арестует их финская полиция по представленному списку. Хуже дело обстоит с изъятиями нижних чинов на кораблях. Морское начальство сразу начнет ставить палки в колеса, будет доказывать, что никакой опасности нет, что охранное отделение раздувает дело, что агентура дает неверную информацию… Моряки, как всегда, потребуют доказательств, и, как всегда, заранее. Не показывать же им секретное агентурное донесение! Позже доказательств будет сколько угодно, но это уже после ареста матросов и их допроса.
Конечно, морскому ведомству вся эта история хуже лимона во время изжоги, ибо дать согласие на аресты – это означало расписаться в собственном ротозействе. Но если смотреть правде в глаза, то и охранное отделение оказалось в щепетильном положении, узнав о восстании всего за два дня до назначенного срока!
Ну и узелок завязался, черт бы его побрал!
С одной стороны, из всей этой истории можно и капиталец извлечь, но недолго и на неприятности нарваться. Волей-неволей придется встать поперек дороги морскому министру Григоровичу, а у того сейчас такие связи, что лучше с ним не ссориться. Флот за него горой, Государственная дума с ним нянчится, но самое главное, что он любимец государя. А как умудрился стать любимцем, непонятно – в интригах не искушен, к дворцовым кругам не близок. Разве только слава порт-артурского героя помогла? Во всяком случае, царь с ним всегда ласков и ко мнению его прислушивается. Нет, с Григоровичем лучше не связываться.
Лучше пусть с моряками имеет дело кто-то из начальства – хотя бы Белецкий, этот хитрый лис. Уж он-то умеет выкручиваться! Другие столыпинские ставленники после того, как Петра Аркадьича застрелили в прошлом году, полетели с государственных постов, а этот не слетел, а даже на полступеньки поднялся – из вице-директоров департамента полиции стал исполняющим дела директора. Вот ему и карты в руки. Пускай сам с Григоровичем конфликтует. А столичное охранное отделение все равно в выигрыше будет – это оно с помощью своих агентов первым обнаружило опасность».
Постепенно на лице фон Коттена появилось обычное выражение сосредоточенности, за которым ни один черт не мог бы разобраться, что за настроение сейчас у начальника охранного отделения.
Исполняющий дела директора департамента полиции Белецкий только что просмотрел свежий номер новой рабочей газеты «Правда», и у него испортилось настроение. Эти безмозглые чинуши из комитета по печати дают разрешение на заведомо социал-демократический листок, своими руками поддерживают новый очаг опаснейшей пропаганды. Первый же номер цензура предписала конфисковать. Но каким-то образом проникают номера газеты на заводы и в рабочие кварталы. Номер, лежащий перед ним, тоже конфискован. Да и как было его не изъять, если в нем чуть ли не в открытую революционные призывы даны.
Взять хотя бы этот, лежащий перед ним номер – сплошные сообщения о забастовках протеста против Ленского расстрела, письма-протесты с мест в адрес социал-демократической фракции Думы. А в каком тоне о государственном режиме пишут! Вот заметка под невинным названием «Пустяки», но сколько яду вложено, что не по себе делается.
Белецкий снова склонился к газетному листу.
«Когда со стачечниками расправляются залпами, – медленно читал он, – тогда меркнут все другие способы подавления рабочего движения. И русская действительность привела к тому, что нет того насилия над рабочими, которое бы не показалось «пустяком» в сравнении с еще более зверской формой расправы. Арест в участке за стачку «пустяк» по сравнению с высылкой, высылка «пустяк» перед расстрелом…»
Просто непостижимо! Это же готовый материал для партийного агитатора. Зачитать эти слова вслух в рабочей среде – это все равно, что бросить горящий факел в пороховую бочку. Нет, надо с этим решительно кончать, конфисковывать зловредные номера со всей твердостью…
Рассуждения Белецкого прервал телефонный звонок. Начальник Петербургского охранного отделения просил принять его немедленно по делу, не терпящему ни малейшего отлагательства.
Фон Коттена Белецкий изрядно недолюбливал, считая наглым выскочкой. Хоть и кончил он академию генерального штаба, а солдафоном так и остался – тяжелый, грубый человек, любитель солдатских анекдотов. В сыскном деле дилетант, а карьеру сделал. Всего пять лет как перешел из артиллерии в корпус жандармов, а уже успел побыть начальником охранного отделения Москвы, а теперь и столичным отделением заправляет. Крепкая рука его поддерживает – сам министр двора Фредерикс. Ну да ладно – и не таких Степан Петрович вокруг пальца обводил. С самим генералом Курловым – жандармом из жандармов – и то мог потягаться!
Самым любезным тоном он справился у фон Коттена – нельзя ли перенести встречу часа на два: у него через десять минут начинается совещание. Однако его собеседник настаивал. Поняв по его тону, что дело слишком серьезно, Белецкий не стал больше колебаться.
Встретил он фон Коттена с показным радушием, вышел из-за стола, предупредительно показал полковнику на стоявшее в углу обитое черной кожей массивное кресло, сам сел напротив, свободно откинувшись на спинку, расслабленно положил руки на подлокотники. Вицмундир сидел на нем как влитой, стоячий воротник подпирал полные щеки. Карие живые глаза смотрели открыто и благожелательно. Но фон Коттен отлично знал, что нет и не может быть в этом человеке ни открытости, ни благожелательности. Зато есть гибкая изворотливость и хищная хватка, умение опутать, оплести собеседника, скрыть главное за второстепенным, затемнить свои намерения и выудить все о намерениях другого. Зная об этом, он чувствовал себя в разговорах с этим интриганом куда напряженнее, чем с шефом корпуса жандармов или с самим министром внутренних дел.
– Итак, Михаил Фридрихович, – начал Белецкий, – готов выслушать вас с превеликим вниманием, ибо понимаю, что лишь нечто из ряда вон выходящее толкнуло вас на просьбу прервать проводимое мной совещание с чиновниками по особым поручениям…
– Так точно, ваше высокопревосходительство, дело действительно неотложно…
– Но-но-но, – махнул рукой Белецкий, – убедительно вас прошу без церемоний.
– Слушаюсь, Степан Петрович! Я принес агентурную записку, содержание коей требует принятия мер безотлагательных. Но, впрочем, убедитесь сами, – фон Коттен протянул бумагу начальнику, – и простите великодушно – не стал отдавать на перепечатку. Насколько понимаю, здесь дороги и минуты.
Осторожно взяв за краешек лист плотной александрийской бумаги, исписанный бисерным почерком, Белецкий углубился в чтение. Фон Коттен видел, как менялось лицо начальника – сначала брови удивленно взлетели вверх, потом сдвинулись к переносице.
– И это все серьезно? – спросил Белецкий, поднимая от бумаги глаза.
– Как нельзя более серьезно, Степан Петрович. Наш агент Лимонин представляет исключительно точную информацию.
– Да-да, это вы справедливо изволили заметить… да-да… Лимонин точен… да-да…
Белецкий замолчал, задумавшись, словно забыл о собеседнике. Внезапно он хмыкнул, коротко хлопнул ладонью руки по подлокотнику. Фон Коттен насторожился, понял, что решение принято. И действительно, на лице Белецкого вновь появилось выражение благожелательности.
– Итак, насколько я уяснил, выступление матросов назначено на послезавтра утром.
– Совершенно верно, Степан Петрович!
– Учитывая то обстоятельство, что сейчас уже вечер, в нашем распоряжении остаются две ночи и один день.
– Совершенно верно.
– Ну и что мы можем практически предпринять? Есть ли у нас возможность изолировать всех причастных к восстанию?
– Что касается тех, кто на берегу, – достаточно дать телеграмму. Имена, как видите, известны.
– А имена нижних чинов флота? Их имена – как?
Этим вопросом Белецкий бил в точку. Ответить на него фон Коттен не мог. Нечего было отвечать. Начальник, выдерживая паузу, смотрел в упор.
– Имена нижних чинов, к сожалению, пока неизвестны, – медленно сказал фон Коттен. Под глазом его дернулась жилка.
– Вот именно, милейший Михаил Фридрихович! Вот именно! А посему мы имеем ситуацию следующую: послезавтра утром на кораблях бунт, а кого изъять, чтобы предотвратить его, мы не знаем. И у нас нет никакой уверенности в том, что арест большевистского комитета на берегу сколько-нибудь повлияет на решение матросов. Конечно, предупрежденное нами командование флота примет соответствующие меры на послезавтра: перекроет доступ к корабельному оружию, вооружит унтер-офицерский состав и еще что-нибудь сделает… Но заметьте, Михаил Фридрихович, это чистейшей воды паллиатив. Если мы не изымем зачинщиков сейчас, они могут нанести удар позднее, причем неожиданно. Вот в чем соль проблемы, любезнейший Михаил Фридрихович… Мне поначалу показалось, что вы пришли ко мне с каким-то решением… или я ошибаюсь?
– Я вижу решение в том, Степан Петрович, чтобы срочно пересмотреть на месте списки неблагонадежных матросов и арестовать… или…
– Не то, не то, Михаил Фридрихович! Мысль-то вашу отчетливо понимаю: забросить невод мелкоячеистый, выловить всю рыбку, а потом мелочь обратно выпустить. Да ведь кто же нам позволит такой ловлей заниматься? Никто не позволит! На флоте не мы командуем… Если уж изъяли кого, так надобно доказать потом, что точно того и взяли, кого надо! А иначе – ох как на нас отыграются! Вот ведь в чем дело, милейший Михаил Фридрихович!
Фон Коттен все больше наливался злостью. Начальник почти в открытую издевался над ним, отчитывал, как мальчишку. Но что можно было возразить? Только и утешало – и он и Белецкий одной веревочкой повязаны. Случись бунт – обоим несладко придется. Так что пусть себе пока поупражняется в красноречии, потом все равно сообща действовать придется.
Но Белецкий, словно поняв, о чем думает подчиненный, сказал вдруг совсем иным тоном, в подчеркнуто официальной манере:
– Пока мы с вами разговоры ведем, часовая стрелка еще на одно деление передвинулась. А время, сами же говорите, не ждет, торопиться надо. Я попрошу вас, полковник, представить мне максимально быстро списки неблагонадежных по судам, имеющим базирование в Гельсингфорсе. А сейчас честь имею.
Сложную задачу предстояло решить исполняющему дела директора департамента полиции. Но к чести Степана Петровича надо сказать, кто-кто, а он решать задачи такого рода был приучен. Ситуация, с которой его познакомили, была предельно ясна для него. Прост был и способ, который, видимо, поможет разрядить нежданную мину. Решение, в сущности, подсказал сам фон Коттен, хотя Белецкий и виду не подал, что заметил в доводах подчиненного нечто ценное для себя. Ничего иного, кроме того, что предлагал фон Коттен, в сложившейся обстановке предпринять нельзя было. Единственный выход – изъять подозреваемых. Дальше уже все было проще, даже при условии, что в сети попадутся непричастные к преступному сообществу матросы, каждый попавший в руки охранки так или иначе что-то даст для следствия. Любой матрос при умелом подходе следователя наговорит такого, что его нетрудно будет подвести под соответствующую статью. В этом смысле трудностей он не видел. Иное дело – преодолеть сопротивление морского ведомства. Моряки, понятное дело, полезут в амбицию. А потом еще печать… Даже самые верноподданные не удержатся, чтобы не лягнуть – они, мол, единственные, кто денно и нощно печется о безопасности государства Российского. А левые газетки – те сразу же визг поднимут, будут политический капиталец себе наживать.
Чтобы и волки были сыты, и овцы целы – о таком Степан Петрович и думать не мог, – понимал, что этого не бывает. Иное дело – волков вовремя накормить. Тут уж они присмиреют. И надо было действовать так, чтобы репутация служащих министерства внутренних дел не пострадала. И еще одно надо было предусмотреть – чтобы не было во всем деле заслуги самодовольного Коттена. Впрочем, докладывать министру будет Белецкий сам, а потом и все раскрытие заговора станет его заслугой. Что же касается чинов морского ведомства, то надо ошеломить их нежданным известием, не дать времени на размышление, взять за горло и не выпускать. Пока задним числом разберутся – дело будет сделано.
С начала тысяча девятьсот двенадцатого года в столице один за другим, раз, а то и два в месяц, проводились «Дни цветов». В Петербурге развелось слишком много благотворительных обществ, но у них, как правило, было мало денег. «Дни цветов» и предназначались для выкачки средств из петербургского обывателя.
Сама организация «дней» была делом нехитрым. Благотворительное общество, пожелавшее провести свой «день», прежде всего создавало подготовительный комитет, куда непременно включали какого-нибудь князя или сенатора, известного певца или писателя, супругу высокопоставленного лица, богатого финансиста или купца. Комитет закупал цветную бумагу, проволоку, картон, клей. Десятки барышень – институтки, гимназистки, воспитанницы частных учебных заведений – клеили картонные кружки для сбора денег, мастерили из лоскутов шелка и из цветной бумаги искусственные цветы.
О проведении «дня» заранее объявлялось в газетах, и, когда он наступал, сотни дам-добровольцев устремлялись на улицы города, в присутственные места, на вокзалы, в парки, в магазины, в кафе и рестораны, в трамвайные вагоны – предлагать петербуржцам матерчатые и бумажные цветы. Цена за цветок не устанавливалась. Покупатель опускал в прорезь кружки сколько хотел или мог, а за это ему на грудь прикалывали цветок – своего рода индульгенцию, освобождавшую его от назойливости остальных сборщиц, поджидавших прохожих на каждом углу. Репортеры столичных газет в «Дни цветов» дежурили в излюбленных местах, чтобы на следующий день петербуржцы могли прочитать о том, что министр К. отдал за цветок пятьдесят рублей, а купец первой гильдии М. отвалил двести целковых.
…В воскресенье 15 апреля общество борьбы с туберкулезом провело в Петербурге «День белого цветка». Мария Михайловна фон Эссен – жена начальника морских сил Балтийского моря – состояла в организационном комитете и потому всю неделю занималась вместе с другими подведением итогов. Дело было хлопотливым, потому что в большинстве кружек лежали медяки и подсчет отнимал уйму времени. Конечно, сама адмиральша мелочь не пересчитывала – на это отрядили институток, но дел у нее и без того хватало. Надо было дежурить в помещении комитета, принимать хроникеров, гасить вспыхивающие среди институток ссоры, определять, сколько рублей передать в ту или иную неимущую семью, где были туберкулезные больные.
Когда при вскрытии очередной кружки обнаруживалась крупная купюра, в комитете наступало оживление. Чаще всего было известно, кем она положена, но иногда приходилось гадать.
Вот и сегодня уже к концу дня обнаружили довольно крупную сумму. Вся кружка была забита бумажными купюрами. Больше всего было десятирублевых, но среди них была и свернутая трубочкой сторублевка. Тут же выяснилось, что в «День белого цветка» с этой кружкой находилась в кулуарах Государственной думы баронесса Икскюль, и потому учредители комитета обратились к ней за разъяснениями.
– Теперь я все понимаю! – воскликнула экспансивная баронесса. – Именно о чем-то подобном я и подозревала. Ну, конечно же, это он – известный деятель думы, октябрист Звегинцев… такой стройный, подтянутый человек… Говорят, что он в молодости был моряком. Я подошла к нему с кружкой и спросила, в какую сумму оценивает он белый цветок? Но он улыбнулся такой тонкой улыбкой и сказал, что не нужно называть сумму – он так не любит шумихи! Он от всего сердца отдаст все, что есть в наличии. Достал портмоне, вынул все, что там находилось, оставил себе только серебряный рубль на извозчика, а остальное положил мне в кружку. Я хорошо помню, что там было два червонца, пять рублей, а одна купюра была свернута трубочкой. Господин Звегинцев так ее и опустил. Я узнаю ее! О, благородный и скромный человек! Теперь я все понимаю – он не хотел привлекать к себе дешевого внимания прессы.
Пока баронесса произносила восторженный монолог, никто из членов комитета, кроме адмиральши, не заметил, что юркий репортер из «Петербургской газеты», вертевшийся в помещении, что-то занес в свою записную книжечку.
Разошлись в этот день поздно – в восьмом часу, и, когда адмиральша ехала на извозчике домой, на улицах уже стемнело. Пересекая Невский, она обратила внимание на огромный транспарант, установленный на крыше Гостиного двора. Ярко горевшие электрические лампочки образовывали контуры императорской короны, внутри которой располагались две буквы: АФ.
Ну, конечно же! – завтра день тезоименитства государыни Александры Федоровны.
В суматохе комитетских дел адмиральша за весь день ни разу не вспомнила об этом, но теперь мерцающий вензель напомнил ей о том, что завтра она должна быть на торжественном молебне в Казанском соборе. Дома придется сразу же поручить горничной проверить белое парадное платье и, если надо, подгладить его. А что касается перчаток, то у нее есть две пары новых, присланных недавно из Ганновера дальней родственницей мужа графиней Гейдрих. Белые туфли тоже совсем новые. Но надо будет завтра с утра пораньше послать кого-нибудь из прислуги на Невский в цветочный магазин мсье Жерома – небольшая орхидея хорошо украсит ее платье.
Подъезжая к дому, она увидела стоящий у парадной двери черный закрытый автомобиль, поняла, что Николай Оттович дома. Это было приятным сюрпризом. Не далее как сегодня утром он звонил из Кронштадта и предупредил, что приедет завтра прямо к богослужению. Значит, что-то изменилось в его планах, и Мария Михайловна была очень рада этому. В последнее время, с тех пор как ее супруг назначен командующим морскими силами Балтийского моря, она слишком редко видела его дома.
Николай Оттович встретил ее на крыльце, поцеловал в щеку, открыл перед нею дверь и сам, отослав горничную, снял с жены пальто, повесил в гардероб.
– Что-нибудь случилось, Николя́? – спросила она. – Ты же собирался быть завтра…
– Ничего особенного – завтра утром еще до молебствия надо будет обговорить несколько дел, связанных с новыми кораблями, но тебе это, вероятно, неинтересно. Расскажи лучше, что у тебя нового в комитете? Много денег удалось собрать?
Марию Михайловну порадовало, что муж, как всегда, внимателен к ее делам. Отдав распоряжение об ужине, она прошла с мужем в гостиную и рассказала о сторублевой купюре октябриста Звегинцева.
Николай Оттович слушал ее, как всегда, со вниманием, но отнесся к рассказу скептически.
– Дешевые штучки, – сказал он, пожав плечами. – Знаю я этого Звегинцева – надут, как павлин, а скромником прикидывается. Уж кто-кто, а он прекрасно знает эту несносную трещотку Икскюль и уж совершенно определенно рассчитывал, что она всем растрезвонит о его великой добродетели. Расчетливость политического деятеля – не более того. И ведь смотри – в газете небось пропечатают завтра же о благородстве этого господина. А ему как раз реклама более всего и нужна.
– Скажи, Николя́, – поинтересовалась адмиральша, – он и в самом деле моряком был?
– Ну, как сказать? Он действительно кончил Морской корпус, служил что-то около двух лет, потом ушел в отставку. Но с тех пор себя великим знатоком флота считает, поучает нас в газетах, какие нам корабли строить и как их вооружать. Чаще всего банальности пишет, но с его мнением считаются. Как же! Он член думской комиссии по обороне! Будь моя воля – я бы эту безграмотную комиссию дилетантов к чертовой матери!
– Но, Николя́…
– Ах, прости… Привыкаешь на палубе к крепким выражениям, потом в приличном обществе и появляться неудобно.
В гостиную заглянула горничная, сообщила, что стол накрыт. Они перешли в столовую – квадратную комнату со стенами, облицованными темными дубовыми панелями. Большой овальный стол, покрытый накрахмаленной белоснежной скатертью, окружали два десятка массивных с высокими спинками стульев, обитых черной кожей. Над столом нависала причудливой формы венецианская люстра вся в хрустальных подвесках, давний свадебный подарок светлейшей княгини Ливен.
– Ты уж извини, – сказала адмиральша, – поскольку тебя не ждали к ужину, то специально не готовили. И предложить тебе почти нечего – есть холодная телятина, анчоусы, балык, ну, еще твои любимые маслины…
– И это ты называешь ничего? – улыбнулся Эссен.
Они сели за стол рядом. Адмирал, привычно заправив угол накрахмаленной салфетки, с аппетитом принялся за телятину. Впрочем, сколько знала его Мария Михайловна, он никогда не страдал отсутствием аппетита. Сама адмиральша вечерами по своему обычаю почти ничего не ела. Она ограничилась тонким ломтиком балыка и крошечным кусочком французской булки. Зато Эссен, как и положено здоровому мужчине, расправлялся с ужином за двоих.
В последний год во время его редких наездов домой она каждый раз видела его усталым, но сегодня это было особенно заметно – он непривычно ссутулился, под глазами набухли мешки. Ей показалось, что и седины у него прибавилось. Обрюзг он и постарел… А не так давно, всего восемь лет назад, в порт-артурские времена, он мог фигурой с юношей поспорить, а ведь уже тогда он был капитаном первого ранга, командовал крейсером. Чудеса храбрости творил на своем «Новике». Газеты – те безо всякого окрестили его героем Порт-Артура… Но она плохо представляла себе мужа в служебной обстановке, окруженного грубыми матросами, которые всегда казались ей на одно лицо.
В кабинете зазвонил телефон. Прибежавшая в столовую горничная сказала, что звонит адъютант морского министра.
– Какого черта я понадобился ему в такой час? – недовольно проворчал Эссен. Он бросил скомканную салфетку на стол и быстро прошел в кабинет. Вернулся очень скоро, и адмиральша обратила внимание на то, что муж чем-то озабочен.
– Странно, – сказал он, пожимая плечами. – Просил немедленно приехать в адмиралтейство. Хорошо, что я шофера не отпустил, приказал накормить на кухне… Скажи ему, чтобы шел к автомобилю.
Григорович встретил Эссена в дверях своего огромного, размером с теннисный корт, кабинета, крепко пожал руку.
– Слава богу, что ты в Петербурге оказался. Я уже хотел тебя из Кронштадта по аппарату Юза вызывать.
– А что за спешка, Иван Константинович? Случилось что-то?
– Понимаешь, Николай Оттович, навалилось такое… хуже чем в кошмарном сне. Врагу не пожелаешь… Был у меня только что Белецкий. Ты его знаешь – видный мастер полицейских дел. Сообщил, что прошляпили мы с тобой серьезнейшую беду. Ты не девица, в обморок не упадешь, так что скажу тебе сразу без подготовки: на судах гельсингфорсской эскадры подготовлено восстание.
– Да ты что, шутишь?!
– Хотел бы шутить… Но обстоятельства донельзя серьезны… Иди сюда к карте.
Он подвел Эссена к висящей на стене карте Балтийского моря и, взяв в руки тонкую полированную указку, провел ею от Гельсингфорса к Ревелю, от Ревеля – к Кронштадту, а затем к столице. Со слов Белецкого он рассказал, что именно таков маршрут восставших кораблей в случае успеха. Белецкий уверял, что если не принять немедленных мер завтра, то день спустя успех заговорщиков может быть вполне вероятен. Исполняющий обязанности директора департамента полиции предлагал не позднее чем завтра произвести аресты на кораблях по спискам, которыми располагает Финляндское жандармское управление, изолировав тем самым всех зачинщиков.








