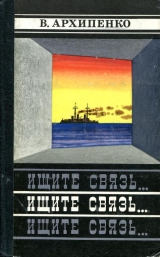
Текст книги "Ищите связь..."
Автор книги: Владимир Архипенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Полгода назад, у старых хозяев, кошка была худющей, грязной и пугливой, но за прошедшее время распушилась, залоснилась, и появилась у нее этакая степенность. Товарищи, иногда заглядывавшие к Думанову после работы, посмеиваясь, говорили, что, видимо, весь свой заработок он тратит на кошачьи разносолы, а сам живет впроголодь и оттого такой тощий да костлявый. Он мягко отшучивался, выставлял бутылку водки и немудреную закуску, хотя сам никогда не пил и лишь пригубливал для приличия.
– Тебе бы, Тимофей, красной девицей родиться, – говорили товарищи, – не пьешь, не гуляешь, все только книжечки почитываешь… вот только что куришь по-мужски.
– Да уж с девицей меня не сравнишь, – с улыбкой возражал Думанов. – Самый обыкновенный бобыль, только прокуренный насквозь.
– Срочно женить тебя надо, Тимофей!
– Э, бесполезно! – махал он рукой. И снова на его лице появлялась добрая, чуть виноватая улыбка.
Когда Думанов улыбался, трудно было поверить в то, что этот человек когда-либо способен рассердиться. И в самом деле, товарищи по работе ни разу не видели, чтобы он гневался, выходил из себя. В любой словесной перепалке, в самых бурных спорах он не перебивал других, не повышал голоса, не злился, если не понимают его. На шутки не обижался. И никто даже не подозревал, что разговоры о женитьбе болью отзывались в нем.
О семье, о детях он мечтал еще тогда, когда был молодым парнем, жил в Москве на Пресне и работал токарем на фабрике Шмидта. А потом, уже во время русско-японской войны, вдруг как-то сразу и до конца понял, что если и будет кто из фабричных девчонок матерью его детей, так это только Маруся – младшая сестренка его сменщика по станку. Тимофей начал встречаться с нею, открыто провожал ее домой, подчеркивая этим всю серьезность своих намерений. Но внезапно накатились, закрутили парня горячие события революции, бросили его на одну из баррикад рабочей Пресни. А потом пришел страшный субботний декабрьский день, когда шальная пуля пробила Марусино горло и как подкошенная упала девушка лицом в почерневший снег. И в тот же самый день другая пуля досталась ему самому. Но он жив, а ее похоронили где-то там, на самом близком от Пресни кладбище – Ваганьковском.
А жизнь после девятьсот пятого пошла такая, что и некогда было на девушек глядеть: ссылка, побег, эмиграция… А главное, был он по натуре однолюбом и никому, кроме Маруси, своего сердца не отдал.
Сегодня утром он опять вспомнил о ней. Да и как было не вспомнить, если сегодня, двадцать первого апреля, будь Маруся жива, ей было бы двадцать восемь лет… Совсем молодая. Ему отчетливо представилось ее решительное разрумянившееся лицо в тот день, когда он видел ее в последний раз. Маруся прибежала тогда к ним на баррикаду у Горбатого моста и рассказала, что от прохоровцев скоро прибудет подкрепление. А потом так же стремительно унеслась по заснеженной улице.
Подкрепления они так и не дождались, и Марусю он больше уже не увидел.
Как всегда, едва Думанов вспомнил о боях на Пресне, у него стала саднить старая рана. Глухая, часто напоминавшая о себе боль таилась в его теле без малого семь лет с того страшного декабрьского времени.
Он подошел к темному стеклу окна, на минуту прикрыл глаза…
До начала работы оставалось еще добрых два часа, но Думанов, как всегда, решил выйти пораньше. Ему нравилось, придя в мастерскую до начала смены, когда в полутемном помещении еще никого не было, осмотреть не спеша станок, лишний раз протереть его, вставить в держатель нужный резец и минуту-другую прогонять станок на холостом ходу, вслушиваясь, как шуршит приводной ремень трансмиссии, дребезжит и постукивает вращающийся вал – станок старенький, но работать на нем вполне можно.
Выйдя из дому, Думанов пошел к трамвайной остановке по безлюдной в этот час улице и все не мог успокоиться – как это можно большому и сильному человеку бить безответного ребенка? А ведь что сделаешь? Колюша прав: забьет его отец, если вмешаешься. И никто заступиться не имеет права. И что тут можно предпринять – ума не приложить.
Так и не придумав толком, чем же можно помочь мальчугану, он дошел до проходной, и тут его остановил невесть откуда-то взявшийся Шотман. В желтом свете уличного фонаря Думанов увидел осунувшееся, встревоженное лицо товарища, и сразу нахлынуло на него ощущение беды.
Шотман увлек за собой, сказав, что на работу идти не надо, и тогда предчувствие беды стало еще острее. Он сразу подумал о том, что местные жандармы вышли на его след, пронюхали о его нелегальном приезде из-за границы. Но действительность, о которой по пути домой поведал ему Александр Васильевич, оказалась куда сложнее – решение матросов начать восстание раньше срока ставило на карту судьбу всего гельсингфорсского подполья, жизни сотен людей. И первый же его вопрос к Шотману был о том, каким же образом можно срочно предупредить Петербургский комитет партии, Русское бюро ЦК?
– Вот в этом-то и вся загвоздка! – сказал Шотман. – Сейчас у нас задачи важнее этой нету. И по решению комитета ехать придется тебе.
Александр Васильевич помолчал, давая товарищу время осознать и продумать неожиданное предложение. Он готов был привести необходимые доводы, рассказать, чем мотивировал комитет свое решение. Но ни о чем этом говорить ему не пришлось. Думанов повернул голову, спокойно, как о чем-то обыденном, спросил, когда надо выезжать.
Шотман объяснил, что связь надо искать через Полетаева – депутата Государственной думы от рабочих и издателя новой рабочей газеты «Правда», которая, судя по объявлениям, днями должна выйти в свет. И как депутат Думы, и как издатель газеты Полетаев общается со многими людьми – главным образом с рабочими петербургских заводов. Конечно, охранка ведет за ним слежку, но следить за всеми, кто приходит к нему, она попросту не в состоянии, и именно поэтому есть самый реальный шанс увидеться с ним, не попав самому под наблюдение.
Сложнее было другое. Совершенно ясно, что Полетаев встретит незнакомого ему человека с недоверием, а к тому же у него надо просить связи с кем-то из работников Петербургского комитета или Русского бюро ЦК. Два года тому назад, когда Александр Васильевич жил еще в Петербурге и Полетаев хорошо знал его под кличкой Горский, они оба попали под слежку опытного филера и долго не могли оторваться от него, пока наконец Шотман не вспомнил, что на Сампсониевском проспекте есть чайная, имеющая второй выход во двор. Воспользовавшись им, они и ушли тогда. Если Думанов передаст привет от Горского и напомнит об этом самом случае, о котором никто из посторонних и знать не мог, Полетаев должен будет поверить, что перед ним свой человек.
– И еще одно, – сказал Шотман. – Я знаю, что у тебя приличного костюма нет. Так я тебе с женой свой перешлю – почти новый совсем. А Тайми обещал дать крахмальную сорочку и галстук. И не возражай – будешь ехать для конспирации не в третьем классе, а в спальном вагоне. Тебе и вид соответствующий надо иметь, а то не ровен час жандармы на пограничной станции Белоостров к тебе привяжутся…
Шотман простился с Думановым неподалеку от парка Тёлё и решил забежать домой, чтобы хоть кофе выпить после бессонной ночи. На работу можно было выйти сегодня попозже, потому что хозяин мастерской был в отъезде и должен был вернуться не раньше чем к обеду.
Александра Васильевича беспокоила одна мысль – помимо товарищей из Питера, надо было уведомить и кронштадтцев о решении гельсингфорсских матросов. В Кронштадте большой гарнизон, Балтийский флотский экипаж, учебные корабли, береговые батареи. Состояние солдат, а в особенности матросов таково, что в любой момент можно ждать взрыва, как в паровом котле, где давление давно перешло допустимые пределы, а предохранительные клапаны уже вышли из строя. Правда, охранка принимала свои меры – число арестованных росло, исчислялось сотнями человек. Со своей стороны, флотское начальство изымало «неблагонадежных», отправляя их в дальние гарнизоны, рассовывая по дисциплинарным командам.
И все равно Кронштадт всегда оставался взрывоопасным. Шотман нисколько не сомневался в том, что матросы и солдаты, узнав о восстании на кораблях, поднимутся тоже. Но лучше будет, если о выступлении эскадры подпольная организация Кронштадта узнает заранее и она сумеет предупредить гарнизон. Но вот каким образом можно выйти на связь с кронштадтцами?
После завтрака, вызванные штурманским электриком, Краухов и Малыхин явились к нему в каюту в сопровождении вестового. Артемьев сидел за маленьким столиком и что-то писал на листке бумаги. На приветствие коротко кивнул головой, сказал, чтобы минутку подождали.
Оба электрика были здесь впервые и теперь с любопытством рассматривали помещение. Может быть, штатский человек увидел бы в этой каюте образец спартанской простоты и непритязательности, но для матросов после их тесного, душного кубрика она казалась просторной. За шторой виднелась прикрытая верблюжьим одеялом койка, у иллюминатора откидной столик, за которым можно работать, в углу умывальник с зеркалом, на переборке полка с книгами, а над нею портрет красивой женщины. Кругом, как на всем корабле, чистота.
Окончив писать, Артемьев сложил листок вчетверо, велел вестовому отнести записку вахтенному офицеру, а потом в раздумье мгновение рассматривал подчиненных.
– Вот что, братцы, – сказал он наконец, – не хочу вникать в то, что там у вас вчера получилось и отчего вы прожекторным лучом в город залезли. Факт нарушения налицо, и наказание вы заслужили. Вместе с тем до завтрашней отправки в Кронштадт вы оба пока еще под моим началом. Так что на сегодняшний день поручаю вам забрать на берегу в лаборатории находящиеся там на проверке два прибора. А еще нужно будет купить в магазине десятиметровый моток шведского провода. Это уже на мои собственные деньги. Скажете писарю, чтобы оформил увольнительную до двадцати трех ноль-ноль.
Электрики покинули каюту в состоянии некоторого удивления. Чтобы выполнить поручение лейтенанта, требовалось от силы часа два, а он отпускает их, в сущности, на весь день и при этом подчеркивает, что своего вчерашнего приказа об отмене увольнения на берег для обоих он не отменяет. Вот и разберись, в чем тут дело? Впрочем, ни у того, ни у другого не было никакого намерения сейчас разбираться в этом. Главное было в том, что они так или иначе получили возможность побывать на берегу. Чуть ли не бегом кинулись в кубрик, чтобы переодеться.
Когда уже готовые – в перепоясанных ремнями шинелях, в одинаково надвинутых на правую бровь бескозырках, в блестевших башмаках, в отутюженных брюках, они подошли к трапу, Краухова вдруг задержал вахтенный офицер, сказав, что пуговицы на шинели несколько потускнели и в таком виде на берег нельзя. У Сергея даже сердце захолонуло – неужели из-за такого пустяка так и не удастся побывать в городе? Он готов был от отчаяния сорваться на крик, но узнал, что через полчаса катер пойдет на пирс вторым рейсом и пока еще есть время привести себя в порядок.
Краухов торопливо условился с Малыхиным о встрече в лаборатории в двенадцать тридцать и помчался обратно в кубрик.
Когда он подошел к трапу вторично, пуговицы сверкали на шинели, как маленькие солнца. Строгий вахтенный даже хмыкнул от удовольствия.
В мастерской на берегу Шотмана не было, как выяснилось, он еще не приходил с утра. И Сергей отправился к нему домой. Проискал дом довольно долго, а найдя, застучал в дверь с такой силой, что сам же испугался – не слишком ли громко получилось.
Дверь отворилась рывком. На пороге стоял Шотман. Увидев, кто к нему пришел, он молча махнул рукой, приглашая войти. И только когда захлопнул дверь, сказал несколько ворчливо:
– Тарабанишь в дверь так, будто целая орава этих…
– Не серчай, Александр Васильевич, – попросил гость, входя в комнату. – Такая штука получилась: усылают меня из Гельсингфорса.
Только сейчас Шотман заметил, что Сергей взволнован.
– А куда усылают-то?
– В Кронштадт, на новый корабль «Император Павел I».
– Куда, куда? – переспросил Шотман. – И когда же?
– Завтра уже на новом месте должен быть.
– Ну, парень, знаешь – это сама судьба тебя ко мне направила. Я сижу голову ломаю, а ты тут как тут! Так вот – садись и слушай. Ты, наверное, помнишь, как к твоему брату Терентию захаживал высоченный парень из пушечной мастерской?
– Костя, что ли?
– Он самый и есть Константин. А сейчас он на этом самом «Павле» служит. Уразумел?
– Да, вполне, – загорелся Сергей. – На новом месте свой человек!
– Именно свой. Это во всех смыслах. Он с тамошним подпольем должен быть связан. Постарайся его на корабле завтра же разыскать и передай от моего имени, что срок восстания переносится к моменту выхода кораблей гельсингфорсской эскадры на учения. Но, кроме него, об этом, смотри, чтобы никто…
– Да что я – не понимаю, что ли? – обиделся Сергей. – Разве я когда…
– Лишний раз предупреждаю. Дело ведь такое… Не дай бог, пронюхают. И еще к тебе дело есть. Как там твои старики – одни сейчас живут?
– Как есть одни!
– Тогда надо будет, чтобы они на пару дней нашего товарища приютили. Петербург он плохо знает, знакомых у него нет, а в гостиницах ему не след останавливаться – замести могут.
– Так что за вопрос, Александр Васильевич!
Думанов глядел на себя в маленькое тусклое зеркало, висевшее на стене, и с трудом прилаживал непривычный галстук. Костюм, который передал ему с женой Шотман, оказался по длине в самый раз, но явно широковат. Ворот сорочки тоже оказался велик – между ним и тонкой думановской шеей свободно можно было просунуть обе ладони. Словом, наблюдательный человек сразу заметит, что одежда с чужого плеча. Может быть, лучше отправиться в своем обычном поношенном костюме? Но тогда в спальный вагон, конечно, нечего соваться – сразу на себя внимание обратишь…
Чем больше он обдумывал предстоящую поездку, тем сложнее она начинала казаться. Даже если переезд границы пройдет благополучно, то в Петербурге будут свои трудности. Поезд прибывает ночью, и где-то надо дожидаться утра, чтобы потом разыскивать в незнакомом городе редакцию газеты. Но хуже всего, если Полетаева почему-либо не окажется на месте.
Мысли его прервал стремительно влетевший в комнату без стука Сергей Краухов. Лицо матроса раскраснелось, глаза возбужденно блестели.
– Уф-ф, – отдуваясь, заговорил он, – ну и бежал я, чтобы дома застать!
Думанов вопросительно смотрел на него.
– Да ничего не случилось, – махнул рукой Сергей, – просто встретил я Александра Васильича и от него узнал, будто ты в Петербург собрался.
– Точно, собрался.
– Потому я и прибег. Сам-то я – питерский, и родители мои там живут. Шотман просил передать, чтобы ты у моих родителей переночевал – самое надежное место. Батя у меня до сих пор еще работает на Путиловском в пушечной мастерской… Очень тебя прошу зайти к нам домой, передай весточку, а еще и поклон от Александра Васильича.
– Да ведь удобно ли, Сергей? – замялся Думанов.
– Еще бы неудобно было! Ночевать тебе где-то надо? Так заночуй у наших. У них сейчас свободно совсем – сам я, как видишь, на флотской службе, братишка Алеша в солдатах служит. Другие братья – Петр и Василий своими семьями обзавелись, живут в другом конце города, а старший наш братан – Терентий – подале всех сейчас. Он ссылку отбывает…
– Да сколько же вас – братьев?
– Пятеро и есть! А еще две сестры – Настя и Люба, но у них тоже свои семьи теперь. Так что сейчас отец и мать в своем домишке вдвоем остались.
– Ишь буржуи! – засмеялся Думанов. – Значит, и дом свой имеете?
– Да какой там дом – название одно! Хибара, да и только! Там за Нарвской заставой таких развалюх – десятки. Но отцовский дом все знают. Дай листок бумаги и карандаш – я нарисую, как от трамвайной остановки пройти.
Думанов внимательно выслушал объяснения. Записывать ничего не стал по старой конспиративной привычке.
– Обидно до слез, – сказал на прощание Краухов, – что в такое время из Гельсингфорса отсылают, что без меня восстание начнется. Так этого часа жду!
– Ничего, – утешил его Думанов, – если все по плану пойдет, так через несколько дней восставшие корабли в Кронштадт придут.
Утром, едва начальник Финляндского жандармского управления полковник Утгоф прибыл в свой кабинет, он первым делом потребовал к себе Шабельского, осведомился, как обстоят дела с рапортом фон Коттену. Заранее ожидавший этого вопроса ротмистр шагнул к столу, положил перед начальником тонкую картонную папку.
– Вот здесь он, извольте ознакомиться, господин полковник.
Он скромно потупил глаза, ожидая, что Утгоф скажет: «похвальная оперативность» или что-то в этом роде. Но полковнику было сейчас не до тонкостей обращения. С утра у него нудно и отвратительно болела печень (не помогли даже карлсбадская соль и грелка), после завтрака его поташнивало. Но свою усилившуюся болезнь он тщательно скрывал от коллег, знал, что с этим народом надо держать ухо востро: того и гляди настрочат в Петербург, намекнут, что не только по возрасту, а уже и по здоровью начальнику управления пора на пенсию. А как раз на пенсию он и не хотел, хотя и знал, что пособие установят ему приличное – он боялся потерять единственное, что ему доставляло глубокую радость в жизни: обладание реальной и большой властью, возможность распоряжаться судьбами людей.
Утгоф сухо кивнул Шабельскому, предложил ему присесть, подождать, пока он ознакомится с текстом. Тот послушно присел на краешек стула, терпеливо приготовился ждать – знал, что начальник будет мусолить текст долго-долго, по нескольку раз перечитывать каждую фразу, и уж если обнаружит запятую не на место, то начнет своим скрипучим голосом объяснять, как тщательно надо готовить документацию.
И действительно, три страницы Утгоф читал чуть ли не полчаса, так что Шабельский успел впасть в тоскливое уныние. Изредка он бросал взгляд на лицо начальника и видел, что тот болезненно морщится. Теперь уже ротмистру вовсе не казалось столь очевидным, как накануне вечером, что текст у него получился удачным. И вообще черт его знает, чего мог углядеть этот желчный старик?
Кончив наконец читать, Утгоф поднял водянистые глаза, поглядел на подчиненного, пожевал тонкими губами.
– В общем-то вы эту штуку удачно написали… но только вот, – сказал он, – не слишком ли вывод здесь категоричный? Ну, насчет того, что на кораблях спокойное состояние и что брожение не будет усиливаться? Вы же видите, ротмистр, что в Петербурге-то делается. Забастовка за забастовкой – такого уж давненько не бывало. А у нас, в Гельсингфорсе, выходит, тишь да гладь?
– Господин полковник! – живо отозвался ротмистр. – Я, конечно же, понимаю, что тишь да гладь в нашем деле не бывает. Но то, что у нас куда спокойнее, чем в столице, – это по всему видно. У нас даже кривая арестов книзу пошла. Да и сообщения агентуры успокаивают – на кораблях все в допустимых рамках, матросы ведут себя в целом спокойно, нервозности в нижних чинах не наблюдается.
– Ох, ротмистр, не нравится мне это флотское спокойствие. Этот флот, между нами говоря, пороховая бочка.
– Но ведь, господин полковник, мы за последние годы сколько превентивных арестов сделали. И как агентурную сеть расширили! Вот результаты-то и сказываются. И мне, например, просто приятно, что именно под вашим руководством финляндское управление добилось таких результатов. Пусть начальство и поглядит – пока у него под носом в столице черт-те что делается, у нас все в законных рамках!
– Ну тут вы, Станислав Казимирович, пожалуй, в целом правы, – поддался на лесть Утгоф, – кое-что мы действительно сделали. Может быть, даже в чем-то и больше, чем другие управления. Рапорт я подпишу в таком виде, как есть. Когда думаете его отправить?
– Сегодня суббота. Может быть, с нарочным завтрашним вечерним поездом? Как раз в понедельник утром пакет будет на месте…
– Э, нет, Станислав Казимирович! Зачем откладывать. Я прослышал о том, что фон Коттен и в воскресные дни в присутствии бывает. Отправьте нынче же с вахмистром Ярыгиным. Пусть едет дневным курьерским. Но только напомните, чтобы утра он не ждал, а сразу же по прибытии отвез пакет и сдал ночному дежурному. А вас лично благодарю за похвальную оперативность.
Шабельский легко поднялся, щелкнул каблуками, сказал почти по-солдатски:
– Рад стараться!
Он и действительно был рад в эту минуту.
СВЯЗНОЙ ГЕЛЬСИНГФОРССКОГО КОМИТЕТА
«Наша газета появляется в тот момент, который справедливо может считаться гранью, разделяющей два периода рабочего движения в России… Рабочее движение перешло грань».
(«Правда» № 1, 22 апреля 1912 г.)
«22 апреля на газету «Правда» наложен арест». «23 апреля на газету «Правда» наложен арест». «24 апреля на газету «Правда» наложен арест».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Из сообщений петербургских газет в апреле 1912 г.)
Состав медленно катил по дамбе через мелководный залив Тёлё. Колеса погромыхивали на стыках рельсов, маленький вагон ощутимо вздрагивал. Прозрачные струйки змеились снаружи по чистому, недавно вымытому оконному стеклу, причудливо искажая перспективу. Из окна видна была тусклая серая поверхность залива и изломанная линия мокрых камней на берегу.
Миновав дамбу, поезд набрал ход, бойко помчал по узкому, вырубленному в скалах узкому ущелью. Темные от влаги косые срезы гранита мелькали почти у самого окна. Состав вынырнул из гранитного коридора, миновал лесистую равнину и снова покатил сквозь скалы. Здесь – между Гельсингфорсом и полустанком Огельбю – железная дорога прорезала один за другим четыре каменных кряжа.
В другое время Думанов, который находился в пути в полном одиночестве, наверняка залюбовался бы суровым ландшафтом. Однако сейчас ему было не до пейзажа. Он сидел, откинувшись на спинку узкого диванчика, смотрел в окно рассеянным взглядом, не улавливая открывавшейся перед ним красоты. Думанов чувствовал себя неловко и стесненно в чужой одежде, хотя костюм был даже просторен, и даже слишком. Жесткий воротник белой накрахмаленной рубашки безбожно царапал шею. Такие сорочки рабочие с усмешкой называли «глаже-манже». Товарищи наскребли денег и купили ему билет в спальный вагон второго класса. Билет в переводе на русские деньги стоил семь с лишком рублей и был попросту не по карману рабочему человеку. Даже мелкие чиновники, учителя гимназий, приказчики обычно пользовались вагонами третьего класса. Но решающую роль сыграло соображение о том, что полиция меньше обращает внимания на пассажиров второго класса.
Думанов расстегнул воротник, ослабил галстук и с улыбкой взглянул на свои пальцы. Хотя он в пяти водах мыл утром руки, не жалея мыла, и скреб пальцы щеткой, заусеницы у основания ногтей так и остались темными. Любой профессиональный сыщик без труда узнает до этому признаку руки рабочего-металлиста…
А откуда могли его руки быть другими, если с одиннадцати лет он имеет дело с металлом – режет, пилит, сверлит, паяет, шлифует, гнет его… Трудные достались ему учителя – пришлось изведать побои, унижения. Но как-то сумел он в суровую для себя пору не озлобиться, не зачерстветь сердцем. И может быть, оттого что собственное его детство было таким нелегким, с особой заботой относился он к мальцам, работавшим учениками.
Но сейчас, в поезде, везущем его в Петербург, Тимофей подумал о себе лишь мельком, его мысль вновь вернулась к заданию, которое возложили на него товарищи, к плану матросского выступления, назначенного на 24 апреля.
План этот был дерзок и смел. Когда берега Финляндии скроются за горизонтом, в назначенный час матросы «Рюрика», «Цесаревича» и «Славы», а за ними и других кораблей нападут на командный состав, вооружившись чем придется. Наиболее ненавистные офицеры полетят за борт, других запрут в каютах, а штурманов силой заставят вести эскадру на Ревель. Стоящие там корабли под угрозой артиллерийского обстрела присоединятся к восставшим, и тогда усиленный отряд вернется к Гельсингфорсу, заставит капитулировать командование Свеаборгской крепости. Обеспечив себе тыл, отряд пойдет к Кронштадту, где матросы наверняка присоединятся к восставшим. И тогда откроется путь на Петербург… Если все пойдет по плану, то под жерлами мощных морских орудий войска столицы вынуждены будут сложить оружие, а правительству ничего не останется больше, как принять все требования восставших.
Прошлой ночью члены подпольного комитета решили, что во время восстания они должны быть на кораблях. Работая в портовых мастерских вместе с другими рабочими, они в последнее время бывали на кораблях, устраняя последние неполадки. Накануне выхода в море, им с помощью матросов предстояло спрятаться в корабельных отсеках, чтобы в час восстания возглавить выступление.
Таков был план. Конечно же, выполнить его будет трудно, наверняка встретятся непредвиденные случайности. Одно было несомненным: если восстание начнется, как намечено, матросов уже не остановишь ничем. Они будут драться до победы или же погибнут. В самом крайнем случае, если удастся поднять только меньшую часть кораблей Балтийского флота, всегда есть возможность уйти от расправы в порты Швеции или Норвегии…
И вот эти-то чрезвычайной важности сведения Думанов вез в Петербургский комитет, который даже не подозревал о том революционном взрыве, который через несколько дней должен был по воле балтийских матросов потрясти всю Россию. Никто из Гельсингфорсского ревкома не посмел доверить эти сведения бумаге, даже прибегнув к шифру. Думанову предстояло передать их устно, при соблюдении строжайших правил конспирации.
В случае ареста он обязан был начисто забыть все то, о чем знал, и вести себя так, чтобы ни одна жандармская ищейка не могла даже учуять, что имеет дело с человеком, имеющим такую информацию.
В Мальме в вагон сел еще один пассажир. Думанов слышал его разговор с кондуктором сквозь неплотно прикрытую дверь в купе. Кондуктор объяснял, что в вагоне полно свободных мест, можно занимать любое. Но пассажира это предложение не устраивало.
– Голубчик, – слышался его тонкий голос, – ну посудите сами: в такую слякотную погоду – ехать одному? Это ж с тоски скиснуть…
– Позалуйста, – отвечал с заметным финским акцентом кондуктор, – могу предложить вам второе купе, где едет один пассазир. Ну, только вы сами смотрите, как вам попутчик показется…
Думанов мгновенно насторожился. Конечно, за просьбой незнакомца могло скрываться вполне естественное желание к общению. Человек просто не любит одиночества. А если это только предлог? А ведь в Гельсингфорсе были приняты все меры предосторожности…
Но думать обо всем этом было уже некогда. В раскрывшуюся дверь купе протиснулся толстый мужчина в темно-сером добротного сукна пальто, черном фетровом котелке и с черным новеньким саквояжем в руке. По покрою и отделке одежды его можно было принять за иностранца, если бы не типично русская физиономия. И маленькие заплывшие глазки, и потерявшийся в жирных складках кожи подбородок, и торчащие, как у кота, усы – все это могло быть в облике любого европейца; но вот утвердившийся меж лоснящихся щек нос картошкой мог принадлежать только соотечественнику.
Вошедший бросил на сиденье саквояж, снял котелок, обнаружив при этом огромную лысину, вытер платком вспотевший, несмотря на прохладную погоду, лоб и, отдуваясь, стащил с себя промокшее пальто. Потом с явным облегчением плюхнулся на мягкое сиденье и только тогда остановил свои маленькие глазки на Думанове.
– Милостивый государь, – сказал он тонким голосом, – вы уж простите меня, ради бога. Я осмелился потревожить ваше одиночество лишь в силу крайней нелюбви к путешествию в одиночестве.
Фразу эту он произнес столь гладко и быстро, словно заранее прорепетировал ее. И тут же добавил:
– Впрочем, если только вы нуждаетесь в одиночестве, я еще раз прошу прощения. На нет, как говорится, суда нет, и в таком случае выражаю полную готовность перейти в соседнее купе.
Про себя Думанов отметил, что это было предложено уже после того, как толстяк повесил пальто и котелок.
– Отчего же… – сказал он, – я совсем не против. Вдвоем действительно веселее путь коротать.
– Это вы совершенно справедливо изволили заметить, – обрадовавшись, заговорил незваный попутчик, – и хорошо, что именно с соотечественником своим. А то ведь, Знаете, коли с местными жителями ехать придется – уставятся на тебя водянистыми главками и молчат как заколдованные… с ума сойти можно! И, понимаете, никогда в толк не возьмешь, отчего эти финны молчат – то ли и впрямь молчаливы, то ли именно с тобой говорить не хотят. Я вот и за границей побывал, а нигде, кроме Финляндии, такого пренебрежения к русскому человеку не встречал… А вы, кстати, по какой части изволите служить?
– Совладелец плавучей мастерской, – коротко ответил Думанов.
– Как же, слышал. Это значит по ремонту судов в Гельсингфорсе. И большое дело у вас?
– Три станка, разметочная плита, семь рабочих да нас двое совладельцев.
Давая этот ответ, он был почти предельно точен. Оборудованная на старом портовом буксире плавучая мастерская, где работал Шотман, именно так и выглядела.
– И какова, простите, прибыль?
– А вот это уже секрет фирмы.
– Понимаю, понимаю. Вы уж не обессудьте за любопытство. Я ведь по профессии любопытен – коммивояжер в компании «Зингер». Швейные машины по всей матушке-Руси распространяем, несем в нашу отечественную глушь европейскую культуру. Платят хорошо… не жалуюсь, но, конечно, в зависимости от того, сколько продашь.
Думанов слушал болтовню назойливого попутчика, что называется, вполуха, а иногда и совсем терял смысл произносимых толстяком слов. Настороженность его постепенно прошла. Непохоже было, чтобы шпик мог так искусно притвориться. Немного смущала манера попутчика неожиданно, в лоб задавать вопросы, но это скорее всего привычка умелого коммивояжера. Повторив мысленно эти доводы, Тимофей успокоился. Он совсем перестал слушать собеседника, невнятно и не к месту отвечал на его редкие вопросы, а потом и вовсе задремал.
Не имея привычки спать сидя, он неожиданно заснул глубоко и спокойно, а проснулся лишь в сумерки, когда поезд подходил к Выборгу. Толстяк все еще был в купе. Увидев, что Думанов смотрит на него, он развел руками.
– Ну и мастак вы спать, – сказал он добродушно, – этак часа четыре кряду в узах Морфея провели. И все небось оттого, что мой рассказ на вас дрему навел. Не обессудьте – болтуном стал… А вот спать в дороге не могу. А вам можно и дальше дремать. А я уже приехал, мне в Выборг надо. А не хотите спать, так я газеточки вам оставлю. Вчерашние, петербургские. Всего хорошего, господин совладелец мастерской. Спасибо за компанию, мне пора выходить.
Ему действительно пора было выходить, потому что поезд уже минуты три как стоял у перрона выборгского вокзала. Лицо толстяка было красным от возбуждения, маленькие глазки сверкали. Бросив «Новое время» на сиденье, он торопливо подхватил саквояж и выбежал из купе.








